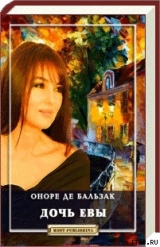
Текст книги "Дочь Евы"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Послушайте, любезный, ваша наглость – слишком высокий процент с тех денег, что я вам должна. Вы мне надоели, пришлите ко мне судебных приставов, – лучше уж видеть их, чем вашу глупую физиономию.
Флорина устраивала веселые обеды, концерты и вечера; гостей всегда собиралось много; за карточными столами шла отчаянная игра. Все ее приятельницы были красивы. Ни одна старая женщина у нее не появлялась: ревность была Флорине незнакома и показалась бы ей самоумалением. Когда-то она знавала Корали, Торпиль, водила дружбу с Туллией, Эфрази, Акилиною, г-жой дю Валь-Нобль, Мариеттой, со всеми женщинами, которые проносятся сквозь Париж, как паутинки бабьим летом на ветру, неизвестно откуда и куда, сегодня королевы, завтра рабыни; с актрисами, своими соперницами, с певицами – словом, со всем этим особым, таким приветливым, таким изящным в своей беспечности женским мирком, цыганская жизнь которого губит тех, кто дает вовлечь себя в неистовый хоровод его страстей, причуд и презрения к будущему. Хотя в доме у Флорины кипела разгульная жизнь богемы, хозяйка головы не теряла и была расчетлива, как никто из ее гостей. Там совершали тайные сатурналии литература и искусства, вперемежку с политикой и финансами; там полновластно царило желание; там сплин и фантазия были священны, как в буржуазном доме – добродетель и честь; там бывали Блонде, Фино, Этьен Лусто – ее седьмой любовник, считавшийся, однако, первым, – фельетонист Фелисьен Верну, Кутюр, Бисиу, в прежнее время – Растиньяк, критик Клод Виньон, банкир Нусинген, банкир дю Тийе, композитор Конти – целый бесовский легион самых свирепых спекулянтов всякого рода, а также друзья певиц, танцовщиц и актрис, приятельниц Флорины. Все эти люди ненавидели или любили друг друга, смотря по обстоятельствам. Этот доступный для всех дом, где принимали каждого, лишь бы он был знаменит, представлял собою как бы вертеп талантов, каторгу умов: прежде чем переступить его порог, надо было стать признанным, добиться удачи, иметь за спиной десять лет нищеты, убить две или три страсти, приобрести известность любым образом, книгами или жилетами, пьесой или красивым экипажем; там замышлялись мерзкие проделки, обсуждались способы успеха, осмеивались вспышки общественных волнений, накануне разожженных, взвешивались шансы повышения и понижения биржевых курсов. Уходя оттуда, всякий облачался снова в ливрею своих убеждений, но в доме Флорины он мог, не компрометируя себя, критиковать собственную партию, признавать за своими противниками достоинства и ловкость в игре, высказывать мысли, в каких никто не сознается, – словом, говорить все, в качестве человека, на все способного. Париж – единственное место в мире, где существуют такие неразборчивые дома, куда в пристойном облачении вхожи любые вкусы, любые пороки, любые взгляды. Неизвестно еще, останется ли Флорина второстепенной актрисой. Жизнь ее, впрочем, – не праздная жизнь, и завидовать ей не приходится. Многие обольщаются великолепным пьедесталом, на который возводит женщину театр, и думают, что она живет в радостях вечного карнавала. Во многих швейцарских, на многих мансардах бедные девушки, вернувшись из театра, мечтают о жемчугах и алмазах, шитых золотом платьях и роскошных ожерельях, видя себя в блистательных головных уборах, воображают, как рукоплещет им толпа, как их задаривают, боготворят, похищают; но никто из них не знает, что в действительности актриса напоминает лошадь на манеже, что она не смеет пропускать репетиции под страхом штрафа, должна читать пьесы, должна постоянно учить новые роли, ибо в наше время в Париже ставится ежегодно от двухсот до трехсот пьес. Во время спектакля Флорина два или три раза меняет костюмы и со сцены зачастую уходит обессиленная, полумертвая. После спектакля ей еще приходится при помощи косметики снимать с лица румяна и белила и «распудриваться», если она играла роль какой-нибудь маркизы XVIII века. Она едва успевает пообедать. Перед спектаклем ей нельзя ни затягиваться, ни есть, ни говорить, да и ужинать нет у нее времени. Вернувшись домой после спектакля, который нынче тянется бесконечно, она должна заняться ночным туалетом и сделать всякие распоряжения. Ложится она часа в два ночи, а вставать должна довольно рано, чтобы повторять роли, заказывать костюмы, объяснять их фасон, примерять, потом завтракать, читать любовные записки, отвечать на них, договариваться с клакерами, чтобы те встречали и провожали ее аплодисментами, оплачивать по их счетам триумфы минувшего месяца, покупать триумфы текущего. Надо думать, что во времена блаженного Генеста, причисленного к лику святых, актера, который выполнял религиозные обязанности и носил власяницу, театр не требовал такой бешеной деятельности. Нередко Флорина бывала вынуждена сказаться больною, чтобы самым добродетельным образом съездить за город и нарвать цветов. Но эти обычные ее занятия еще ничто по сравнению с интригами, которые ей приходится вести с муками уязвленного тщеславия, с предпочтениями драматургов, отданными другой актрисе, с борьбою из-за ролей, с кознями соперниц, с приставаниями партнеров, директоров, журналистов. На все это надо бы иметь еще двадцать четыре часа в сутки. И мы еще ни слова не сказали о театральном искусстве, об изображении страстей, о деталях мимики, о требованиях сцены, где тысячи зрительных трубок открывают пятна на всяком солнце, – о тех задачах, которым посвятили всю свою жизнь, все мысли Тальма, Лекен, Барон, Конта, Клерон, Шанмеле. В преисподней кулис самолюбие не знает пола: успех артиста – мужчины или женщины, безразлично – восстанавливает против него всю труппу – и мужчин и женщин. Что до денежной стороны, то как бы ни было высоко жалованье Флорины, оно не покрывает расходов на театральный гардероб, который, не считая костюмов, требует огромного количества длинных перчаток, обуви и включает в себя вечерние и выходные платья. Треть актерской жизни уходит на попрошайничанье, треть на работу, треть на самозащиту; все в ней требует труда. И если в ней жадно вкушается счастье, то потому лишь, что это редкое, долгожданное счастье словно похищено у нее или случайно найдено среди отвратительных, навязанных удовольствий и посылаемых партеру улыбок. Для Флорины влияние Рауля было как бы щитом: он спасал ее от многих неприятностей, от многих забот, как некогда вельможи покровительствовали своим любовницам, как ныне иной старичок, оберегая свою красавицу, спешит умолить рецензента, напугавшего ее газетной заметкой. Флорина дорожила Раулем больше, чем любовником, она дорожила им как опорой, заботилась о нем, как об отце, обманывала, как мужа, но всем бы для него пожертвовала. Рауль мог сделать все для удовлетворения ее актерского тщеславия, для ее самолюбия, для ее сценической будущности. Без содействия большого писателя нет большой актрисы: Шанмеле создана Расином, как мадемуазель Марс Монвелем и Андрие. Флорина для Рауля не могла сделать ничего, но очень хотела быть ему полезной и необходимой. Она рассчитывала на силу привычки и всегда готова была ради его замыслов открыть свои гостиные для его друзей, предложить им всю роскошь своего стола. Словом, она стремилась быть для него тем, чем была маркиза Помпадур для Людовика XV. Актрисы завидовали положению Флорины, как иные журналисты – положению Рауля.
Те, кому известна склонность человеческой души к противоположностям, поймут теперь, почему после десяти лет этой безалаберной цыганской жизни, полной подъемов и падений, празднеств и описей имущества, постных дней и оргий, Рауля повлекло к целомудренной, чистой любви, к уютному, спокойному дому великосветской женщины, а графине де Ванденес захотелось внести волнения страсти в свое однообразное, слишком счастливое существование. Этому закону жизни подчинены и все искусства, питающиеся только контрастами. Созданное без этого средства произведение представляет собою высшее достижение гения, как затворничество есть высший подвиг христианина, Вернувшись домой, Рауль нашел у себя присланную с горничной записку от Флорины, но неодолимый сон не дал ему прочесть ее: он уснул, отдавшись свежим чарам сладостной любви, которой недоставало его жизни. Спустя несколько часов он узнал из этого письма важные новости, о которых Растиньяк и де Марсе не обмолвились ни словом. Кто-то проболтался актрисе, что палата депутатов будет распущена по окончании сессии. Рауль тотчас же отправился к Флорине и послал за Блонде. В будуаре актрисы Эмиль и Рауль, положив ноги на каминную решетку, проанализировали политическое положение, создавшееся во Франции в 1834 году. На чьей стороне больше шансов? Они перебрали чистых республиканцев; сторонников республики с президентской властью; республиканцев без республики; конституционалистов, противников династии; конституционалистов династических; преданных министерству консерваторов; преданных министерству абсолютистов; далее – правую, согласную на уступки, правую аристократическую, правую легитимистскую – сторонников Генриха V и правую карлистскую. Что до партии Сопротивления и партии Движения, то колебаться между ними не приходилось так же, как между жизнью и смертью.
В ту пору множество газет, представлявших все оттенки, являли картину ужасающей путаницы в политических воззрениях. По словам одного военного, это была настоящая «каша». Блонде, самый трезвый ум того времени, но трезвый только для ближнего своего, а не для себя самого, подобно тем адвокатам, что плохо ведут собственные дела, был великолепен в частных беседах. Он посоветовал Натану не отрекаться от своих убеждений сразу.
– Вспомни, что сказал Наполеон: из старых монархий не сделаешь молодых республик. Поэтому, душа моя, стань героем, опорою, создателем левого центра будущей палаты – и ты преуспеешь в политике. А когда будешь признан, когда будешь членом правительства, можешь быть кем хочешь, можешь разделять любые взгляды, которые поочередно берут верх!
Натан решил основать ежедневную политическую газету, стать в ней полновластным хозяином, пристегнуть к ней одну из мелких газеток, какими кишит парижская пресса, и установить связи с большим ежемесячным журналом. Печать послужила орудием для множества преуспевших людей его среды, и поэтому Натан отверг совет Блонде не втягиваться в газетное дело. Блонде доказывал, что это невыгодное предприятие: слишком много газет оспаривало подписчиков друг у друга, слишком, по его мнению, выдохлась пресса. Рауль, веря в своих мнимых друзей и в свое мужество, отважно бросился в эту затею; он гордо встал и произнес:
– Я добьюсь успеха!
– У тебя нет денег!
– Я напишу драму!
– Ода провалится.
– Ну и пусть провалится, – ответил Натан.
Он быстро обошел всю квартиру Флорины, а следом за ним шагал Блонде и думал, что приятель его рехнулся. Но видя, какими жадными глазами Рауль глядел на богатую обстановку, загромождавшую все комнаты, Блонде понял его – Тут вещей тысяч на сто, а то и больше, – сказал он.
– Да, – со вздохом подтвердил Рауль, остановившись перед роскошной кроватью Флорины, – но я предпочел бы всю жизнь торговать дверными цепочками на бульваре и есть одну только картошку, жаренную на сале, чем продать хотя бы одну розетку от этого занавеса.
– Не одну розетку, а все надо продать! – сказал Блонде. – Честолюбие – как смерть: оно не должно щадить ничего, оно знает, что его пришпоривает жизнь.
– Нет! Ни за что! От вчерашней графини я принял бы все, но лишить Флорину ее раковины!..
– Разгромить ее монетный двор, – продолжал трагическим тоном Блонде, – сломать пресс, разбить штамп – это дело серьезное!
– Насколько я поняла, – сказала появившаяся вдруг Флорина, – ты собираешься заняться политикой вместо театра?
– Да, дитя мое, да, – добродушным тоном ответил Рауль и, обняв ее за шею, поцеловал в лоб. – Ты надула губки? Разве ты на этом прогадаешь? Разве министру не легче, чем журналисту, устроить лучший ангажемент для королевы подмостков? Будут у тебя и роли и гастроли.
– Где ты достанешь деньги? – спросила она.
– У дяди, – ответил Рауль Флорина знала «дядю» Рауля. Это слово означало ростовщика, так же, как «тетка» – на жаргоне бедноты – значит ссудная касса – Не беспокойся, котеночек, – сказал Блонде, похлопывая Флорину по плечам, – я заручусь для него поддержкою Массоля, адвоката, мечтающего, как и все адвокаты, стать министром юстиции, притяну дю Тийе, ибо он метит в депутаты, и Фино, все еще стоящего за кулисами одной газетки, Плантена, который добивайся поста докладчика дел в государственном совете и пописывает в одном журнале Да, я спасу Рауля от него самого. Мы созовем сюда соратников: Этьена Лусто – он возьмет на себя фельетоны; Клода Виньона – ему мы отведем серьезную критику; Фелисьен Верну будет в газете экономкой, адвокату тоже найдется работа; дю Тийе займется биржей и промышленностью, и мы посмотрим, куда приведут объединенные усилия стакнувшихся рабов – На больничную койку или на министерские кресло, куда попадают люди с искалеченным телом или умом, – сказал Рауль – Когда вы им устроите прием?
– Через пять дней, у тебя, – ответил Рауль – Ты мне скажешь, сколько понадобится денег, – заметила просто Флорина – Чтобы двинуться в поход, адвокату, дю Тийе и Раулю надо иметь по сотне тысяч на брата, – заметил Блонде. – Тогда газета продержится полтора года – срок взлета или падения в Париже Флорина выразила одобрение лукавой гримаской. Приятели сели в кабриолет и отправились вербовать гостей, перья, идеи, интересы А красавица-актриса позвала к себе четырех купцов – торговцев мебелью, редкостями, картинами и драгоценностями Люди эти проникли в святилище и составили подробную опись обстановки, как будто Флорина умерла Она пригрозила им устроить аукцион, если они приберегут свою добросовестность для лучшего случая. Она сказала, что недавно понравилась в средневековой роли одному английскому лорду и хочет сбыть все свое движимое имущество, чтобы произвести на поклонника впечатление бедной женщины и получить от него в подарок великолепный особняк, который она обставит почище Ротшильда Как она ни морочила их, они предложили ей только семьдесят тысяч франков за все ее добро, стоившее полтораста тысяч. Флорина, которая нисколько им не дорожила, обещала все уступить через неделю за восемьдесят тысяч.
– Это мое последнее слово, – сказала она Сделка состоялась. После ухода маклаков актриса заплясала от радости, как холмы царя Давида. Она безумствовала, ликовала. Она и не думала, что так богата. Когда Рауль вернулся. Флорина притворилась, будто сердита на него. Сказала, что он хочет ее бросить, что она все поняла: люди не переходят беспричинно из одной партии в другую или из театра в палату, – у нее есть соперница! (Вот что значит инстинкт!) Она заставила его поклясться в вечной любви. Спустя пять дней она задала пир горой. Новую газету окрестили в потоках шампанского и шуток, обетов верности, доброго товарищества и крепкой дружбы. Название ей дали забытое ныне, кончавшееся как-то на «альная», вроде «Либеральная», «Национальная», «Коммунальная», «Федеральная», и сулившее ей участь печальную. Столько уже описано кутежей, отметивших эту фазу литературной жизни и так редко происходивших в мансардах, где сочинители описывали их, что трудно сказать что-нибудь новое о пиршестве у Флорины. Достаточно будет упомянуть, что в три часа ночи Флорина могла раздеться и лечь в постель, словно была в доме одна, хотя никто из гостей не ушел. Эти светочи эпохи спали, мертвецки пьяные. Когда рано утром упаковщики, носильщики, возчики пришли за роскошной обстановкою прославленной актрисы, она покатилась со смеху, увидев, как они поднимают этих знаменитостей, точно тяжелые тюки, и складывают на паркет.
Так уплыли из дома прекрасные вещи. Флорина сослала все свои воспоминания в магазины, и никому из покупателей при виде их не могло прийти в голову, где и как оплачены были эти цветы роскоши. До вечера Флорине оставили, по условию, кровать, а также стол и посуду, чтобы она могла позавтракать с гостями. Уснув под изящным пологом богатства, газетные остроумцы проснулись посреди холодных и оголенных стен нищеты, усеянных дырами от гвоздей, обезображенных отвратительным беспорядком, который скрывается за нарядным убранством, как веревки за оперными декорациями.
– Что это значит? Флорину описали? Бедная девочка! – воскликнул Бисиу, один из сотрапезников. – Раскошеливайтесь, друзья! Устроим складчину!
Тотчас же друзья-собутыльники вскочили на ноги. Очистка карманов дала тридцать семь франков, которые Рауль шутливо преподнес хохотунье. Счастливая куртизанка приподняла с подушки голову и показала на лежавшую под изголовьем кипу банковых билетов, толстую, как в те времена, когда подушки куртизанок могли приносить ежегодно такой доход. Рауль позвал Блонде.
– Я понял, – сказал Блонде. – Плутовка втихомолку распродалась. Умница, дитя мое!
За такой подвиг несколько оставшихся завтракать друзей понесли полуодетую актрису триумфальным шествием в столовую. Адвокат и банкиры ушли. Вечером Флорина имела в театре бурный успех. Слух об ее жертвоприношении распространился в зале.
– Я предпочла бы, чтобы мне рукоплескали за талант, – сказала ей в фойе соперница.
– Желание вполне естественное у артистки, которой покамест рукоплещут за уступчивость, – ответила ей Флорина.
Вечером горничная Флорины устроила ее в квартире Рауля, в пассаже Сандрие. Журналисту предстояло перекочевать в тот дом, где должна была обосноваться его газета.
Такова была соперница безгрешной г-жи де Ванденес. Фантазия Рауля словно кольцом соединяла актрису с графиней; такого же рода страшный узел одна герцогиня рассекла во времена Людовика XV тем, что распорядилась отравить Адриенну Лекуврер, – месть вполне понятная, если подумать о степени оскорбления.
Флорина не могла быть помехой зарождавшейся страсти Рауля. Предвидя денежный недочет в трудном предприятии, которое он затеял, она пожелала уйти в отпуск на полгода. Рауль энергично повел переговоры и добился успеха, чем стал еще дороже Флорине. Обладая практическим здравым смыслом, как крестьянин из лафонтеновой басни, который заботится об обеде, пока вельможи рассуждают, актриса отправилась в провинцию и за границу делать сборы, чтобы поддержать знаменитого человека, пока он будет пробиваться к власти.
Мало художников доныне брались описать любовь, какою она является в высоких сферах, – любовь, полную величия и тайной слабости, страшную тем, что самые глупые, самые пошлые обстоятельства подавляют ее желания, что ее часто убивает усталость. Быть может, здесь удастся обрисовать ее хотя бы беглыми чертами.
На другой же день после бала у леди Дэдлей, следуя программе своих мечтаний, Мари была убеждена, что Рауль ее любит, а Рауль считал себя ее избранником, хотя ни она, ни он не произнесли даже самого робкого слова признания. И несмотря на то, что оба они еще не достигли возраста, когда мужчины и женщины сокращают предварительные переговоры, они быстро шли к развязке. Рауля, пресыщенного наслаждениями, влекло в идеальный мир, а Мари, и не помышлявшая о грехе, не представляла себе, что она может этот идеальный мир покинуть. Поэтому любовь их была на редкость чистой и невинной, но была также на редкость пламенной и упоительной в грезах. Мари находилась во власти идей, достойных рыцарских времен, но перекроенных на вполне современный лад. Войдя в свою роль, она сочла, что отвращение ее мужа к Натану уже не может быть препятствием для ее любви. Чем меньше уважения заслуживал бы Рауль, тем возвышеннее была бы эта любовь. Пылкие речи поэта отозвались у нее не столько в сердце, сколько в душе. От голоса желания проснулось милосердие – царица добродетелей – и чуть ли не освятило в глазах Мари волнения, радости, порывы любви. Ей казалось, что стать для Рауля провидением во плоти – благородный поступок. Как упоительна мысль поддерживать своею белой и слабой рукою колосса, чьих глиняных ног она видеть не желала, заполнить пустоту его жизни, быть тайным творцом его великого будущего, помогать гениальному человеку в борьбе с судьбою и укротить ее, вышивать ему шарф для турнира, добывать ему оружие, дарить ему амулеты против злых чар и бальзам для ран! У женщины, воспитанной, как Мари, религиозной и благородной, как она, любовь могла быть только сладостным милосердием. Этим объяснялась ее смелость. Чистые чувства компрометируют себя с великолепным презрением к обществу, похожим на бесстыдство куртизанки. И едва лишь графиня, обманутая сознанием собственной непогрешимости, уверилась, что не нарушает супружеской верности, она всецело отдалась радости любить своего Рауля. Все мелочи жизни теперь исполнились для нее очарования. Она превратила в святилище будуар, где думала о нем. Все, вплоть до письменного прибора, говорило ее душе о неисчислимых радостях переписки с Раулем: в этой комнате ей предстояло читать, прятать его письма, отвечать на них. Искусство украшать себя нарядами – эта утонченная поэзия женской жизни, исчерпанная или непонятая графинею Ванденес, – приобрело магическую силу, которой она раньше не замечала, и вдруг сделалось для нее тем же, чем оно является для всех женщин, – постоянным выражением сокровенной мысли языком, символом. Сколько наслаждений дает обдуманный наряд, надетый для того, чтобы понравиться ему, чтобы ему сделать честь. Она самым наивным образом предалась этим прелестным мелочам, которые поглощают жизнь парижанки и делают многозначительным все, что вы видите у нее, на ней и в ней. Очень немногие женщины бегают ради самих себя по лавкам шелковых товаров, по модисткам, по модным портнихам. Старухи не думают о нарядах. Когда, прогуливаясь, вы увидите женщину, на миг остановившуюся перед витриной магазина, присмотритесь к ней хорошенько. «Лучше ли я покажусь ему в этом уборе?» – вот что написано на просиявшем ее лице, в блещущих надеждою глазах, в играющей на губах улыбке.
Бал у леди Дэдлей состоялся в субботу вечером; в понедельник Мари поехала в Оперу, подстегиваемая уверенностью, что увидит там Рауля. И точно, Рауль стоял на одной из лестниц, ведущих к рядам амфитеатра. Он опустил глаза, когда графиня вошла в ложу. С каким наслаждением Мари заметила, что ее возлюбленный отнесся тщательно к своему туалету! У него, презирающего законы изящества, волосы были приглажены и все контуры завитков поблескивали от помады; жилет на нем был послушен моде, галстук хорошо завязан, складки на манишке безупречны. Руки, насколько они видны были из-под желтых перчаток, строго предписанных этикетом, казались очень белыми. Рауль скрестил руки на груди, как бы позируя для портрета, совершенно безучастный ко всей зале и полный плохо подавляемого нетерпения. Глаза его, хотя он и опустил их, обращены были, казалось, в сторону обитого красным бархатом барьера, на котором покоилась рука Мари. Феликс сидел в другом углу ложи, спиною к Натану. Догадливая графиня уселась так, чтобы находиться над колонной, к которой прислонился Рауль.
Итак, Мари мгновенно заставила этого даровитого человека изменить своему цинизму в отношении одежды. Всякая женщина, как самая пошлая, так и самая возвышенная, вне себя от восторга, когда видит первое проявление своей власти в одной из таких метаморфоз. Как бы то ни было, измениться – значит объявить себя рабом.
«Они правы, быть понятой – большое счастье», – подумала она, вспомнив слова своих вероломных наставниц.
Скользнув по зале взглядом, который видит все, влюбленные переглянулись. Они поняли друг друга, и оба испытали такое чувство, словно небесная роса освежила их испепеленные ожиданием сердца. «Я целый час провел в аду, но теперь небеса разверзлись», – говорили глаза Натана. «Я знала, что ты здесь, но разве я свободна?» – говорили глаза графини. Воры, шпионы, любовники, дипломаты – словом, все рабы, и только они одни, знают, какие возможности и радости таит взгляд. Одним только им известно, сколько ума, нежности, тонкости, гнева или подлости выражают изменения этого одухотворенного луча света. Рауль почувствовал, что любовь его становится на дыбы под шпорами необходимости, но крепнет при виде препятствий. От ступеньки, на которой он стоял, было каких-нибудь тридцать футов до ложи графини де Ванденес, а уничтожить это расстояние он не мог. Полному бурной энергии человеку, которому до сих пор нетруден бывал переход от желания к удовольствию, эта непреодолимая, хоть и узкая бездна внушала охоту перенестись к графине прыжком тигра. В припадке ярости Рауль попытался прощупать почву: он открыто отвесил графине поклон. Та ответила легким, презрительным кивком, каким женщины лишают своих поклонников всякой предприимчивости. Граф Феликс обернулся, чтобы поглядеть, кто кланяется его жене. Заметив Натана, он не поклонился ему, принял такой вид, словно удивляется его смелости, и, медленно повернувшись, сказал несколько слов, очевидно, одобряя напускное пренебрежение графини. Ясно было, что дверь ложи закрыта для Натана, и он метнул в графа Феликса ужасный взгляд. То был взгляд, о котором Флорина однажды отпустила такое словцо: «Послушай, не прожги своей шляпы!» Маркиза д'Эспар, одна из самых дерзких женщин того времени, все видела из своей ложи; она внятно и равнодушно бросила: «Браво!..» Рауль, над которым она находилась, обратил взгляд в ее сторону и поклонился. Ответом ему была любезная улыбка, так ясно говорившая: «Если вас гонят оттуда, идите сюда!» – что Рауль покинул свою колонну и отправился с визитом к маркизе. Ему надо было там появиться, чтобы показать этому наглому господину Ванденесу, что слава стоит знатности и что перед Натаном раскрываются все двери, украшенные гербами. Маркиза усадила его против себя, впереди. Ей хотелось его помучить.
– Как восхитительна сегодня графиня Ванденес, – сказала она, поздравляя его с этим обстоятельством, словно речь шла о его новой книге.
– Да, – холодно ответил Рауль, – перья марабу ей удивительно к лицу. Но она им слишком верна; она и третьего дня была в этом уборе, – прибавил он непринужденно, чтобы критическим отзывом опровергнуть сладостное сообщничество, в котором его уличала маркиза.
– Знаете пословицу: «Хорош праздник сегодня, если продлится и завтра», – ответила она.
По части реплик литературные знаменитости не всегда так сильны, как маркизы. Рауль решил прикинуться дурачком – таково последнее средство умных людей.
– Эта пословица ко мне применима, – сказал он, влюбленно глядя на маркизу.
– Милый мой, ответ ваш так запоздал, что я не могу его принять, – ответила она, смеясь, – Не притворяйтесь; послушайте, вчера под утро, на балу, вы нашли графиню Ванденес очаровательной в этом уборе; она это знает, и она его снова надела для вас. Она вас любит, вы ее обожаете; все произошло довольно стремительно, но, по-моему, это вполне естественно. Если бы я ошибалась, вы не комкали бы свою перчатку, вас бесит необходимость сидеть со мною, а не в ложе своего кумира, куда вас не допустила надменность светской дамы, и слушать, как вам шепотом говорят то, что могло бы быть сказано полным голосом.
Рауль действительно терзал одну из своих перчаток, показывая удивительно чистую руку.
– Мари удостоилась жертв, – продолжала маркиза, пристально и самым дерзким образом глядя на эту руку, – которых вы до сих пор не приносили обществу. Должно быть, она в восхищении от своего успеха и, наверно, возгордится немного; но я бы на ее месте еще больше возгордилась. Мари была всего лишь блестящей женщиной, а теперь прослывет гениальной. Вы нам опишете ее в каком-нибудь прелестном романе, – они вам так удаются. Милый друг, не забудьте в нем и Ванденеса, сделайте это для меня. Право же, он слишком самоуверен. Я бы не простила такого сияющего вида даже Юпитеру Олимпийскому – единственному богу в мифологии, застрахованному, как говорят, от несчастных случаев.
– Маркиза, – воскликнул Рауль, – каким же низким человеком вы меня считаете, если думаете, что я способен торговать своими ощущениями, своею любовью! Такой литературной подлости я предпочел бы английский обычай накинуть веревку на шею женщине и потащить ее на торжище.
– Но я знаю Мари, она сама вас об этом попросит.
– Она на это не способна, – пылко произнес Рауль.
– Вы, стало быть, хорошо ее знаете? Натан рассмеялся над самим собою, – автор комедий попался на удочку комедийного приема.
– Пьеса уже идет не там, – сказал он, указывая на рампу, – а у вас.
Он взял зрительную трубку и, приличия ради, принялся рассматривать залу.
– Вы на меня сердитесь? – спросила маркиза, искоса глядя на него. – Разве я и без того не узнала бы вашей тайны? Мы легко заключим мир. Приходите ко мне, я принимаю каждую среду; графиня не пропустит ни одного моего вечера, стоит ей вас там увидеть. Я на этом выиграю. Иногда она меня навещает в пятом часу дня. По доброте своей я зачислю и вас в небольшой список фаворитов, которых принимаю в этот час.
– Но поглядите, какое свет! – сказал Рауль. – Мне говорили, что вы злая, – Иногда приходится быть злой, – ответила она. – Надо защищаться, не так ли? Но вашу графиню я обожаю; вы будете счастливы, она так мила. Вы будете первым, чье имя она запечатлеет в своем сердце с тою детской радостью, которая побуждает всех влюбленных, даже капралов, вырезать свои инициалы на коре деревьев. Первая любовь женщины упоительна. Позже, видите ли, наши ласки, наши заботы отдают искусством. Старая женщина, как я, может все сказать, она уже ничего не боится, даже журналиста. Знайте же, в зрелом возрасте мы умеем давать вам счастье; но в молодости, когда мы любим впервые, то вкушаем счастье и поэтому доставляем вашей гордости множество удовольствий. Все для вас тогда восхитительная неожиданность, наше сердце полно наивности Вы настолько поэт, что должны предпочитать цветы плодам. Посмотрим, что вы скажете через полгода, Рауль, как все преступники, избрал тактику отрицания; но это означало дать оружие в руки страшной воительницы. Он быстро запутался в петлях самой остроумной, самой опасной из тех бесед, в которых так сильны парижанки, и побоялся выдать себя невольным признанием, которым бы маркиза немедленно воспользовалась для своих насмешек; увидев леди Дэдлей, входившую в ложу, он благоразумно откланялся.
– Ну как? – спросила маркизу англичанка. – Далеко ли они зашли?
– Они без ума друг от друга. Натан мне это только что сказал, – Мне бы хотелось, чтобы он был безобразнее, – ответила леди Дэдлей, кинув на графа Феликса взгляд ехидны. – Впрочем, он именно то, чего я хотела: он сын еврея-антиквара, который вскоре после женитьбы обанкротился и умер, но мать его была католичка и, к сожалению, окрестила его.








