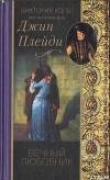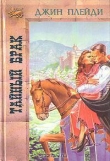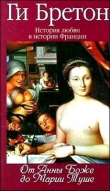Текст книги "Старая дева"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– И вот что из этого вышло, – сказал шевалье, указывая на Атаназа. – Виданное ли дело в мое время, чтобы молодой человек стыдился взглянуть на хорошенькую женщину! А он на вас глаз не подымает! Я тревожусь за этого юнца, потому что отношусь к нему с участием. Предупредите его, чтобы он перестал строить козни заодно с бонапартистами, как сейчас, когда он хлопочет о зрительном зале; пусть откажется вся эта мелюзга от своих бунтарских требований (потому что для меня конституционалист и бунтарь – синонимы!) – тогда городские власти сами выстроят театр. И еще посоветуйте его матушке получше присматривать за ним.
– О! Она запретит ему водить знакомство с этими людьми на половинном жалованье и бывать в дурной компании. Я сейчас поговорю с ним, – сказала мадемуазель Кормон, – иначе он того и гляди потеряет место в мэрии. А чем они тогда будут жить?.. Страшно подумать!
Как Талейран говорил вслух о своей жене, так шевалье подумал, глядя на мадемуазель Кормон: «Второй такой дуры во всем свете не сыщешь! Честное слово дворянина! Добродетель, доходящая до глупости, тот же порок! Но какая прелестная жена для человека моих лет! Какие правила! Какое неведение!»
Вы, конечно, сами понимаете, что этот монолог, обращенный к княгине Горице, сопровождался приготовлением очередной понюшки.
Госпожа Грансон догадалась, что шевалье ведет разговор об Атаназе. Торопясь узнать результаты этой беседы, она на приличном расстоянии в шесть шагов следовала за мадемуазель Кормон, которая направилась к молодому человеку. Но в эту минуту Жаклен пришел доложить, что кушать подано. Старая дева взглядом подозвала к себе шевалье. Галантный чиновник опекунского совета, который стал усматривать в обращении старого аристократа заносчивость, ибо в ту пору провинциальное дворянство уже возводило перегородку между собой и буржуазией, был очень рад опередить шевалье де Валуа; он оказался поблизости от мадемуазель Кормон и округлил руку, которую та и вынуждена была принять. Шевалье из дипломатических соображений бросился к г-же Грансон.
– Мадемуазель Кормон принимает живейшее участие в вашем милом Атаназе, сударыня, – заговорил он, медленно выступая позади вереницы гостей, – но это участие разлетится в прах по вине вашего сына; он неверующий, он либерал, он из кожи лезет из-за этого театра, знается с бонапартистами и сочувствует священнику-конституционалисту. Из-за такого поведения он может лишиться должности в мэрии. Вы же знаете, как придирчиво правительство короля. А если его уволят, где ваш дорогой Атаназ найдет себе другую службу? Смотрите, как бы он не уронил себя в глазах начальства!
– Я вам так признательна, сударь, – в тревоге проговорила бедная мать. – Вы правы, мой сын одурачен опасной шайкой, мне нужно немедленно открыть ему глаза.
Шевалье уже давным-давно, с первого взгляда, постиг душу Атаназа и распознал по некоторым признакам, как стойки его республиканские идеи, во имя которых готовы всем пожертвовать молодые люди его лет, увлеченные словом вольность, весьма неопределенным, весьма неясным, но являющимся для униженных знаменем восстания, – а восстание для них означает месть. Атаназ не мог не сохранять твердости в своей вере, ибо убеждения его исходили из страданий художника, из горестных наблюдений над социальным строем. Он не ведал, что в тридцать шесть лет, когда уже складывается мнение о людях, об их взаимоотношениях, о социальных нуждах, – в эту пору жизни убеждения, ради которых он теперь жертвовал всем своим будущим, должны были у него измениться, как это происходит с каждым человеком подлинно высокого ума. В Алансоне сохранять верность левым идеям означало вызвать неприязнь мадемуазель Кормон. Уж это г-н шевалье ясно понимал. Итак, алансонское общество, с виду такое мирное, внутри клокотало, под стать дипломатическим кругам, где хитрость, изворотливость, страсти, корыстолюбивые расчеты сосредоточиваются около важнейших вопросов международной политики.
Но вот гости стали усаживаться за стол, уставленный закусками, и принялись есть, как едят в провинции – не стыдясь своего аппетита, – а не так, как едят в Париже, где движение челюстей подчиняется неким особым законам, пытающимся действовать вопреки законам анатомии. Едят в Париже словно нехотя, там люди обманывают свое чревоугодие; в провинции же все делается естественно, и смысл жизни, быть может даже сверх меры, сосредоточен здесь на том великом и всеобщем деле насыщения желудков, на которое господь бог осудил свои творения. Когда с первой переменой было почти покончено, хозяйка дома бросила пресловутую реплику, о которой потом говорилось два с лишним года, – да она вспоминается и поныне в гостиных у мелких буржуа Алансона, если речь заходит о замужестве девицы Кормон. Когда повели атаку на предпоследнее жаркое, беседа стала весьма многословной, оживленной и, естественно, коснулась театра и священника, давшего присягу конституции. На первых порах, в 1816 году, те, кого позднее прозвали местными иезуитами, в своем ревностном служении роялизму хотели изгнать аббата Франсуа из его прихода. Дю Букье, обвиняемый г-ном де Валуа в том, что он поддерживает священника, что он – зачинщик всех козней, которые благородный шевалье готов был свалить на него с присущей ему ловкостью, – оказался на скамье подсудимых без защитника. Один лишь Атаназ был настолько прямодушен, что мог бы поддержать дю Букье, но он из скромности не решался излагать свои убеждения перед властелинами Алансона, хотя и считал их глупцами. Только в провинции еще встречаются молодые люди, которые соблюдают почтительность по отношению к пожилым людям, не позволяя себе ни восставать против них, ни перечить им. Беседа вдруг замерла, ибо на стол были поданы отменные утки с оливками. Мадемуазель Кормон, желая посоперничать со своими собственными утками, вздумала взять под защиту дю Букье, которого изобразили как гнусного интригана, способного перевернуть все вверх дном, и молвила:
– А я-то воображала, что господин дю Букье занят одним лишь ребячеством.
Замечание мадемуазель Кормон при создавшемся положении произвело действие удивительное. Она одержала полную победу – заставила княгиню Горицу уткнуться носом в стол. Шевалье, не ожидавший от своей Дульцинеи такого остроумия, пришел в восхищение и даже не сразу придумал похвалу, он бесшумно аплодировал кончиками пальцев, как принято рукоплескать в Итальянской опере.
– Она удивительно остроумна, – сказал он г-же Грансон. – Я всегда утверждал, что придет день и она покажет себя.
– А в интимной обстановке она просто обворожительна, – отвечала г-жа Грансон.
– В интимной обстановке, сударыня, все женщины умны, – заметил шевалье.
Когда взрыв гомерического хохота утих, мадемуазель Кормон захотела узнать, в чем же причина ее успеха. И тут-то хор сплетен зазвучал во всю мощь. Дю Букье превратили в матушку Жигонь[29]29
Матушка Жигонь – один из персонажей французского марионеточного театра; обычно появляется в окружении своих многочисленных маленьких детей.
[Закрыть] мужского рода, в холостяка-чудовище, который-де вот уже пятнадцать лет самолично содержит воспитательный дом, целиком пополняемый его потомством. Наконец-то обнаружилось все безнравственное поведение поставщика. Оно было под стать его парижскому разгулу, и прочее, и прочее. Увертюра под управлением де Валуа – самого искусного дирижера в подобном оркестре – была великолепна.
– Не знаю, право, – с добродушнейшим видом сказал шевалье, – кто бы мог помешать этому дю Букье жениться на некоей мадемуазель Сюзанне Как-Ее-Там? Ведь вы говорите, ее зовут Сюзета? Правда, я живу у госпожи Лардо, но знаю этих девчонок лишь в лицо. Ежели эта Сюзон и есть та высокая стройная красотка с серыми глазами и маленькими ножками, у которой походка (хоть я, признаться, особенно не разглядывал) показалась мне весьма вызывающей, то, надо сказать, ее манеры гораздо изысканнее, чем у дю Букье. В Сюзанне есть по крайней мере благородство красоты; подобный брак в этом смысле был бы для нее мезальянсом. Знаете ли вы, что, когда император Иосиф возымел желание увидеть дю Барри в Люсьенне, он предложил ей пройтись под руку; бедная девица, пораженная такой честью, не решалась принять его руку, но император сказал ей: «Красавица – всюду королева». Заметьте, это был австрийский немец, – добавил шевалье, – и поверьте мне, Германия, слывущая у нас совсем неотесанной, на самом деле – страна рыцарского обхождения и прекраснейших манер, особенно поближе к Польше и Венгрии, где можно встретить...
Тут шевалье внезапно умолк, боясь слишком прямо намекать на свое личное счастье. Он только взял табакерку и поверил конец анекдота княгине, улыбавшейся ему целых тридцать шесть лет.
– Для Людовика Пятнадцатого это было слишком тонко, – сказал дю Ронсере.
– Да ведь как будто речь шла об императоре Иосифе, – возразила мадемуазель Кормон тоном сведущего человека.
– Видите ли, сударыня, – ответил шевалье, перехватив лукавые взгляды, которыми обменялись председатель суда, нотариус и член опекунского совета, – госпожа дю Барри была Сюзанной для Людовика Пятнадцатого, обстоятельство, которое хорошо знают такие вертопрахи, как мы, но не должны знать молодые девицы. Ваше неведенье доказывает, что вы бриллиант чистейшей воды: рассказы о пороках исторических лиц прошли мимо ваших ушей.
Аббат де Спонд ласково взглянул на шевалье де Валуа и одобрительно наклонил голову.
– Разве мадемуазель не знакома с историей? – спросил чиновник опекунского совета.
– Вы припутываете Сюзанну к Людовику Пятнадцатому и еще хотите, чтобы я знала вашу историю, – отвечала кротким тоном мадемуазель Кормон, испытывая истинное наслаждение оттого, что блюда с утками были опустошены и гости так оживленно беседовали, а при последних словах хозяйки все смеялись с набитыми ртами.
– Бедное создание! – проговорил аббат де Спонд. – Если стряслась беда, то милосердие, – а эта божественная любовь столь же слепа, как и любовь языческая, – должно закрывать глаза на вину. Вы, племянница, стоите во главе Общества вспомоществования матерям, надобно помочь этой девушке, ведь ей будет нелегко найти себе мужа.
– Жалко ребенка! – произнесла мадемуазель Кормон.
– Как по-вашему, женится на ней дю Букье? – спросил председатель суда.
– Был бы он порядочным человеком, женился бы, – ответила г-жа Грансон, – но, право же, мой пес гораздо нравственнее
– Ну, я думаю, ваш Азор ему не уступит, – с гонкой улыбкой вставил чиновник опекунского совета, желая блеснуть остроумием.
За десертом все еще говорили о дю Букье, сыпали шутками, которым вино придало игривость. Каждый гость, подзадоренный опекунским чиновником, отвечал на каламбур каламбуром. Говорили, что теперь па-пеньку потреплют, что довольно блаженствовал па-паша в своем гареме, теперь па-пулей вылетит из порядочного общества, что уж слишком подобные па-почки распустились, что па-пашенька плодородием никому не удружит; что дю Букье, попав в папки, попадет в переплет.
– В чаду любви плотской пребывая, помнит ли о чадолюбии? Сомнительно, – сказал аббат де Спонд серьезным тоном, так что все сразу перестали смеяться.
– Да, на роли благородных отцов он не подходит, – поддержал шевалье де Валуа.
Церковь и дворянство снизошли до арены каламбуров, сохраняя все свое достоинство.
– Тсс! – произнес опекунский чиновник. – Слышите, дю Букье скрипит своими сапогами с отворотами, что нынче нам особенно отвратительно слышать.
Почти всегда случается, что человек и не догадывается о своей дурной славе; весь город занят им, на него клевещут, имя его позорят, но если у него нет друзей, он так ничего и не узнает. И невинный дю Букье, дю Букье, которому так хотелось быть виновником нежданного события, который только и мечтал о том, чтобы Сюзанна не солгала, дю Букье был бесподобен в своем неведении; никто и не обмолвился о том, что Сюзанна обличила его, и каждый к тому же считал неудобным спрашивать его о таком щепетильном деле, ибо человек, которого это касается, иной раз вынужден молчать и хранить тайну. Но все усмотрели что-то непристойное и даже вызывающее в самом появлении дю Букье, вошедшего в тот миг, когда все общество перешло пить кофе из столовой в гостиную, где уже собралось несколько вечерних гостей.
Мадемуазель Кормон, смешавшись, не решалась взглянуть на страшного обольстителя; она завладела Атаназом и принялась поучать его добронравию, излагая ему нелепейшие общие места роялистской политики и религиозной морали. У бедного поэта не было, как у шевалье де Валуа, табакерки, украшенной портретом княгини, ему негде было укрыться от потока глупостей, и он, с тупым видом внимая той, кого боготворил, взирал на ее огромный бюст, дышавший невозмутимым покоем, который присущ всему необъятному. Страсть пьянила юношу и превращала пискливый голосок старой девы в сладостный шепот, а ее глупые рассуждения – в глубокомысленные речи.
Любовь – это удивительный фальшивомонетчик, постоянно превращающий не только медяки в золото, но нередко и золото в медяки.
– Итак, Атаназ, вы мне обещаете?
Эти заключительные слова поразили слух счастливого молодого человека, как пробуждает нас внезапный шум.
– Что обещаю, мадемуазель? – переспросил он.
Мадемуазель Кормон порывисто встала, глядя на дю Букье, напоминавшего в тот миг толстого бога торговли, которого Республика изображала на своих серебряных монетах[30]30
...бог торговли, которого Республика изображала на своих серебряных монетах... – На серебряных франках времен Республики был изображен Гермес; в античной мифологии Гермес считался покровителем торговли.
[Закрыть]; она подошла к г-же Грансон и шепнула ей:
– Бедный друг, а ведь ваш сын просто бестолков. Лицей погубил его, – добавила она, вспомнив, что шевалье де Валуа распространялся о дурном воспитании лицеистов.
Какой громовой удар! Бедный Анатаз, сам того не зная, мог разжечь пламя в сердце старой девы; если бы он прислушивался к ее словам, то заставил бы ее понять его страсть, ибо мадемуазель Кормон пребывала в том взволнованном состоянии, когда достаточно одного слова, но до глупости жадные желания, свойственные молодой и истинной любви, погубили его; так порою, по неведению, убивает себя дитя, полное жизни.
– Что ты сказал мадемуазель Кормон? – спросила госпожа Грансон у сына.
– Ничего.
«Ничего? Это я выясню!» – подумала она, откладывая на завтра все важные дела, ибо, в своей уверенности, что дю Букье пал в глазах старой девы, не придала значения ее словам.
Вскоре шестнадцать игроков заняли свои места за четырьмя столами. Четверо гостей избрали пикет, игру самую большую и рискованную. Г-н Шенель, прокурор и две дамы отправились в красный лаковый кабинет сыграть партию в триктрак. Были зажжены канделябры; общество мадемуазель Кормон, расположившееся у камина в креслах, вокруг столов, все разрасталось с каждой вновь прибывавшей четой, которая неизменно спрашивала мадемуазель Кормон:
– Итак, завтра вы уезжаете в Пребоде?
– Что поделаешь – нужно! – следовал ответ.
По всему было видно, что хозяйка дома чем-то озабочена. Г-жа Грансон первая заметила необычное состояние старой девы: мадемуазель Кормон размышляла.
– О чем вы думаете, кузина? – наконец спросила она, входя в будуар, где сидела мадемуазель Кормон.
– У меня из ума не идет эта бедная девушка, – ответила она. – Я не я буду, если, как председательница Общества вспомоществования матерям, не потребую у вас для нее десять экю!
– Десять экю! – воскликнула г-жа Грансон. – Но вы же никогда столько не давали!
– Но, милая моя, так естественно иметь детей!
Эти безнравственные слова, сказанные от всего сердца, ошеломили казначею Общества вспомоществования матерям. По-видимому, дю Букье вырос в глазах мадемуазель Кормон.
– Поистине, дю Букье не только изверг, но и подлец, – сказала г-жа Грансон. – Сумел причинить зло, сумей расплатиться. Его дело, а не наше помочь этой девчонке, которая при всем том кажется мне большой негодяйкой, ибо в Алансоне можно было найти получше этого циника дю Букье! Нужно быть очень распутной, чтобы завести с ним шашни.
– Циник? Вы, моя дорогая, переняли у вашего сына все эти непонятные латинские слова. Конечно, я не собираюсь оправдывать господина дю Букье, но объясните мне, в чем тут распутство, если женщина предпочла одного мужчину другому?
– Дорогая кузина, допустим, вы бы вышли за моего сына Атаназа, что было бы вполне естественно, так как он молод, хорош собой, подает надежды, он прославит Алансон. А все бы попросту решили, что вы взяли себе такого молодого мужа для полноты счастья; злые языки болтали бы, что вы заготовили свое счастье впрок, чтобы никогда не иметь в нем недостатка; вероятно, нашлись бы завистницы, которые обвинили бы вас в развращенности. Эка важность! Вы были бы сильно и искренне любимы. Атаназ кажется вам бестолковым потому, моя дорогая, что у него избыток ума; крайности сходятся. Что правда – то правда, он живет как пятнадцатилетняя девочка: уж он-то не испачкался в парижской грязи!.. Ну что ж! Примените к другим ту же пропорцию, как говаривал мой бедный муж: точно так обстоит дело между дю Букье и Сюзанной; только то, что в отношении вас было бы клеветой, в отношении дю Букье – сама истина. Вы понимаете?
– Не больше, чем китайскую грамоту, – ответила мадемуазель Кормон, широко раскрыв глаза и напрягая все силы своего разума.
– Так вот, кузина, раз уж приходится ставить точки над i, скажу вам, что Сюзанна не может любить дю Букье. А если сердце ни при чем в подобном деле...
– Но, кузина, как же любить, если не сердцем?
Тут г-жа Грансон мысленно сказала то, что думал шевалье де Валуа: «Бедненькая кузина непозволительно глупа».
– Дорогое дитя, – продолжала она вслух, – мне кажется, для того чтобы рожать детей, мало одной только духовной любви.
– Как же, моя дорогая, ведь и пресвятая дева...
– Но, милочка, дю Букье не святой дух!
– Правда, – согласилась старая дева, – он мужчина! И мужчина такого типа, что друзья из предосторожности должны заставить его жениться.
– Вы можете, кузина, добиться этого...
– Ну! Каким образом? – произнесла старая дева с жаром христианской любви к ближнему.
– Не принимайте его у себя до тех пор, пока он не женится; в данном случае ваш долг, во имя благопристойности и благочестия, подать пример порицания.
– По приезде из Пребоде я еще с вами об этом потолкую, дорогая моя госпожа Грансон. Надо посоветоваться с дядюшкой и с аббатом Кутюрье, – сказала мадемуазель Кормон, выходя в гостиную, где оживление достигло высшего предела.
Яркий свет, нарядные женщины, торжественный тон, внушительный вид этого собрания, весь его аристократический блеск преисполняли мадемуазель Кормон гордостью не в меньшей степени, чем ее гостей. Многие считали, что ничего лучшего не увидишь и в Париже, в самых избранных кругах. Тем временем дю Букье, который играл в вист с г-ном де Валуа и двумя престарелыми дамами, г-жой дю Кудре и г-жой дю Ронсере, служил предметом скрытого любопытства. Несколько молодых женщин, притворяясь, что интересуются игрой, поглядывали на него, правда, украдкой, но так странно, что старый холостяк в конце концов встревожился, не допустил ли он какой-либо оплошности в своем туалете.
«Не сдвинулся ли у меня парик?» – подумал он, испытывая одну из тех смертельных тревог, которые терзают старых холостяков.
Он воспользовался своим проигрышем, закончившим седьмой роббер, чтобы встать из-за стола.
– Я не могу взять ни одной карты в руки, не потерпев неудачи, – сказал он, – мне решительно не везет в игре.
– Вам везет в другом, – сказал шевалье, бросая на него лукавый взгляд.
Разумеется, это словцо местного Талейрана обежало гостиную, где каждый вслух восхищался тонким остроумием шевалье.
– Находчивее господина де Валуа не сыскать, – сказала племянница кюре церкви св. Леонарда.
Дю Букье пошел посмотреться в продолговатое зеркальце над «Дезертиром» и не нашел в своем отражении ничего из ряда вон выходящего. После бесчисленных повторений все той же темы, видоизменяемой на все лады, около десяти часов произошло отплытие из длинной, как пристань, прихожей; не обошлось без проводов, устроенных мадемуазель Кормон для своих любимцев, с которыми она на прощанье целовалась на крыльце. Расходились группами – одни по Бретонской дороге и в направлении к замку, другие – в сторону квартала, выходящего на берег Сарты. Обычно тогда начинались разговоры, вот уже двадцать лет раздававшиеся в этот час на этой улице. Обычно тогда звучали все одни и те же слова: – У мадемуазель Кормон нынче вечером был прекрасный вид. – У мадемуазель Кормон? Она показалась мне странной. – Как дряхлеет этот бедный аббат! Вы заметили – он все дремлет? Он уже не знает, где его карты, он стал забывчив. Скоро нам придется, увы, потерять его. – Прекрасная погода, завтра будет хороший день! Чудесные стоят дни для отцветающих яблонь. – Вы нас обыграли, как всегда, когда вместе с вами играет господин де Валуа. – Сколько же он выиграл? – За сегодняшний вечер – три или четыре франка. Он никогда не проигрывает. – Да, да. А не забудьте, что в году триста шестьдесят пять дней. Этак можно выиграть на покупку целой фермы. – Ах! Как нам пришлось отбиваться сегодня! – Вам позавидуешь, господа, вы уже дома, а нам надо пройти еще полгорода. – Мне вас не жалко, вы в состоянии завести одноколку, а ходите пешком. – Ах, сударь! Приданое дочери отнимает у нас одно колесо, содержание сына в Париже – другое. – Вы по-прежнему готовите его в чиновники? – К чему же надобно, по-вашему, готовить молодых людей?.. И потом, служить королю не зазорно.
Порой в дороге шли толки о сидре или льне, постоянно в одних и тех же словах и в одно и то же время года. Живи на этой улице какой-нибудь наблюдатель сердца человеческого, он по этим разговорам всегда узнавал бы, какой наступил месяц.
Но в этот вечер раздавались только игривые шутки, потому что дю Букье, одиноко шагавший впереди других, напевал, не подозревая, насколько это выходило кстати, знаменитую арию: «О нежный друг, ты слышишь детский лепет?..» По мнению многих, г-н дю Букье был человеком дельным, которого не оценили. С тех пор как новым королевским постановлением дю Ронсере был утвержден на посту председателя суда, он все больше тяготел к дю Букье. По мнению других, поставщик был человеком опасным, безнравственным, способным на все. В провинции, как и в Париже, тот, кто на виду, подобен статуе из прекрасной аллегорической сказки Аддисона[31]31
Аддисон, Джозеф (1672—1719) – английский писатель-просветитель.
[Закрыть]: два рыцаря, съехавшиеся с разных сторон на перекресток, где высится эта статуя, сшиблись из-за нее, ибо один говорил, что она белая, другой считал ее черной; когда же они оба, уже поверженные наземь, видят, что она белая справа и черная слева, к ним на помощь является третий и находит, что она красная.
Возвращаясь домой, шевалье де Валуа размышлял: «Пора распустить слух о моей женитьбе на мадемуазель Кормон. Сведения эти распространятся из салона д'Эгриньонов, проникнут прямым путем на улицу Сеэз к епископу, вернутся через главного викария к кюре церкви св. Леонарда, который не преминет сказать об этом аббату Кутюрье; таким образом, мадемуазель Кормон об этом узнает, и мой снаряд пробьет брешь в осаждаемой крепости. Старый маркиз д'Эгриньон пригласит аббата де Спонда на обед, чтобы пресечь сплетню, которая повредила бы мадемуазель Кормон, если бы я высказался против такой комбинации, и мне, если бы я был отвергнут. Аббат, как и следует ожидать, совсем запутается; к тому же мадемуазель Кормон не устоит перед визитом мадемуазель д'Эгриньон, которая докажет ей величие и плодотворность этого союза. Наследство аббата превышает сто тысяч экю, сбережения девицы должны достигать двухсот тысяч ливров с лишком, у нее свой дом, Пребоде и пятнадцать тысяч ливров ренты. Одно слово моему другу графу де Фонтэну, и я – мэр Алансона, депутат; а затем, заняв место на скамье правых, мы добьемся и пэрства, издавая клич: «Довольно прений!» или: «К порядку!»
Госпожа Грансон, вернувшись домой, крупно поговорила с сыном, никак не желавшим понять, что за связь между его политическими взглядами и любовью. Это была первая размолвка, нарушившая мирную жизнь бедного семейства.
Наутро, в девять часов, мадемуазель Кормон, погрузившись вместе с Жозеттой в одноколку и возвышаясь, подобно пирамиде, над ширью своего багажа, подымалась по улице Сен-Блез по направлению к Пребоде, где с ней должно было случиться неожиданное событие, ускорившее ее замужество и не предвиденное ни г-жой Грансон, ни дю Букье, ни г-ном Валуа, ни самой мадемуазель Кормон. Случай искуснее на выдумку, чем любой писатель.
На другой день после приезда в Пребоде, в восемь часов утра, за завтраком, когда мадемуазель Кормон, ничего не подозревая, выслушивала донесения сторожа и садовника, в столовую вторгся оторопелый Жаклен.
– Мадемуазель, – сказал он, – господин аббат прислал вам письмо с нарочным, с сыном тетушки Громор. Мальчишка вышел из Алансона на рассвете, и, глядите-ка, он уже здесь. Он бежал так, что, поди, угнался бы за Пенелопой! Не дать ли ему стаканчик вина?
– Что могло стрястись, Жозетта? Уж не дядюшка ли...
– Он бы тогда не написал, – ответила горничная, угадав опасения своей госпожи.
– Скорей! Скорей! – крикнула мадемуазель Кормон, пробежав первые строки. – Пусть Жаклен запрягает Пенелопу. Постарайся, милая, чтобы в полчаса все было снова уложено, – сказала она Жозетте. – Мы возвращаемся в город.
– Жаклен! – крикнула Жозетта, уступая нетерпению, выразившемуся на лице мадемуазель Кормон.
Жаклен, наученный Жозеттой, придя в комнату, сказал:
– Как быть, мадемуазель? Ведь я только что задал Пенелопе овса.
– Какое мне дело? Я хочу сейчас же уехать.
– Но, мадемуазель, собирается дождь!
– Ну что ж! Придется помокнуть.
– Прямо как на пожар, – пробормотала Жозетта, уязвленная молчанием, которое хранила ее хозяйка, дочитывая письмо, читая и перечитывая его снова.
– Допейте же по крайней мере кофе, поберегите себя! Посмотрите, какая вы красная.
– Я красная, Жозетта? – сказала старая дева, направляясь к зеркалу с облупившейся амальгамой, показавшему ее лицо вдвойне искаженным. «Боже мой! – подумала мадемуазель Кормон. – Что, как я покажусь некрасивой!» – Живее, Жозетта, идем, помоги, милая, мне одеться. Я хочу быть готовой, когда Жаклен запряжет Пенелопу. В случае, если ты не успеешь уложить весь багаж в одноколку, я лучше оставлю его здесь, чем потеряю хотя бы одну минуту.
Если вы в полной мере поняли, как далеко зашла мадемуазель Кормон в своей мании во что бы то ни стало выйти замуж, вы разделите ее волнение. Почтенный дядюшка извещал свою племянницу, что г-н де Труавиль, внук его лучшего друга, отставной военный русской службы, захотел поселиться на покое в Алансоне и просил приютить его, во имя дружеских чувств, которые аббат питал к его деду, виконту де Труавилю, контр-адмиралу при Людовике XV. Придя в смятение, бывший старший викарий настоятельно просил племянницу вернуться, чтобы помочь ему принять гостя и поддержать честь дома, ибо письмо несколько задержалось в пути и г-н де Труавиль мог нагрянуть нынче же вечером. При подобной вести что значили заботы о каком-нибудь Пребоде? В такой момент сторож и садовник – свидетели необычайного волнения хозяйки – притихли, ожидая распоряжений. Когда она проходила мимо, они остановили ее, думая получить от нее указания, но в первый раз в жизни мадемуазель Кормон, эта самовластная старая дева, следившая в Пребоде за всем лично, сказала: делайте, как хотите! – отчего на слуг напал столбняк – ведь административные заботы госпожи простирались даже на учет и сортировку фруктов, чтобы распределять их в хозяйстве соответственно запасу тех или иных сортов.
– Не сон ли это все? – сказала Жозетта, видя, как ее госпожа летает по лестнице, подобно слону, которого бог одарил бы крыльями.
Невзирая на ливень, мадемуазель покинула Пребоде, оставив своих слуг полными хозяевами в усадьбе. Жаклен не осмелился на свой страх принять меры, чтобы подбавить прыти смирной Пенелопе, которая, уподобившись прекрасной царице, чье имя она носила, казалось, делала столько же шагов назад, сколько и вперед. Видя этот аллюр, мадемуазель резко приказала Жаклену пустить бедную перепуганную лошадь в галоп хотя бы ударами кнута: так старая дева боялась, что не успеет прилично убрать дом для приема г-на де Труавиля. По ее подсчетам, внуку дядюшкиного друга было не больше сорока лет; как военный, он, бесспорно, еще не женат, поэтому она давала себе слово, что с помощью дяди не выпустит г-на де Труавиля из своего дома, пока он не расстанется со своей холостяцкой свободой. Хотя Пенелопа пустилась вскачь, мадемуазель Кормон, поглощенная думами о своих нарядах и мечтами о супружеской жизни, несколько раз говорила Жаклену, что они ползут, как черепаха. Она вертелась на своем месте, не отвечая на расспросы Жозетты, и разговаривала сама с собой, как человек, обдумывающий великие планы. Наконец одноколка доехала до главной улицы Алансона, которая со стороны Мортани зовется улицей Сен-Блез, возле «Гостиницы Мавра» носит уже название улицы Порт де Сеэз, а выходя на Бретонскую дорогу, становится улицей дю Беркай. Если отъезд мадемуазель Кормон каждый раз получал в Алансоне большую огласку, то можно себе представить, как должна была прогреметь весть о ее возвращении на другой же день по приезде в Пребоде, да еще в проливной дождь, который хлестал ее по лицу, но, казалось, нисколько ее не беспокоил. Всем бросилась в глаза бешеная скачка Пенелопы, да еще в столь ранний час, лукавый вид Жаклена, сваленные как попало узлы и, наконец, оживленная беседа Жозетты и мадемуазель Кормон, а в особенности их нетерпение. Поместья дома де Труавиль были расположены между Алансоном и Мортанью. Жозетта знала представителей различных ветвей рода Труавилей. Одно слово, оброненное барышней при въезде в город, ввело Жозетту в суть дела; после оживленного обсуждения они сообща установили, что ожидаемый де Труавиль, по всей вероятности, был дворянином сорока – сорока двух лет, холостым, не богатым и не бедным. Мадемуазель Кормон уже видела себя виконтессой де Труавиль.
– И подумать только, что дядюшка ничего не сообщает, ничего не знает, ни о чем не осведомлен! О, как это на него похоже! Он способен был бы потерять собственный нос, не держись тот крепко на его лице!
Вы, вероятно, заметили, что при подобных обстоятельствах старые девы ни в чем не уступают Ричарду III; они становятся остроумны, жестоки, смелы, щедры, и тогда им, словно подвыпившим клеркам, море по колено. Сразу же весь Алансон, от верхнего конца улицы Сен-Блез до Порт де Сеэз, узнал об этом поспешном возвращении, связанном с важными обстоятельствами; потрясающая новость понеслась по всем каналам общественной и частной жизни города. Кухарки, лавочники, прохожие передавали эту весть друг другу из дома в дом; затем она поднялась в высшие сферы. Вскоре не было семейства, где бы слова «Мадемуазель Кормон вернулась!» не произвели действия разорвавшейся бомбы. Между тем Жаклен спрыгнул с козел, которые он, за свою долголетнюю кучерскую службу, отполировал по способу, неизвестному краснодеревцам; он сам отворил закругленные вверху зеленые ворота, запертые в знак траура: в отсутствие мадемуазель Кормон дом всегда был закрыт для гостей, и его верные посетители угощали по очереди аббата де Спонда, а г-н де Валуа, чтобы не остаться в долгу, приглашал его на обед к маркизу д'Эгриньону. Жаклен по своему обыкновению ласково покликал Пенелопу, которую оставил посреди улицы; лошадь, приученная к этому маневру, сама сделала поворот, вошла в ворота и обогнула двор так, чтобы не попортить цветник. Жаклен взял ее под уздцы и подвел одноколку к крыльцу.