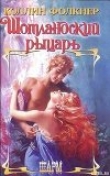Текст книги "Побочная семья"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Оноре де Бальзак
Побочная семья
Графине Луизе де Тюрхейм на память и в знак искреннего уважения от ее покорного слуги де Бальзака
Улица Турнике-Сен-Жан была некогда одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится ратуша; извиваясь вдоль садиков Парижской префектуры, она выходила на улицу Мартруа как раз у старой стены, в настоящее время снесенной. Здесь был турникет, которому улица и обязана своим названием, он был уничтожен только в 1823 году, когда городское управление Парижа выстроило на месте одного из садиков бальный зал, где был устроен праздник в честь возвращения герцога Ангулемского из Испании. Просторнее всего улица Турнике была у пересечения с улицей Тисерандери, но и там ширина ее едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице текли потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и для ее очистки жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как было привести ее в порядок? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Турнике, но так и не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных, молчаливых домов. В июле лампы там зажигали уже в пять часов вечера, а зимой и вовсе их не тушили. Впрочем, даже в наши дни отважному человеку, решившему пройти пешком от квартала Марэ до набережных, покажется, что он спустился в погреб, как только в конце улицы Дю-Шом он свернет на Ом-Арме и по улицам Бийет и Де-Порт выйдет на Турнике-Сен-Жан.
Почти все улицы старого Парижа, великолепие которых так превозносится в летописях, схожи с этим сырым и темным лабиринтом, где любители еще могут найти кое-какие остатки старины. Так, например, в те времена, когда существовал дом на углу улиц Турнике и Тисерандери, нетрудно было заметить торчавшие из его стены обломки двух толстых железных колец – все, что уцелело от цепей, которые квартальный надзиратель приказывал некогда протягивать каждый вечер для охраны общественного порядка. Этот дом, примечательный своей ветхостью, был построен с предосторожностями, говорившими о сырости старинных жилищ. Для оздоровления первого этажа свод подвала был выведен фута на два над землей, и, чтобы войти в дом, приходилось подняться по трем ступенькам. Парадная дверь была украшена полукруглым наличником, который заканчивался вверху женской головкой и арабесками, источенными временем. В полуподвальном этаже дома, с улицы Турнике, имелась квартирка в три окна, прорезанных почти на высоте человеческого роста и скудно пропускавших свет. Эти окна с прогнившими рамами были забраны редкой решеткой из толстых железных прутьев, выгнутых книзу, как в витринах булочных. Если днем какой-нибудь любопытный заглядывал в окна двух комнат, составлявших эту квартирку, ему ничего не удавалось там разглядеть. Лишь при свете яркого июльского солнца глаз различал во второй комнате две кровати с ветхим пологом из зеленой саржи, стоявшие рядом в алькове, обшитом деревянной панелью. Но около трех часов пополудни, как только зажигались свечи, в окно первой комнаты можно было увидеть старуху; она сидела на скамейке возле камина и помешивала угли в жаровне, на которой тушилось рагу – излюбленное блюдо привратниц. В полумраке вырисовывались кое-какие предметы кухонной и домашней утвари, развешанные в глубине комнаты. В этот час старый стол на ножках, скрещенных в виде буквы X, бывал обычно накрыт. Скатерти, правда, на нем не было, но стояли два оловянных прибора и миска с каким-нибудь кушаньем, состряпанным старухой. Три плохоньких стула дополняли меблировку комнаты, служившей одновременно и кухней и столовой. На камине виднелся осколок зеркала, огниво, три стакана, спички и большой белый кувшин с отбитыми краями. И все же плиточный пол комнаты, утварь, камин – все ласкало взор благодаря порядку и бережливости, отличавшим это мрачное и холодное жилище. Бледное, морщинистое лицо старухи соответствовало темной улице и дряхлым, заплесневевшим стенам дома. Неподвижно сидя на стуле, она казалась вросшей в этот дом, как улитка в свою бурую раковину. В ее лице сквозь притворное добродушие проглядывала едва уловимая плутоватость; из-под круглого, плоского тюлевого чепца выбивались седые волосы; большие серые глаза были так же спокойны, как улица, где она жила, а многочисленные морщины можно было сравнить с трещинами в стенах дома. Родилась ли она в нужде или впала в нее после минувшего достатка, только она, по-видимому, давно примирилась со своей печальной участью. С восхода солнца и до позднего вечера, за исключением того времени, когда старуха стряпала или отлучалась с корзинкой за провизией, она сидела у последнего окна квартирки, а напротив нее, в старом кресле, обитом красным бархатом, работала девушка. Молодую вышивальщицу прохожие могли заметить в любое время дня: она не сходила с места и, склонившись над пяльцами, усердно трудилась. На коленях матери лежал зеленый тамбур для плетения тюля, но пальцы шестидесятилетней женщины еле перебирали шпульки, а зрение, по-видимому, ослабело, так как нос ее был украшен парой тех стародавних очков, которые держались при помощи пружинки на самом его кончике. С наступлением темноты труженицы ставили на столик, разделявший их, лампу. Пройдя сквозь два стеклянные шара, наполненные водой, ее лучи ярко озаряли работу, позволяя одной женщине видеть тончайшие нити шпулек, а другой – еле заметные штрихи рисунка, нанесенного на ткань, по которой она вышивала. Воспользовавшись выступом решетки, девушка выставила за окно длинный деревянный ящик с землей; в нем росли душистый горошек, настурция, хилый кустик жимолости и вьюнок, слабые стебельки которого обвились вокруг прутьев. Чахлые растения давали блеклые цветы – лишняя черта, вносившая что-то грустное и нежное в картину этого окошка, проем которого так хорошо обрамлял два женских лица. Случайно заглянув в него, даже невнимательный прохожий уносил с собой представление о жизни рабочего люда в Париже, так как вышивальщица, по-видимому, жила только своей иглой. Мало кто доходил до турникета, не задав себе вопроса, каким образом девушка сохранила румянец в этом сыром подземелье. Когда по дороге в Латинский квартал[1]1
Латинский квартал – район Парижа, где издавна находились высшие учебные заведения, библиотеки, музеи.
[Закрыть] мимо проходил студент, пылкое воображение помогало ему сравнить это незаметное, бесцельное существование с жизнью плюща, покрывающего холодные каменные стены, или с жизнью обреченных на труд крестьян, которые родятся, обрабатывают землю и умирают, оставаясь неведомыми миру, хотя они-то его и кормят. Рантье, осмотрев дом взглядом собственника, спрашивал себя: что станется с этими двумя женщинами, если вышивки выйдут из моды? Может быть, среди тех, кто в определенные часы проходил на службу в ратушу или во Дворец правосудия или же возвращался домой, попадались и добрые люди. Может быть, какой-нибудь вдовец или сорокалетний Адонис[2]2
Адонис – в греческой мифологии сын красавицы Мирры, превращенной богами в мирровое дерево. Младенец, рожденный ею, отличался редкой красотой.
[Закрыть], долго и внимательно изучавший эту безрадостную жизнь, рассчитывал на бедственное положение матери и дочери, чтобы дешево купить невинную труженицу; ведь ее ловкие пухлые ручки, нежная шея и белая кожа – очарование, которыми она, вероятно, была обязана этой улице, лишенной солнечного света, – неизменно возбуждали восхищение прохожих. Может быть также, какой-нибудь честный чиновник с окладом в тысячу двести франков, ценитель благонравия и каждодневный свидетель усердия, с каким трудилась молодая вышивальщица, ожидал только повышения, чтобы соединить свою незаметную судьбу с ее столь же незаметной судьбой, свой упорный труд – с ее трудом, предложив девушке, по крайней мере, поддержку мужской руки и мирную любовь, бесцветную, как вьюнки на ее окошке. Смутная надежда оживляла порой потухшие серые глаза старухи матери. Утром, после скудного завтрака, она брала тамбур скорее ради приличия, чем по обязанности, и, положив очки на потемневший от времени рабочий столик мореного дерева, такой же дряхлый, как и она сама, с половины девятого до десяти часов утра внимательно наблюдала за людьми, обычно проходившими в это время по улице; она ловила их взгляды, высказывала замечания об их походке, одежде, лицах и, казалось, предлагала им свою дочь – так выразительны были ее глаза, пытавшиеся завязать между прохожими и девушкой узы взаимной симпатии при помощи уловок, достойных театральных кулис. Нетрудно догадаться, что обычная вереница прохожих служила ей развлечением, а может быть, и единственным удовольствием. Дочь редко поднимала голову: стыдливость, а вероятнее всего, мучительное сознание своей бедности приковывало ее взгляд к пяльцам. И только в ответ на возглас удивления матери она показывала любопытным свое личико с чертами неправильными, но весьма привлекательными. Чиновник, одетый в новый сюртук, или примелькавшийся прохожий, шедший на этот раз под руку с женщиной, могли заметить тогда слегка вздернутый носик вышивальщицы, ее румяные губы и серые глаза, полные жизни, несмотря на утомление. От бессонных ночей, проведенных за работой, под ее глазами легли темные тени, но лицо никогда не теряло свежести. Бедная девушка, казалось, была рождена для любви и веселья; для любви, которая провела над ее миндалевидными глазами тонкие, ровные дуги бровей и наградила ее таким обилием каштановых волос, что она могла закутаться ими, как плащом, непроницаемым для взоров возлюбленного; для веселья, от которого трепетали ее подвижные ноздри, а на розовых щеках выступали две ямочки, для веселья – этого цветка надежды, которое помогало ей быстро забывать огорчения и без содрогания смотреть на безрадостный жизненный путь. Девушка всегда была тщательно причесана. По обычаю парижских работниц, она считала себя одетой, как только успевала пригладить волосы и выложить на висках два шаловливых завитка, резко выделявшихся на белой коже. В повороте этой головки было столько грации, темный узел волос, лежащий на точеной шейке, так красноречиво говорил о юной прелести девушки, что наблюдательный человек, видя, как упорно она работает, не поднимая глаз при звуке его шагов, мог заподозрить ее в кокетстве. Весь ее облик был так пленителен, что не один юноша оборачивался с тщетной надеждой увидеть еще раз это милое личико.
– Смотри, Каролина, новый прохожий, и гораздо лучше прежних.
Эти слова, которые мать произнесла шепотом как-то утром в августе 1815 года, преодолели равнодушие молодой вышивальщицы, но она напрасно взглянула на улицу: незнакомец уже был далеко.
– Куда же он исчез? – спросила она.
– Он, конечно, будет возвращаться часа в четыре, я толкну тебя ногой, как только его увижу. Уверена, что он опять появится. Вот уже три дня, как он проходит по нашей улице, но в разные часы: в первый день – в шесть часов, позавчера – в четыре, а вчера – в три. Помнится, я видела его время от времени и прежде. Верно, это какой-нибудь чиновник префектуры, переехавший к нам в Марэ. Смотри, – прибавила она, бросив взгляд на улицу, – господин в коричневом костюме надел парик; сегодня его не узнать!
Господином в коричневом костюме, очевидно, заканчивалась ежедневная процессия прохожих, потому что старуха мать вновь надела очки и, вздохнув, принялась за работу; при этом она бросила на дочь взгляд настолько странный, что самому Лафатеру[3]3
Лафатер Иоганн-Каспар (1741—1801) – швейцарский философ и богослов, автор системы физиогномики, определявшей характер человека по чертам его лица и форме головы.
[Закрыть] вряд ли удалось бы его объяснить; в нем было все – восхищение, признательность, надежда на лучшее будущее и чувство гордости, вызванное красотою дочери. Около четырех часов вечера старуха толкнула ногой Каролину. И та подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть новое действующее лицо, появлению которого на улице предстояло оживлять отныне однообразие этого ежедневного зрелища. То был человек лет сорока, высокий, худощавый, бледный. Одет он был во все черное и выдавался своей горделивой осанкой. Когда его пронизывающие светло-карие глаза встретились с тусклым взглядом старухи, она вздрогнула; ей показалось, что незнакомец отличается природным даром или привычкой читать в глубине сердец. Он держался очень прямо, и от его обращения веяло, очевидно, таким же ледяным холодом, как и от улицы, по которой он шел. Но почему у него такой землистый цвет лица – виновата ли в этом болезнь или же чрезмерная работа? Эту загадку старуха решала на двадцать ладов. Но одна Каролина сразу догадалась, что грустное лицо незнакомца носит следы долгих душевных страданий. Лоб, легко собиравшийся в морщины, и слегка впалые щеки хранили на себе ту печать, которой злосчастье отмечает своих данников как бы для того, чтобы предоставить им в утешенье возможность узнавать друг друга и братски объединяться для сопротивления. Взгляд девушки загорелся сперва вполне невинным любопытством, но едва незнакомец, похожий на опечаленного родственника, замыкающего похоронное шествие, стал удаляться, в ее глазах появилось выражение нежного сочувствия. Жара в этот час была так удушлива, а рассеянность неизвестного так велика, что даже по их сырой улице он шел без шляпы. Каролина успела заметить, что высокий лоб и волосы, остриженные ежиком, придавали его лицу выражение суровости. Незнакомец произвел на нее сильное, но не особенно приятное впечатление; впрочем, оно ничуть не походило на те чувства, какие вызывали у девушки другие прохожие. Впервые жалость Каролины была направлена не на себя или на мать, а на постороннего человека. Она ни словом не отозвалась на нелепые предположения старухи и, не слушая ее надоедливой болтовни, молча продолжала продергивать длинную иглу с ниткой сквозь натянутый тюль. Ей не удалось хорошенько рассмотреть незнакомца, и, сожалея об этом, она решила подождать следующего дня, чтобы составить о нем окончательное мнение. Впервые один из прохожих заставил ее задуматься. Обычно она отвечала только грустной улыбкой на догадки матери, которая в каждом увиденном мужчине надеялась найти для нее покровителя. Если все эти неосторожно высказанные соображения не пробудили ни одной дурной мысли у Каролины, то ее «беспечность» следует приписать упорному и, к несчастью, подневольному труду, который подтачивал ее неповторимую молодость и от которого вскоре должны были потускнеть ее глаза и сбежать нежные краски, пока еще оттенявшие белизну девичьего лица.
В течение двух долгих месяцев черный господин, как его прозвали вышивальщицы, проявлял крайнее непостоянство в привычках. Он не всегда проходил по улице Турнике; нередко старуха видела его вечером, не заметив, чтобы он прошел мимо них утром; да и возвращался он в разное время – не то что другие чиновники, которые заменяли г-же Крошар часы. Наконец, за исключением первой встречи, когда взгляд незнакомца внушил некоторое опасение старухе матери, его глаза больше ни разу не останавливались на живописной картине, которую представляли собой эти две женщины, похожие на духов подземелья. Если не считать двух парадных дверей и темной скобяной лавки, на улицу Турнике выходили в те времена лишь решетчатые окна, слабо освещавшие лестницы нескольких соседних домов. Следовательно, отсутствие любопытства у прохожего нельзя было объяснить каким-нибудь опасным соперничеством. Вот почему г-жа Крошар была задета за живое, видя своего «черного господина» неизменно серьезным и сосредоточенным; взгляд его был вечно прикован к земле или устремлен вдаль, словно он хотел прочесть будущее в сыром тумане улицы Турнике. Но как-то утром, в конце сентября, шаловливое личико Каролины Крошар выступило таким сияющим видением на темном фоне комнаты, среди запоздалых цветов и поблекшей листвы растений, обвившихся вокруг железных прутьев решетки, и это обычное зрелище явило такой чудесный контраст света и тени, белых и розовых тонов, прекрасно гармонировавших с муслином, над которым трудилась хорошенькая вышивальщица, и с красновато-коричневой обивкой кресел, что незнакомец очень внимательно посмотрел на столь эффектную живую картину. По правде сказать, старуха мать, раздосадованная безразличием «черного господина», принялась так громко стучать своими шпульками, что, может быть, именно этот необычный шум и заставил угрюмого, озабоченного прохожего заглянуть к ним в окошко. Неизвестный обменялся с Каролиной быстрым взглядом, но и этого было достаточно, чтобы между ними установилась мимолетная близость и у обоих возникло предчувствие, что они станут думать друг о друге. Около четырех часов дня неизвестный возвращался обратно; Каролина узнала его шаги, гулко отдававшиеся по улице, и когда девушка и незнакомец взглянули друг на друга, это уже было сделано преднамеренно как с той, так и с другой стороны; в глазах прохожего появилось дружелюбное выражение, и он улыбнулся, а Каролина покраснела; старуха мать наблюдала за обоими с довольным видом. С того памятного утра «черный господин» стал проходить по улице Турнике дважды в день, и если изредка он не появлялся, обе женщины отмечали это как исключение. Судя по тому, что незнакомец возвращался со службы в разное время, они решили, что он не мелкая сошка, ибо простой чиновник обычно не задерживается в присутствии и уходит домой в определенный час.
В течение трех первых месяцев зимы Каролина и прохожий виделись, таким образом, по два раза в день – в те короткие мгновения, когда он проходил мимо ее окон. День от дня это мимолетное свидание принимало более дружелюбный характер и в конце концов создало между ними нечто вроде братской близости. Каролина и незнакомец, казалось, уже стали понимать друг друга; вглядываясь в знакомые черты, они изучили их до тонкости. Вскоре появления прохожего стали как бы визитами, которые он наносил Каролине; если случайно «черный господин» проходил мимо, не послав ей мимолетной улыбки, в которую складывался его выразительный рот, или ласкового взгляда своих карих глаз, ей весь день чего-то не хватало. Она походила на стариков, для которых чтение газеты стало таким привычным удовольствием, что на следующий день после большого праздника они чувствуют себя выбитыми из колеи и по рассеянности или от нетерпения отправляются за газетой, помогающей им на несколько минут заполнить пустоту своего существования. Как для незнакомца, так и для Каролины эти беглые встречи приобрели интерес непринужденной, дружеской беседы. Девушка не могла утаить от внимательного взгляда своего молчаливого друга грусти, беспокойства или недомогания, а ему не удавалось скрыть свои заботы от Каролины. «У него были вчера неприятности», – эта мысль часто приходила в голову вышивальщице при виде изменившегося лица «черного господина». «О, ему пришлось много работать!» – восклицала Каролина, судя по каким-то другим признакам, которые только она умела различать. Незнакомец тоже угадывал, когда девушка проводила воскресенье за работой, чтобы закончить платье, узор которого ему хотелось бы видеть. Он замечал беспокойство, омрачавшее это хорошенькое личико при приближении срока уплаты за квартиру, и угадывал, когда Каролина не спала ночь, сидя за пяльцами; но главное, он видел, что с каждым днем их знакомства рассеивались грустные мысли, старившие ее нежные и веселые черты. Когда зима высушила стебли и листья садика, разбитого на подоконнике, а окно закрылось, незнакомец улыбнулся понимающей улыбкой, заметив необычайное освещение на уровне головки Каролины. Скупость, с которой женщины расходовали топливо, красные пятна на их лицах выдали «черному господину» крайнюю бедность их маленького хозяйства; но едва только выражение глубокого сочувствия появлялось в его взгляде, Каролина гордо отвечала на это притворной веселостью. Однако чувство, пробудившееся у Каролины и незнакомца, оставалось погребенным в глубине их сердец; ничто не открыло ни ему, ни ей силы и искренности этого чувства. Безмолвные друзья, они даже не слышали голоса друг друга. Более тесный союз страшил их как несчастье. Казалось, что каждый из них боялся принести другому более тяжкое горе, чем то, которое ему хотелось разделить. Что останавливало их? Стыдливость дружбы? Опасения, подсказанные эгоизмом или жестоким недоверием, разъединяющим людей в стенах большого города? Или, быть может, внутренний голос предупреждал их о грозящей опасности? Было бы трудно объяснить чувство, которое и привлекало их друг к другу, и отталкивало, пробуждало то равнодушие, то любовь, сближало в безотчетном стремлении и разъединяло в действительности. Возможно, каждому из них хотелось сохранить свои иллюзии. Иногда казалось, что незнакомец опасается услышать грубые слова из девичьих уст, свежих и чистых, как цветок, а Каролина считает себя недостойной этого таинственного человека, в котором все говорит о власти и богатстве. Что касается г-жи Крошар, то эта нежная мать теперь почти сердилась на нерешительность дочери и недовольно посматривала на «черного господина», тогда как прежде всегда улыбалась ему любезно, почти подобострастно. Никогда еще она так горько не жаловалась дочери на то, что ей, больной старухе, приходится заниматься стряпней, никогда еще ревматизм и катар горла не вызывали у нее таких жалобных стонов; наконец, за эту зиму ей не удалось сплести столько тюля, сколько Каролине нужно было для вышивания. Потому-то в конце декабря, когда хлеб бывает особенно дорог (а в 1816 году цена на хлеб так возросла, что зима оказалась особенно тяжелой для бедняков), прохожий заметил на лице девушки, имени которой он не знал, глубокую озабоченность, и даже его приветливой улыбке не удалось ее рассеять. Вскоре он понял по глазам Каролины, по ее изнуренному виду, что она проводит ночи за работой. Однажды, в конце того же месяца, прохожий, вопреки обыкновению, возвращался по улице Турнике-Сен-Жан около часу ночи. Подходя к дому, где жила Каролина, он еще издали услышал в ночной тишине плаксивый голос старухи и другой, более скорбный, молодой голос, звуки которых сливались с шумом дождя, падавшего вперемешку со снегом. Он осторожно приблизился к дому, затем, рискуя быть арестованным, притаился у окна, чтобы послушать, о чем говорят мать и дочь, одновременно наблюдая за ними сквозь одну из дыр в пожелтевших муслиновых занавесках, похожих на капустные листья, изъеденные гусеницами. Любопытный прохожий увидел на столе, разделявшем пяльцы и тамбур, гербовую бумагу; между двумя шарами с водой стояла лампа, при ее свете незнакомец без труда узнал повестку о вызове в суд. Г-жа Крошар плакала, а в голосе Каролины слышались гортанные нотки, искажавшие ее мягкий, ласкающий тембр.
– Зачем отчаиваться, матушка? Господин Молине не продаст нашей мебели и не выгонит нас, пока я не закончу этого платья; еще две ночи, и я отнесу его госпоже Роген.
– А что, если она, как обычно, не заплатит сразу? Да и денег-то этих не хватит. За квартиру отдадим, а с булочником чем рассчитаемся?
Свидетель этой сцены давно привык разбираться в выражении лиц, и ему показалось, что в отчаянии матери было столько же фальши, сколько искренности в горе дочери. Он тотчас же отошел от окна. Вернувшись несколько минут спустя, он вновь посмотрел сквозь отверстие в муслиновых занавесках. Мать уже легла, девушка, склонившись над пяльцами, трудилась с неутомимым усердием. На столе рядом с повесткой лежал треугольный ломоть хлеба, очевидно, положенный сюда не только для подкрепления сил девушки в бессонную ночь, но и как напоминание о награде, которая ждет ее за проявленное мужество. Незнакомец вздрогнул от жалости и боли. Он бросил свой кошелек в окно, – стекло в нем было как раз разбито, – с таким расчетом, чтобы кошелек упал к ногам девушки; затем, даже не насладившись ее удивлением, поспешно скрылся. Сердце у него сильно билось, щеки пылали. На следующий день грустный и замкнутый незнакомец прошел мимо Каролины, напустив на себя сугубо озабоченный вид. Однако ему не удалось избежать благодарности девушки; еще до его появления она открыла окно и принялась разрыхлять ножом покрытую снегом землю в деревянном ящике. Этот неловкий и трогательный предлог дал ясно понять незнакомцу, что на этот раз она не хочет смотреть на него сквозь стекло. Устремив на своего благодетеля глаза, полные слез, вышивальщица поклонилась ему, как бы говоря: «Я могу вам отплатить только сердцем». Но «черный господин» сделал вид, что ничего не понимает в выражении этой искренней признательности. Вечером, когда он возвращался, Каролина, которая в это время заклеивала бумагой разбитое стекло, улыбнулась ему улыбкой, подобной обещанию, сверкнув ослепительной белизной зубов. С тех пор «черный господин» избрал другой путь и больше не показывался на улице Турнике.
Как-то в субботу, в первых числах мая, Каролина поливала из стакана жимолость в ящике и, заметив между рядами черных домов клочок голубого неба, сказала:
– Матушка, поедемте-ка завтра погулять в Монморанси.
Не успела она весело произнести эту фразу, как появился «черный господин», более грустный и подавленный, чем когда-либо. Робкий и ласковый взгляд, брошенный ему Каролиной, мог быть понят как приглашение. И на другой день, когда г-жа Крошар в длинном пальто из красновато-коричневой мериносовой ткани, в шелковой шляпе и полосатой шали – подделке под кашемир – явилась на угол улиц Фобур-Сен-Дени и Анген, чтобы сесть в «кукушку»[4]4
«Кукушка» – во времена Бальзака почтовая карета на пять-шесть мест, курсировавшая в окрестностях Парижа.
[Закрыть], она увидела там своего незнакомца, явно поджидавшего кого-то. Радостная улыбка появилась на его лице, когда он заметил Каролину. Ножки ее были обуты в прюнелевые башмачки цвета «блошиной спинки», ветер, столь опасный для дурно сложенных женщин, раздувал белое платье, обрисовывая пленительные формы; а лицо, выглядывавшее из-под соломенной шляпки, подбитой розовым шелком, было, казалось, озарено небесным сиянием; широкий коричневый пояс подчеркивал стройность талии, тонкой, как тростинка, а темные волосы, разделенные прямым пробором и зачесанные на уши, оттеняли белоснежный лоб и придавали девушке целомудренно-наивный вид, соответствовавший всему ее облику. От предвкушения удовольствия Каролина казалась такой же легкой, как рисовая соломка ее шляпки; заметив «черного господина», она вся загорелась надеждой, и это сияние затмило и праздничный ее наряд, и красоту. Неизвестный, видимо, колебался и, быть может, только при виде внезапной радости, вызванной его присутствием, решился сопутствовать вышивальщице. Он нанял кабриолет, запряженный довольно хорошей лошадью, и предложил г-же Крошар с дочерью занять в нем место для поездки в Сен-Ле-Таверни. Мать согласилась без лишних слов, но когда экипаж уже катил по дороге в Сен-Дени, она вспомнила о щепетильности и стала высказывать опасения, что они с дочерью, пожалуй, стеснят своего спутника.
– Может быть, сударь, вы желали поехать один в Сен-Ле? – спросила она с притворным добродушием, но тут же стала жаловаться на жару и в особенности на свой бронхиальный катар, который, по ее словам, всю ночь не дал ей сомкнуть глаз. Как только экипаж достиг Сен-Дени, г-жа Крошар, видимо, заснула; но ее похрапывание показалось подозрительным «черному господину»; он нахмурил брови и крайне недоверчиво посмотрел на старуху.
– Она спит, – наивно сказала Каролина, – кашель совсем замучил ее со вчерашнего вечера, и, наверное, она очень устала.
Вместо ответа спутник многозначительно улыбнулся, словно говоря девушке: «Невинное создание, ты не знаешь своей матери». Тем не менее, когда экипаж мягко покатил по длинной, обсаженной тополями аллее, ведущей в Обон, «черный господин», несмотря на свою недоверчивость, решил, что г-жа Крошар действительно уснула; а может быть, ему просто не хотелось разбираться, насколько притворным был этот сон. Красота ли неба, чистый ли деревенский воздух или пьянящий аромат распускающихся тополей, вербы и цветов боярышника тронули «черного господина», призывая его сердце пробудиться по примеру природы, или натянутость стала ему в тягость, а быть может, блестящие глаза Каролины ответили сочувствием на его беспокойные взгляды, но только он завел со своей юной спутницей беседу, неопределенную, как шелест деревьев под порывами легкого ветерка, своенравную, как полет бабочки в голубом воздушном просторе, непринужденную, как нежно-мелодичный голос полей, и, как этот голос, полную таинственной любви. Ведь в это время года природа похожа на трепетную невесту в подвенечном наряде и склоняет к наслаждению даже самые ледяные сердца! Чье сердце осталось бы холодным, чьи уста не выдали бы затаенных мыслей, когда, миновав темные улицы Марэ, проезжаешь утром впервые с прошлого года по чудесной, живописной долине Монморанси и, глядя на ее беспредельные дали, сознаешь, что можешь перевести свой взгляд на глаза, в которых тоже отражается беспредельность, но только беспредельность любви! Незнакомец нашел Каролину скорее веселой, чем остроумной, скорее сердечной, чем образованной; но если в ее смехе слышались шаловливые нотки, то слова сулили искреннее чувство. Когда на тонкие вопросы спутника девушка отвечала с непосредственностью, свойственной низшим классам, не знающим недомолвок светских людей, лицо «черного господина» оживало и словно перерождалось. Оно постепенно теряло омрачавшее его грустное выражение; затем мало-помалу на этом лице появился отблеск молодости и красоты, и Каролина почувствовала себя счастливой и гордой. Хорошенькая вышивальщица угадала, что ее благодетель давно лишен нежности и любви и уже не верит в женскую преданность. Наконец остроумное замечание, промелькнувшее в легкой болтовне Каролины, согнало с лица незнакомца последнюю тень, скрывавшую его молодость и изменявшую его истинное выражение. Он, по-видимому, окончательно отмахнулся от докучливых мыслей и проявил душевный пыл, о котором позволяло догадываться его лицо. Незаметно беседа приняла столь дружеский характер, что, когда экипаж остановился у первых домов широко раскинувшегося селения Сен-Ле, Каролина уже называла незнакомца г-ном Роже. Только тут старуха мать пробудилась.
– Каролина, она, должно быть, все слышала, – прошептал подозрительный Роже на ухо девушке.
Каролина ответила восхитительной улыбкой сомнения, и ее улыбка рассеяла тень, которая вновь омрачила лицо этого недоверчивого человека, опасавшегося тайного расчета со стороны матери. Ничему не удивляясь, г-жа Крошар все одобрила и последовала за дочерью и г-ном Роже в парк Сен-Ле, куда молодые люди сговорились отправиться, чтобы осмотреть цветущие луга и живописные рощи, прославленные королевой Гортензией, которая так любила эти места.
– Боже мой, до чего здесь красиво! – воскликнула Каролина, поднявшись на зеленую возвышенность, откуда начинается лес Монморанси: девушка увидела у своих ног огромную долину с разбросанными там и сям деревнями, синеватые холмистые дали, колокольни, луга и поля, а до слуха ее долетел разноголосый шум, похожий на рокот морского прибоя. Путники прошли по берегу искусственно созданной речки до «швейцарской долины» и остановились у Шале, куда не раз приходили королева Гортензия и Наполеон. Когда Каролина с благоговением уселась на поросшую мхом деревянную скамью, где некогда отдыхали короли, принцессы и император, г-же Крошар захотелось рассмотреть поближе перекинутый между скалами мостик, видневшийся вдалеке, и она направилась к этой сельской достопримечательности, оставив дочь под охраной г-на Роже; однако она предупредила девушку, что не будет терять их из виду.