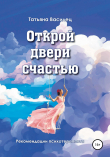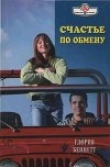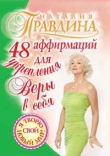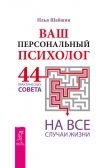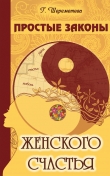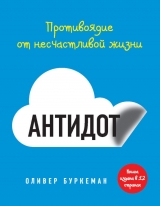
Текст книги "Антидот. Противоядие от несчастливой жизни"
Автор книги: Оливер Буркеман
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Конечно, отсутствие в природе какого-то одного исследования о пользе постановки целей не доказывает ошибочность тезиса о том, что ставить цели полезно. Существует много действительно серьезных научных работ, которые на фактическом материале обосновывают эффективность данной практики. Это скорее история о том, как далеко зашло увлечение целями. Возможно, вы никогда не формулировали свои жизненные цели в письменном виде и можете быть не согласны с выводом фиктивного Йельского исследования о том, что материальное богатство – пропуск в счастливую жизнь. Но стремление, лежащее в основе всего этого, носит универсальный характер. В какой-то момент вашей жизни вы чувствуете, что определили себе цель – найти жену, получить конкретную работу, жить в определенном городе – и создаете план ее достижения. В самом широком смысле мы занимаемся постановкой целей и разработкой планов их достижения в течение большей части нашей сознательной жизни. Вне зависимости от использования слово «цель» мы постоянно планируем что-либо, исходя из желаемых результатов. Великий французский политик и философ Алексис де Токвиль [47]47
Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805–1859), выдающийся французский политический деятель, историк и политолог.
[Закрыть]писал: «Посмотрите на любого человека в любой момент его жизни и обнаружите его за обдумыванием планов повышения уровня своего комфорта». Использованное Токвилем слово «комфорт» не должно сбивать нас с толку – мы, безусловно, способны создавать более значительные и подвижнические планы. Но смысл от этого не меняется: многие из нас постоянно озабочены планами.
Вот такую озабоченность и ставят под сомнение последователи «негативного пути», поскольку, как оказывается, постановка целей и последующая борьба за их достижение могут иметь крайне негативные последствия. Известны убедительные аргументы в пользу того, что нам самим и организациям, в которых мы работаем, стоит тратить меньше времени на целеполагание и вообще уделять меньше внимания планированию будущего именно таким, каким нам хочется его представлять.
В основе этих взглядов лежат выводы, к которым пришли Крис Кэйс и Джеймс Лестер в своих исследованиях восхождений на Эверест: в большинстве случаев мы прилагаем усилия к выработке целей и планированию будущего не потому, что так ценим важность организованности и наличия перспективного видения. Скорее, нами движут куда более эмоциональные причины, связанные с глубоким дискомфортом, вызывающим у нас состояние неопределенности.
Испытывая тревожность в связи с неясностью перспектив, мы начинаем ожесточенно работать над созданием образа устраивающего нас будущего: не потому, что наличие этого образа поможет достичь именно такого будущего, а потому, что это избавляет нас от чувства неуверенности, которое мы испытываем в настоящем.
«Неуверенность заставляет нас идеализировать будущее, – сказал мне Кэйс. – Мы говорим себе, что все будет ОК, только если удастся достичь запланированного результата». Очевидно, что восхождение на Эверест требует тщательного планирования и подразумевает наличие цели – взойти на вершину. Но, по мнению Кэйса, факты говорят о том, что отторжение чувства неуверенности могло сместить баланс в сторону фатальной увлеченности целью.
Мы очень боимся чувства неуверенности (британский психолог Дороти Роу полагает, что мы страшимся его даже больше смерти) и, чтобы избавиться от него, готовы пойти на любые крайние меры, иногда с фатальными последствиями. Однако мы еще убедимся в том, что существует серьезная альтернатива: можно научиться мириться с неопределенностью и использовать ее скрытый потенциал для того, чтобы лучше чувствовать себя в настоящем и достигать успехов в будущем.
При внимательном рассмотрении количество серьезных жизненных решений, принимаемых нами только для того, чтобы минимизировать текущее состояние психологического дискомфорта, выглядит настораживающим. Попробуйте выполнить потенциально огорчительное упражнение в самоанализе: подумайте о любом принятом вами важном решении, о котором вы впоследствии пожалели. Отношения, в которые вы вступили на фоне смутного подозрения, что этого лучше не делать, или работа, на которую вы согласились, хотя было сразу ясно, что она не соответствует вашим интересам и способностям… Если в тот момент это казалось трудным выбором, вы непременно испытывали болезненную неуверенность. Исчезло ли это чувство после принятия решения? В противном случае вполне возможно, что решение было принято вами, исходя не из разумного предположения о его правильности, а просто из насущной необходимости избавиться от чувства неопределенности. Дэвид Кэйн, блоггер по психологической тематике, размышляет о том, как непереносимость неопределенности доминировала в принятии им решений: «Крайне неприятно вспоминать все ситуации, когда это ощущение управляло моей жизнью. Именно по этой причине я потратил три года и 10 тысяч долларов на обучение программированию, хотя на самом деле не собирался зарабатывать этим на жизнь. Это оправдание каждого божьего дня, проведенного мной в занятиях, которые мне совершенно не нравились. Неопределенность похожа на ситуацию, когда тонущему жизненно необходимо нащупать ногами участок дна, и совершенно неважно, где он будет находиться. Добравшись до него, ты можешь свободно вздохнуть». Одно из проявлений нашего страстного желания нащупать твердую почву под ногами и состоит в том, что мы хватаемся за цели.
Чтобы понять, почему цели могут приводить к результатам, обратным желаемым, подумайте о том, как ловится такси в большом городе под сильным дождем. Если вам приходилось когда-нибудь этим заниматься, вы отлично помните об охватывающем вас отчаянии. Наверное, вам кажется, что вы знаете, почему это так трудно сделать. Экономическая задачка для пятилетнего ребенка: когда идет дождь, такси нужно большему количеству людей, спрос превышает предложение и свободных машин не хватает. Это же очевидно, правда? Поэтому вы можете представить себе, какими взглядами одарили коллеги экономиста Колина Камерера [48]48
Colin Camerer (р. 1959) – американский ученый-исследователь из Калифорнийского технологического института, работающий на стыке областей когнитивной психологии, нейробиологии и макроэкономики.
[Закрыть], когда он с тремя своими сотрудниками решил заняться выяснением вопроса нехватки такси в дождливую погоду, выбрав Нью-Йорк в качестве объекта полевых исследований.
Однако в результате выяснилось, что причина проблемы не столь очевидна. Действительно, спрос на такси растет в дождливую погоду. Но одновременно происходит нечто странное – предложение машин сокращается. Это противоречит стандартному экономическому допущению о том, что, если люди хотят заработать больше денег, они больше работают. От таксистов, которые имеют определенную свободу в распределении и продолжительности своего рабочего времени, можно было ожидать, что они будут работать больше в моменты пикового спроса. Но нет, в дождь они заканчивали раньшеобычного.
Дальнейшее изучение показало, что во всем виноваты цели. Нью-йоркские таксисты арендуют свои машины [49]49
Таксисты в Нью-Йорке, как правило, посменно арендуют свои машины у специализированных компаний, поскольку стоимость лицензии, позволяющей использовать конкретный автомобиль в качестве такси, очень высока для обычного физического лица.
[Закрыть]на смену продолжительностью в 12 часов и ставят себе цель заработать сумму, вдвое превышающую ставку аренды. Когда идет дождь, это у них получается быстрее, и они раньше отправляются по домам. Поэтому жители Нью-Йорка лишаются такси в тот момент, когда больше всего в них нуждаются, а таксисты теряют дополнительный доход тогда, когда его легче всего получить.
Дело не в том, что таксисты предпочитают отдых переработке (это как раз понятный выбор), а в том, что не имеет смысла отдыхать именно в дождь. Таксисты ведут себя не как разумные субъекты экономики, а как голуби в экспериментах психолога-бихевиориста Б.Ф. Скиннера [50]50
Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) – знаменитый американский психолог, один из основоположников бихевиоризма.
[Закрыть]. Их научили получать зернышки с помощью нажатия клювом на кнопку в клетке, и Скиннер заметил, что, склевав порцию пищи, голуби делали паузу перед следующим нажатием, то есть расслаблялись, достигнув понятной цели.
Цель таксиста по дневной выручке существенно отличается от цели взойти на Эверест, и в данном случае ученые не занимались психологической мотивацией водителей. Но на этом небольшом примере можно еще раз убедиться в том, насколько некомфортна для нас ситуация неизвестности и неуверенности. Похоже, водители предпочитали регулярный и стабильный доход неизвестности, которую представляла собой потенциальная возможность заработать больше. Они слишком полагались на свои стандартные цели и не понимали, что использование такой возможности в их непосредственных интересах.
Нью-йоркские таксисты занимали и университетского профессора Лизу Ордоньес, когда в 2009 году она с тремя коллегами начала работу над еретическим научным проектом, целью которого было подвергнуть сомнению состоятельность идеи целеполагания. В ее области знаний, то есть теории менеджмента, в теории и практике целеполагания, изложенных в основном в трудах двух североамериканских теоретиков, Гэри Лэтэма и Эдвина Локка, мало кто сомневался. За четыре предыдущих десятилетия эти ученые превратились в настоящих святых отцов целеполагания, выпустив на двоих больше двадцати книг на эту тему. Одной из первых вещей, которую узнавали студенты-новички, приступая к обучению в бизнес-школе, было кредо Лэтэма и Локка: чтобы стать успешным, предпринимателю прежде всего необходим бизнес-план с четко прописанной системой целей. Что-нибудь другое, менее масштабное, неприемлемо. Как сказал Локк одному интервьюеру: «Если попросить человека сделать то, что у него лучше всего получается, он этого не сделает. Слишком туманное указание».
Ордоньес с коллегами возглавили лагерь оппозиции, опубликовав в 2009 году статью с неуклюжим каламбуром в названии – «Цели пошли вразнос», [51]51
Англ. Goals Gone Wild– намек на популярную телефраншизу для взрослых «Girls Gone Wild» («Девки пошли вразнос»).
[Закрыть]– весьма нехарактерным для сухих текстов журнала Academy of Management Perspectives. В статье указывалось, что целеполагание, так хорошо проявившее себя в экспериментах Лэтэма и Локка, показало разнообразные неприятные побочные эффекты в ходе собственных экспериментов авторов. Например, четко описанные задачи мотивировали людей к обману. В одном из таких опытов участникам предлагали составить слова из случайного набора букв, как в игре в скрэббл, и давали им возможность сообщать о своих успехах анонимно. Те, кто получал целевой показатель, врали чаще, чем участники, которых просили «просто постараться». Что еще важнее, погрязшие в ереси Ордоньес сотоварищи утверждали: целеполагание гораздо хуже работает вне стен лабораторий, где проводятся опыты на эту тему. В реальной жизни одержимость целями намного чаще создает проблемы для людей и для целых корпораций.
Один из наглядных примеров подобных проблем – американский автомобильный гигант General Motors. Начало нового века GM встретила в серьезных трудностях, уступая долю рынка и прибыли более находчивым и гибким конкурентам, в первую очередь японцам. Придерживаясь буквы учения Лэтэма и Локка, начальники GM из штаб-квартиры корпорации в Детройте предложили цель, отлитую в цифре. Это была цифра «29». Имелось в виду, что компания собирается вернуть себе былую славу и доминировать на американском автомобильном рынке с долей в 29 %. Об этом было торжественно объявлено широкой публике с приличествующим случаю шумом в средствах массовой информации. Цифра «29» фигурировала также в виде маленьких золотых значков на лацканах костюмов старших руководителей компании, символизируя их решимость выполнить план любой ценой. На корпоративных собраниях и во внутренней переписке всем сотрудникам GM, от продавцов до инженеров и пиарщиков, вбивали в головы целевой показатель – 29.
Однако план не только не сработал, но и ухудшил ситуацию.
Одержимая идеей возврата рыночной доли, GM тратила свои истощенные финансовые ресурсы на схемы выкачивания денег из покупателей и изощренную рекламу, пытавшуюся соблазнить водителей на покупку непопулярных машин.
Все это – вместо того, чтобы вкладываться в разработки, – дело слишком умозрительное, то есть имеющее большую степень неопределенности, но способное дать значимые результаты в виде новых, более популярных моделей. Безусловно, постепенному закату GM сопутствовало множество других факторов, но цифра «29» – фетиш, испортивший организацию, содействовавший развитию недальновидности и сужению кругозора. Все это лишь ради того, чтобы цифры в заголовках деловых изданий соответствовали цифрам на лацканах костюмов вице-президентов. Но этого не случилось. GM вошла в пике и обанкротилась в 2009 году, а в конечном счете для ее спасения потребовалась финансовая поддержка Вашингтона. На детройтском автосалоне 2010 года вновь назначенный президент GM по Северной Америке хотел показать, насколько изменилась компания и чем она точно не будет больше заниматься, и использовал операцию «29» в качестве примера. Он заявил радиорепортеру: «Мы теперь не штампуем значки на лацканы. Больше GM не ввязывается в такие авантюры».
Можно с полной уверенностью сказать, что ответной реакцией Гэри Лэтэма и Эдвина Локка на «Цели пошли вразнос!» явился один из самых яростных всплесков эмоций за всю историю журнала Academy of Management Perspectives. Ордоньес с коллегами обвинили в том, что они экстремисты, а также в использовании «тактики запугивания», в пренебрежении научной эрудицией в пользу набора баек, в «распространении фальшивок и оскорблений» и в «непроверенных утверждениях». Когда я спросил об этом споре Ордоньес, она воскликнула: «О, Боже! У меня целую неделю щеки горели. Это все было так лично! Но поставьте себя на их место. Они сорок лет собирали научные доказательства того, что цели – это прекрасно, а тут являемся мы и указываем на засады. У них просто случилась истерика».
Причина, по которой эти академические сражения могут быть интересны кому-то, кроме их участников, в том, что противники представляют две фундаментально различные школы мысли относительно планирования будущего. Конечно, со стороны Лэтэма и Локка было нечестно обвинять Ордоньес с коллегами в том, что они полностью игнорируют научные данные, заменяя их байками. Но урок «Целей вразнос» во многом состоит в том, что упрощенные условия научной лаборатории почти никогда не пригодны в реальной жизни. В большинстве искусственных опытов по целеполаганию участникам предлагается простая задача или простой набор задач вроде игры в слова, упомянутой выше; некоторым из них предлагается решить задачу, сознавая наличие некой цели, другим – нет. Но на опыте GM понятно, что вне стен лаборатории – в бизнесе или в жизненных ситуациях – ничто и никогда не бывает настолько простым. Выделяя одну цель или группу целей и начиная стремиться к их достижению, вы неизбежно влияете на другие связанные аспекты того, что хотите изменить. В автомобильной промышленности это может быть борьба за установленную долю рынка, сажающую на голодный паек финансирование разработок. В личном плане это может быть достижение целей ценой разрушения собственной жизни. По воспоминаниям Криса Кэйса, однажды во время курса лекций, которые он читал, после окончания занятий к нему «подошел топ-менеджер и рассказал, что поставил себе цель стать миллионером к сорока годам – обычная история для бизнес-школ. У него это получилось – ему было 42, и он держался точно в рамках своего плана. Но при этом он развелся, у него начались проблемы со здоровьем, а его дети наотрез отказывались общаться с ним». Другая его студентка яростно тренировалась, готовясь пробежать марафон. Она достигла своей цели, получив при этом серьезные травмы и несколько недель постельного режима.
Эта проблема глубже, чем можно подумать. Обычный ответ сторонников целеполагания на нее состоит в том, что кто-то поставил себе неверные цели – либо слишком амбициозные, либо заведомо сниженные. Действительно, одни цели выглядят разумнее других. Но есть более серьезная опасность, которая затрагивает буквально все формы планирования. Процесс формулировки видения будущего по определению подразумевает, что вы выделяете один или несколько аспектов вашей жизни, организации или общества и сосредоточиваетесь именно на них в ущерб остальным. Благодаря действию закона непредвиденных последствий, который иногда выражают фразой «невозможно изменить только что-нибудь одно», начинают возникать проблемы.
В любой, даже незначительно сложной, системе трудно предположить, каким образом изменение одной из переменных скажется на других.
Натуралист и философ Джон Мюир [52]52
John Muir (1838–1914) – известный американский писатель-натуралист шотландского происхождения.
[Закрыть]замечал: «Желая вытащить один-единственный предмет, мы обнаруживаем, что он связан со всеми остальными во Вселенной».
Мыслителем, который развил эту идею больше, чем кто-либо, был антрополог Грегори Бейтсон [53]53
Gregory Bateson (1904–1980) – выдающийся англо-американский ученый, начинавший как антрополог, но впоследствии ставший культовой фигурой в мире науки в силу широчайшего круга своих научных интересов и специализаций. Считается одним из наиболее влиятельных мыслителей XX века.
[Закрыть], посвятивший много времени исследованиям повседневной жизни крестьян на острове Бали. Согласно его выводам, своим социальным миром и эффективным функционированием балинезийские деревни были обязаны обычаям и ритуалам, суть которых он определил как «не-максимизация». Бейтсон имел в виду, что традиции препятствовали жителям деревни сосредоточиваться на какой-то одной цели, чтобы не оказывать разрушительного воздействия на другие. Так, например, балинезийская этика бережливости уравновешивалась ритуалами показного расточительства: они сдерживали накопительство, не позволяя ему вредно сказываться на других общественных целях, и смягчали проявления неравенства среди селян. Такой образ жизни резко контрастировал с индустриализированным западным обществом, где все приносилось в жертву максимизации экономического роста. К жизни в Америке или Великобритании лучше всего подошло бы сравнение с быстрым подъемом по лестнице, а сельская жизнь на Бали более походила на бесконечную и грациозную прогулку по натянутому канату в состоянии равновесия, обеспеченного социальным благоденствием, которое не обусловлено никакими конкретными целями. «Продолжительное существование сложных интерактивных систем зависит от возможности предотвращать максимизацию любого из их факторов», – утверждал Бейтсон. Это не аргумент в пользу полного отказа от планирования будущего, а скорее предостережение от чрезмерного увлечения созданием видения каких-либо отдельно взятых его аспектов. Как заметил Крис Кэйс, альпинисты, погибшие в 1996 году на Эвересте, достигли своей цели – они взошли на вершину. Непредвиденным трагическим последствием явилось то, что они не смогли спуститься с нее живыми.
Что может означать приятие неопределенности – просто осознание ее существования или же умение использовать ее? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, я разыскал излечившегося «целеголика», у которого, по моим сведениям, были кое-какие радикальные мысли на этот счет.
Мы встретились со Стивом Шапиро [54]54
Американский консультант по вопросам бизнес-инноваций, автор нескольких бестселлеров на темы управления (www.steveshapiro.com).
[Закрыть]в полутемном баре нью-йоркского Вест-Виллиджа, где он пил свою кружку пива «Samuel Adams», закусывая его чизбургером и вполглаза наблюдая за бейсбольным матчем в телевизоре. С виду это был типичный средний американец 45 лет. Его занятие также вполне соответствовало этому впечатлению: консультант, разъезжающий по стране с деловыми семинарами, чья жизнь состоит в основном из конференц-залов, аэропортов и гостиничных баров с эпизодическими вкраплениями PowerPoint. Однако улыбчивое лицо и дружелюбные манеры скрывают истинную сущность Стива Шапиро – вражеского агента, распространяющего идеи, направленные против главной идеологической установки американского бизнеса. Он утверждает, что следует забыть о целях и использовать неопределенность.
На самом деле Шапиро начинал как типичный успешный американец, настойчиво продвигающийся к своей цели стать высокооплачиваемым бизнес-консультантом. Напряженный рабочий график разрушил его брак. «Не знаю, то ли я работал как сумасшедший из-за своих целей, то ли просто придумывал себе эти цели, пытаясь уйти от проблем в личной жизни», – вспоминал он позже. Чтобы оправиться от удара, он попробовал нагрузить себя еще большим количеством задач и целей (в какой-то момент, по его воспоминаниям, он разрабатывал пятилетний проект «как стать лидером в сфере инноваций»), но ни один из планов не делал его жизнь лучше. Все изменилось после разговора со знакомой, которая сказала, что он тратит слишком много сил на размышления о своем будущем, и посоветовала ему представить себя лягушкой. Пока Шапиро соображал, надо ли ему на это обижаться, она пояснила: «Загораешь себе на кувшинке, пока не надоест, потом перескакиваешь на какую-нибудь другую кувшинку и балдеешь там. И так всю дорогу: куда приспичило – туда и прыгаешь». Образ солнечных ванн на кувшинках не обязательно подразумевает безделье. Предложение знакомой вполне сочеталось с энергичным и целеустремленным характером Шапиро, она просто предлагала использовать эти свойства с большей пользой. Получать удовольствие от того, что делаешь именно сейчас, – значит лучше раскрывать свой потенциал и осуществлять больше по сравнению с изобретением способов достижения счастья через пять лет, тем более что к тому моменту нынешний план уже сменится каким-то другим. Идея заставила Шапиро изменить свой взгляд на вещи, постепенно он превратился в убежденного сторонника отмены целеполагания и стал консультировать по этим вопросам.
Нет ничего удивительного в том, что его платные клиенты не всегда согласны с его предложениями («Иногда на меня смотрят, как на ненормального», – говорит Шапиро). Такое сопротивление знакомо и Крису Кэйсу, который сказал мне: «В каждой компании среди менеджеров обязательно найдется тот, кто заявит: «Вот именно того, что эти люди делали на Эвересте, я и хочу добиться от своих сотрудников. Мне надо, чтобы они рисковали, не думали о последствиях, упорно пробивались вперед». Шапиро начинает преодоление скепсиса своих клиентов с того, что называет «вопросами счастья и собственной удовлетворенности»: людям становится легче, когда они освобождают свою жизнь от погони за целями. Проведенное по его заказу специальное исследование репрезентативных групп взрослых американцев выявило:
41 % опрошенных согласны с тем, что, достигнув своих целей, не стали счастливее или испытали разочарование, а 18 % подтвердили, что погоня за целями стоила им брака, дружбы или других важных отношений.
Интересно, что 36 % респондентов сообщили: чем больше задач они себе ставят, тем больше их стресс, хотя 52 % считали своей главной целью снижение уровня жизненного стресса.
Однако боссов чаще убеждают другие доводы Шапиро: избавившись от целей или не так жестко фокусируясь на них, часто становится возможным сделать работу сотрудников более результативной. Он соблазняет их историями про эффективную работу без обозначенных целей, например, кейсом механиков Формулы-1, с которыми он работал. Членам команды было сказано, что впредь их будут оценивать не по соблюдению нормативов времени операций, а по стилю работы. Получив инструкции, что все «должно идти как по маслу», без намерения побить собственные рекорды скорости работы, они стали выполнять свои обязанности быстрее. Другая история рассказывает о команде продавцов, которая стала справляться с планом после того, как компания засекретила контрольные цифры продаж. «Вы можете понимать общее направление без описанной цели или детального видения будущего. Я сравниваю это с джазовой импровизацией, некая затейливая траектория», – говорит Шапиро.
Несколько лет назад преимущества нецелевого подхода к ведению дел получили более серьезное обоснование, чем просто отдельные истории. Исследователь Сарас Сарасвати собрала группу из 45 предпринимателей, которые соответствовали определению «успешный»: каждый из них не менее 15 лет занимался созданием бизнесов и сумел вывести как минимум одну из созданных компаний на фондовый рынок. Сарасвати познакомила их с детальным описанием некоего гипотетического программного продукта (по недоразумению, речь шла о программе, помогающей предпринимателям запускать новый бизнес) и провела с каждым двухчасовую беседу на тему о том, каким образом можно сделать деньги на этой многообещающей, но довольно туманной идее. Сотни страниц записей этих бесед дополнились еще примерно таким же количеством, когда в целях сравнения она проделала такое же упражнение с руководителями больших корпораций.
Мы обычно представляем себе, что особый предпринимательский дар заключается в умении выбрать оригинальную идею с хорошим потенциалом, создать детальное видение бизнеса, основанного на этой идее, и затем тщательно работать над его воплощением. Но взгляды собеседников Сарасвати редко совпадали с такой четкой картиной. Они имели весьма туманное представление о деталях ожидаемого результата, и их подходы к ведению дел выглядели соответственно. В подавляющем большинстве они выглядели как чистая издевка над доктриной Лэтэма и Локка о первородстве целей. Почти никто из них не собирался делать детальный бизнес-план или заниматься подробным анализом рынка для доработки деталей продукта, который они собирались выпускать. (Один из анонимных собеседников Сарасвати сказал ей: «Не верю я в исследования рынка. Мне как-то сказали умную вещь: по-настоящему нужен только покупатель. Чем задавать кучу вопросов, я лучше продам что-нибудь».) Предприниматели не мыслили, как шеф-повара высшего класса, которые обдумывают воображаемое блюдо во всех деталях, а потом рыщут в поисках идеальных ингредиентов. Скорее они вели себя так же, как ведут себя те, кто собирается на скорую руку приготовить что-нибудь дома: проверить, что есть в холодильнике и буфете, на лету соображая, как это можно использовать. Один из них сказал: «Я всю жизнь живу по принципу «Готовьсь, целься, пли!». Думаю, если тратить много времени на «Готовьсь, целься, целься, целься…», можно не увидеть массы полезного, что случается вокруг, когда начинаешь действовать. Бизнес-планы, конечно, интересная штука, но толку от них мало, ведь в них нельзя заложить все позитивные моменты, которые могут возникнуть». Крис Кэйс убежден, что самое ценное качество успешного предпринимателя – не «видение», «азарт» или непоколебимое упорство в преодолении любых преград, отделяющих его от заветной цели. Скорее, это способность применять нестандартные подходы в процессе познания: не только умение действовать по наитию в выборе способов решения задачи, но и готовность изменять само направление работы. В рамках жестко сформулированной целевой задачи такая гибкость становится невозможна.
Сарас Сарасвати свела свой антицелевой подход к ряду принципов, которые она называет «эффектуация». Возможности их применения выходят далеко за рамки предпринимательской практики, они могут служить в качестве вполне достойной жизненной философии. Используя терминологию Сарасвати, «причинно-мыслящие люди» – это те, кто выбирает или получает некую цель, после чего отбирают из имеющихся ресурсов необходимые и создают план решения задачи. «Результативно-мыслящие люди» смотрят на то, что есть в их распоряжении, и представляют, к каким результатам приведет использование того или иного средства или в каком направлении стоит двигаться, имея данный вид ресурсов. К таким людям следует отнести повара, который при готовке «зачищает» холодильник от всех остатков продуктов, или химика, сообразившего, что получившийся у него недостаточно липкий клей можно использовать в стикерах, или недовольного работой юриста, вдруг понимающего, что он будет счастлив, если использует в качестве источника дохода свои знания и опыт в фотографии. Один из базовых принципов «эффектуации» называется «синица в руке». Он гласит: «Начните с того, что у вас есть. Не ждите, когда вам представится идеальная возможность. Действуйте на основе того, что уже имеется в наличии: вы сами, ваши знания и знакомства». Второй принцип – «принцип допустимой потери»: не увлекайтесь мыслями о том, как будете вознаграждены за ваши усилия, если будете успешны в своем следующем шаге. Лучше подумайте о том, насколько велики будут потери, если вы потерпите неудачу. (Здесь можно услышать отголоски рассуждений стоиков с их фокусом на худший из возможных сценариев.) Если потери приемлемы, этого достаточно для того, чтобы сделать следующий шаг и посмотреть, что получится.
Действительно, «посмотрим, что получится» можно считать девизом такого подхода к работе и жизни, и это означает трезвый расчет, а не метания и путаницу. Психолог Эрих Фромм [55]55
Erich Seligmann Fromm (1900–1980) – выдающийся немецкий психолог, основоположник неофрейдизма.
[Закрыть]утверждал: «Поиск определенности блокирует поиск смыслов, а состояние неопределенности побуждает человека полностью раскрыть свои способности».Неопределенность – начало всего. Именно там находятся возможности для успеха, счастья и полноценной жизни.
Применив эти взгляды в собственной научной области – этике, американский философ, профессор Чикагского университета Марта Нуссбаум заключает: «Быть хорошим человеком означает иметь определенную открытость миру, умение доверять неизвестности, на которую вы не влияете и которая способна даже разрушить вас в исключительных случаях, никак не связанных с вашими действиями. Это очень важно для понимания жизненной этики. Она основана на доверии к неизвестности и готовности открыться, на том, чтобы быть похожим не на драгоценный камень, а на растение: нечто очень уязвимое, чья особенная красота неотделима от уязвимости».