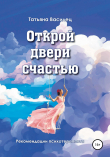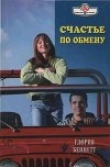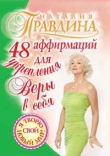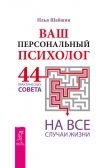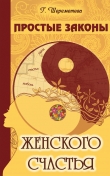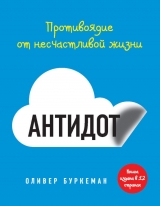
Текст книги "Антидот. Противоядие от несчастливой жизни"
Автор книги: Оливер Буркеман
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Проблема со всеми этими мотивационными штучками в том, что на деле они совершенно не про то, «как привести дела в порядок» или «довести их до конца». Они – про то, как прийти в настроение для занятий делами. «Если мы настроены как надо, то способны на все!» – заявляет автор «Разбуди в себе исполина!» Тони Роббинс [36]36
Anthony Robbins (р. 1960) – американский автор и предприниматель в области самопомощи.
[Закрыть], чьи книги и лекции крутятся вокруг этой темы. (На мотивационных семинарах Роббинса участникам предлагают прийти в нужную форму, погуляв босиком по горячим углям.) Как мы увидели, идеи, которые высказывают гуру самопомощи, часто являются не более чем гиперболизированными или возведенными в крайнюю степень вариантами наших привычных представлений. Понятно, что самой обычной реакцией на прокрастинацию будет попытка «правильно настроиться», то есть заставить себя выполнить работу.
Трудность в том, что намерение действоватьи действие– две разные вещи. Человек, глубоко увязший в прокрастинации, считает, что не способен работать, но на самом деле он не в состоянии заставить себя захотетьработать.
Джулия Фаст, пишущая о психологии депрессии, замечает: когда депрессивный человек не может подняться утром с кровати (а она испытала это на собственном опыте), было бы правильнее говорить не о неспособности подняться, а о неспособности проявить желаниевстать с кровати. Здесь не имеется в виду, что прокрастинаторы или тяжело депрессивные персонажи должны всего-навсего преодолеть себя, чтобы встать и бодро натянуть носки. Речь скорее о том, что мы склонны путать намерение действовать с самим действием и что большинство мотивационных методик в действительности предназначены для воздействия на эмоциональное состояние. Другими словами, они вызывают привязанность к усиленным попыткам создать себе определенное настроение.
Иногда это помогает, а иногда вы просто не можете захотеть действовать. В таких случаях мотивирующие советы могут сослужить плохую службу, исподволь создавая у вас убежденность в неспособности к действию без определенного настроения. Создается эмоциональная привязанность к определенному душевному состоянию, которая становится еще одним барьером на пути к вашей цели. Вам как будто говорят: если, приступая к работе, вы неспособны ощутить восторг и наслаждение, то неспособны работать.
С позиции непривязанности отношение к прокрастинации начинается с вопроса: а почему для того, чтобы что-то делать, вам надо обязательно «настроиться»? То есть проблема не в том, что вы не чувствуете побуждения к действию, а в том, что вообразили, что обязательно должны его испытывать. Если вы отнесетесь к мыслям и чувствам относительно объекта своей прокрастинации как к переменам погоды, то поймете, что вам вовсе незачем избавляться от них или переводить в позитивную плоскость. Вы вполне способны сосуществовать с ними. Вы можете обратить внимание на факт их присутствия, но это не должно помешать вам действовать.
Это хорошо видно на примере рабочих режимов и привычек плодовитых писателей и художников (людей, действительно успевших сделать многое), которые редко включали в себя методы «мотивации к работе» или призыва вдохновения. Напротив, они уходили непосредственно в рабочий процесс, не утруждаясь созданием подходящего расположения духа, а выполняя определенную задачу вне зависимости от собственного настроения. Энтони Троллоп [37]37
Anthony Trollope (1815–1882) – известный английский писатель-романист.
[Закрыть]за свою жизнь сочинил 47 романов. Ежедневно в течение трех часов он занимался литературным трудом, после чего уезжал на работу в почтовое ведомство; если за эти три часа он дописывал какой-то из своих романов и у него оставалось время, он просто переходил к написанию следующего. Режимы почти всех знаменитых авторов, от Чарлза Дарвина до Джона Гришема, похожим образом подразумевали четко обозначенное время начала работы, или общее количество часов, или заданное количество написанных страниц или слов. Такие ритуалы создают определенную структуру деятельности, в которой присутствие вдохновения или особой мотивации к творчеству необязательно. Они позволяют людям работать, невзирая на позитивные или негативные эмоции, и не отвлекаться на усилия по созданию исключительно позитивных. Как верно заметил однажды художник Чак Клоуз [38]38
Chuck Close (р.1940) – знаменитый американский художник-гиперреалист.
[Закрыть]: «Вдохновение нужно любителям. А мы просто приходим и начинаем работать».
Практическую пользу непривязанности лучше всего отражает психотерапевтический метод Морита-терапии, созданный в начале ХХ века японским психологом Сёма Морита [39]39
Сёма Морита (1874–1938) – известный японский психиатр и психотерапевт.
[Закрыть]. Он возглавлял кафедру психиатрии медицинского факультета Токийского университета, и на его взгляды сильно повлиял буддизм, особенно отношение к мыслям и чувствам как к ментальной погоде – тому, что происходит с нами и с чем мы можем мирно сосуществовать. Морита писал: «Люди… считают, что им всегда должно нравиться то, чем они занимаются, и что их жизнь должна быть свободна от невзгод. Следовательно, их душевная энергия растрачивается в бесплодных усилиях избежать неудовольствия или тоски».
Джеймс Хилл, один из современных врачей-практиков, использующих Морита-терапию, описывает ее отличительные особенности следующим образом: «Многие западные методы терапии сосредоточены на попытках управления нашими чувствами или их изменения. Их основная идея в том, что наши чувства могут нам мешать и мы будем жить более осмысленно и успешно, если их изменить или успокоить… Но разве разумно считать, что необходимо «преодолеть» страх перед прыжком в воду с вышки или повысить уверенность в себе перед тем, как предложить девушке свидание? Если бы это действительно было так, большинству людей никогда не удалось бы совершить подобные вещи. Опыт показывает, что для того, чтобы начать действовать, нет необходимости предварительно изменять наши чувства. Научившись принимать их, мы понимаем, что способны к действию, не изменяя расположения духа». Нам может быть страшно, но мы это делаем.
К концу четвертого дня в Обществе медитации «Прозрение» дела стали налаживаться. Я больше не раздражался по поводу бороды и его шумного дыхания. Все мы вписались в рамки распорядка, по которому спали, просыпались, медитировали и питались; то, что поначалу казалось казарменной строгостью, теперь просто мягко направляло нас по ходу дня. Я начал получать удовольствие от медитации, даже от ходячей медитации, которая представляла собой медленное передвижение по залу в попытках разделить ощущения от движения ноги на составные части в виде «подъема», «хода» и «опускания», и поначалу казалось мне бредовым занятием. Во время случайных вылазок в лес позади здания я обнаружил, что стал гиперчувствителен к окружающему: любой хруст веточки под ногой отзывался хрустальным звоном. Одновременно с этим приобрела выдающиеся качества и вегетарианская еда, которой нас кормили, – невнятная тушеная фасоль, арахисовая паста с ржаными крекерами и т. д. В этой пасте я обнаружил удивительно тонкие оттенки вкуса, о существовании которых раньше не подозревал. Зимний массачусетский закат, открывавшийся с парадного крыльца здания, был красив до слез. Мой ночной сон был спокойнее, чем когда-либо ранее.
Но вдруг все испортилось. Незаметно для меня зал для медитации стал походить на помещение суда и камеру пыток одновременно. Часами меня атаковали полчища негативных мыслей и связанных с ними эмоций – чувства раздражения, вины, сомнения, враждебности, нетерпения, скуки и даже страха. Казалось, они годами где-то накапливались, чтобы обрушиться на меня именно в этот момент. Большинство из них были самокритического свойства. Неожиданно я понял, как плохо поступал в огромном количестве случаев на протяжении всей своей жизни по отношению к окружающим: родителям, сестре, друзьям, подружкам, коллегам. Это могли быть мелкие проступки, не нарушающие общей схемы вещей (кому-то что-то сказал не так, недостаточно серьезно отнесся к чему-то и т. п.), но они наполняли меня грустью. Несколько месяцев спустя в одном буддийском тексте я обнаружил указание на то, что это обычное явление на ранних стадиях «пути прозрения», по которому продвигается медитирующий. Оно называется «познание причины и следствия» и связано с новым постижением причинно-следственной связи между действиями и их последствиями. Печаль, сопровождающая это понимание, с буддийской точки зрения становится доброй благодатной почвой для появления ростков сострадания.
Проведя в таком состоянии день, я начал кое-что замечать. Ситуация в моем сознании была далека от спокойной и расслабленной, но постоянные усилия сосредоточения на дыхании, чтобы разрывать привязанности к мыслям или чувствам, стали приносить определенные результаты. Моя точка обзора собственной умственной деятельности изменилась – я как будто поднялся по приставной лестнице на пару перекладин вверх и теперь просто наблюдал, не будучи сильно вовлеченным во все это. Как заметил бы Сёма Морита, я начал видеть в этом ментальные события, которые не следует подвергать оценке. Большинство моих мыслей находилось в прошлом или в будущем, но меня уже не затягивало ни в мечты, ни в неприятные воспоминания: я полностью находился в настоящем и, сидя здесь на своем коврике, наблюдал за представлением в моей голове с несколько меньшей паникой и с большим интересом. В некоторых дзенских монастырях принята практика неожиданного удара тонкой деревянной линейкой-кёсаку – его наносит наставник, чтобы вернуть медитирующего монаха к действительности. В Обществе медитации «Прозрение» медитирующих не бьют, но мне казалось, будто меня кто-то стукнул, – настолько ясно я стал видеть происходящее в моем сознании.
Самое странное и трудно поддающееся описанию словами во всем этом – а откуда, собственно, я это вижу? Где находится наблюдательный пункт, если я больше не вовлечен в ход своих мыслей? Нигде? Везде? Мне казалось, что я ступил в бездну. Я вспомнил свой разговор с Адиной в такси и высказывание Пемы Чодрон о «расслабленности в зыбкости нашего положения». Неожиданно я понял, что провел свою жизнь, отчаянно цепляясь за мысли, в попытках избежать падения в пустоту, которая находится под ними. А теперь я находился в этой бездне, и это совершенно не пугало меня. К концу ретрита я с удивлением обнаружил, что не хочу, чтобы он заканчивался, и легко остался бы еще на недельку. Кроме того, я почувствовал, что нахожусь среди друзей. Хотя я и словом не обмолвился с большинством участников ретрита и не узнал бы никого из них на улице, поскольку мы продолжали ходить глазами в пол, в зале для медитации стало ощущаться некое единение. Когда прозвучал удар гонга, означавший, что мы снова можем разговаривать, произошел неловкий обмен репликами, показавшийся неуместным на фоне этого единения. Адина, которую я случайно встретил на крыльце здания перед отъездом, сказала только: «Ну, это было…» – и погрузилась в молчание. Попытка уместить содержание этой недели в несколько слов явно была бесполезной затеей, и я ответил: «Понимаю тебя».
К моменту посадки на поезд в Нью-Йорк у меня жутко разболелась голова – обычные звуки мира, не погруженного в медитацию, оказались чересчур громкими для моего привыкшего к тишине сознания. Головной боли сильно поспособствовало и количество входящих писем в моей электронной почте. Но напряженные мысли исчезали немного быстрее, чем всегда, и было понятно, что я легко переживу эту небольшую непогоду.
Все это лишь малая часть буддийского учения о психологии. Но ее содержание соответствует любому «негативному» подходу к счастью: как правило, нет смысла пытаться изменить погоду. Корейский дзен-мастер старой школы Сун Сан [40]40
Сун Сан Дэ Сон Са Ним (1927–2004) – дзэн-мастер корейского буддийского ордена Чоге.
[Закрыть], который носил с собой кёсаку, говорил, выступая перед американской аудиторией в 1970-х годах: «Ясный ум – как полная луна в небе. Иногда облака приходят и закрывают ее, но луна всегда за ними. Облака уходят, и тогда луна сияет ярко. Поэтому не тревожьтесь о ясном уме, он всегда тут. Когда приходят мысли, то ясный ум позади них. Мышление приходит и уходит, приходит и уходит. Вы не должны быть привязаны к этим уходам и приходам».А если окажется, что слушателям не вполне понятно, что им не надо привязываться к своим умственным сценариям, что они могут непредвзято наблюдать за своими мыслями и чувствами и так обрести спокойствие среди общего смятения? В таких случаях Сун Сан любил повторять: «Тогда я ударю вас своей палкой тридцать раз!»
Глава 4. Целепомешательство.
Неудачные попытки поставить будущее под контроль
В 1996 году 28-летний молодой человек из штата Индиана по имени Кристофер Кэйс отправился в поход по Гималаям, организованный туристической фирмой, специализировавшейся на приключениях. В ретроспективе его первоначальное намерение может выглядеть как насмешка: он полностью выдохся, работая сначала биржевым брокером, а затем бизнес-консультантом, и хотел просто отдохнуть и расслабиться. Кэйс всегда интересовался психологическими аспектами бизнеса и собирался заняться получением докторской степени в области организационного поведения, но прежде всего ему требовалось отдохнуть, и рекламное объявление о наборе группы для похода по Непалу сулило в этом смысле прекрасную возможность. Позднее он вспоминал, как на подлете к Катманду с радостью предвкушал свое «бодрящее погружение в непальскую культуру» в окружении природных красот Гималаев. Вместо этого в горах Кэйс встретился с мрачной психологической загадкой, которая во многом определила содержание его последующей жизни.
В то же самое время, когда Кэйс и его товарищи по походу бродили, ночуя в палатках, по предгорьям Эвереста, на его пике происходила катастрофа, которой было суждено войти в историю. В течение того сезона там погибло 15 альпинистов, причем 8 из них – за одни сутки, которые навсегда вошли в анналы альпинизма, не в последнюю очередь благодаря успеху книги «В разреженный воздух» журналиста Джона Кракауэра [42]42
Jon Krakauer (р.1954) – американский писатель, журналист и альпинист, автор нескольких бестселлеров на «острые» темы.
[Закрыть], находившегося на горе в это время. В предгорьях Кэйсу встречались участники этих событий: измотанные и потрясенные альпинисты и спасатели, мучительно пытавшиеся понять, что же все-таки произошло.
Смертельные случаи при восхождениях на Эверест не редкость в наши дни, когда любой человек при деньгах и с минимальными альпинистскими навыками может купить себе место в коммерческой экспедиции, которая доставит его на вершину горы. Но катастрофа 1996 года остается особенно жуткой не только из-за количества жертв, а в первую очередь потому, что представляется совершенно необъяснимой. Погодные условия на вершине были не более опасны, чем обычно. Неожиданных сходов лавин тоже не было. Все коммерческие участники восхождений были достаточно опытными. Книга «В разреженный воздух» возлагает частичную вину за трагедию на упрямство и самонадеянность альпиниста-гида из Казахстана Анатолия Букреева [43]43
Букреев Анатолий Николаевич (1958–1997) – знаменитый советский, затем казахстанский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер советских, казахстанских и российских государственных наград. Погиб при восхождении на Аннапурну. Считается, что его роль в трагедии на Эвересте 1996 года сильно искажена Кракауэром в его книге.
[Закрыть], и хотя для подобных выводов и есть некоторые основания, они не годятся в качестве полноценного объяснения случившегося. Занятия альпинизмом в принципе подразумевают склонность человека к самоуверенности и упрямству, но такие катастрофы, как в 1996 году на Эвересте, к счастью, случаются редко.
Все это было больше похоже на приступ массового помешательства, достигшего апогея около полудня 10 мая на Ступени Хиллари, скалистой стене всего в 220 метрах от вершины, во время инцидента, впоследствии получившего название «дорожная пробка». Команды из Новой Зеландии, США и Тайваня, всего 34 человека, одновременно начали последний этап восхождения: от лагеря IV, расположенного на высоте 7 925 метров, на высоту 8 839 метров – к вершине. Американцы и новозеландцы скоординировали свои действия, чтобы обеспечить спокойный подъем и спуск с горы, но тайваньцы были не согласны отложить свое восхождение на другой день; кроме того, авангарду гидов не удалось закрепить страховочные тросы на Ступени Хиллари, как предусматривалось планом. В результате планомерное передвижение восходителей к пику быстро превратилось в подобие дорожной пробки.
Время – один из главных факторов, которые необходимо учитывать при попытках штурма Эвереста, и альпинисты обычно очень жестко соблюдают время разворота на спуск. Если выйти со станции IV около полуночи, можно рассчитывать добраться до вершины около полудня. Но если альпинистам не удается сделать это до заранее оговоренного времени разворота, которое, в зависимости от погодных условий и склонности к риску руководителя группы, может находиться в интервале между полуднем и двумя часами дня, необходимо отказаться от попытки и возвращаться в лагерь. Не сделав этого, восходитель рискует израсходовать весь запас кислорода в баллонах и остаться наедине с самой опасной погодой на Эвересте, которая обычно начинается с наступлением темноты. Однако группы, скучившиеся в «дорожную пробку» на Ступени Хиллари, продолжали подниматься, забыв о существовании времени разворота. Наблюдая за медленным продвижением восходителей в телескоп, находившийся в лагере IV, американский альпинист Эд Вистурс не верил своим глазам. «Они поднимаются уже много часов и все еще не достигли вершины. Почему они не возвращаются?» – думал он с нарастающей тревогой.
В течение еще двух часов после 14.00 – последнего безопасного времени разворота на спуск – члены всех трех групп продолжали прибывать на вершину. Последним, кто сделал это около 16.00, то есть в невероятно позднее для этого время, был Дуг Хансен, служащий почтового ведомства из штата Вашингтон и коммерческий участник новозеландской группы. Он уже поднимался на Эверест за год до этого, но был вынужден повернуть на спуск за несколько десятков метров до вершины. На сей раз ему не удалось спуститься. С наступлением темноты началась сильнейшая пурга, температура воздуха упала до –40 градусов Цельсия, и он вместе с семью другими восходителями лишился возможности передвигаться по горе. Они умирали, и все отчаянные попытки спасателей добраться до них оказались бесполезными. Спустя годы после того, как восхождения на Эверест стали доступны не только профессионалам, но и любителям, 1996 год остается рекордным по количеству смертей в истории покорения горы. По сегодняшний день никто не может внятно ответить на вопрос, почему это произошло.
Хотя вполне возможно, что ответ ясен Крису Кэйсу. Казалось бы, чем может быть полезен бывший биржевой брокер, превратившийся в эксперта по организационному поведению, в расследовании причин гибели людей в катастрофе при альпинистском восхождении? Но по возвращении домой Кэйс продолжал живо интересоваться подробностями инцидента, и чем больше деталей он узнавал, тем больше случившееся напоминало ему о явлении, которое он слишком часто наблюдал в деловой среде. Кэйс начал подозревать, что покорителей Эвереста «привело к гибели их безумное стремление к цели». По его гипотезе, они настолько сосредоточились на конечной цели – своем успешном появлении на вершине, что это стало для них не просто внешним ориентиром, а частью личности и элементом самовосприятия, причем как для амбициозных любителей, так и для профессиональных гидов-альпинистов.
Если считать догадку Кэйса верной, то по мере продвижения восходителям становилось все труднее отказаться от цели, несмотря даже на очевидные признаки того, что она приобретает характер самоубийственной.
Именно эти явные признаки и могли, по его мнению, подпитывать решимость альпинистов не отступать. Покорение вершины стало для них равносильно сохранению собственного «я». Богословский термин «теодицея» означает веру в милосердного Бога, невзирая на существующее в мире зло, – этим словом иногда пользуются, когда говорят о вере во что-то вопреки объективным фактам. По аналогии Крис Кэйс назвал описанное им явление «целедицея».
Еще во времена своей работы в бизнесе Кэйс поражался тому, насколько догматический характер приобретает целеполагание среди его коллег. Сегодня эта ситуация почти не изменилась. Широко распространено мнение, согласно которому признаки выдающегося лидера – готовность ставить перед своей организацией масштабные и дерзкие задачи и умение использовать все имеющиеся ресурсы для их решения. Сотрудникам же рекомендуется (а иногда и вменяется в обязанность) четко определять свои собственные рабочие цели, желательно в формате SMART [44]44
Аббревиатура, широко применяемая в менеджменте и проектном управлении: от англ. Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-bounded (конкретно, измеримо, достижимо, реалистично, в определенное время) – критерии, которые должны присутствовать в описании задачи, чтобы сделать возможной объективную оценку ее выполнения.
[Закрыть]. Многочисленные пособия по самосовершенствованию заверяют: амбициозные и детально сформулированные цели – вроде «В это же самое время через год я буду женат на женщине моей мечты/сидеть на террасе моего пляжного домика/получать 10 тысяч фунтов в месяц!» – способны обеспечить доступ во все области будущей счастливой и радостной жизни. Брайан Трейси, один из наиболее страстных проповедников этого занятия, в своей книге «Цели! Как получить все, что вы хотите, быстрее, чем вам казалось возможным» [45]45
Brian Tracy (р.1944) – автор многочисленных бестселлеров на тему в достижении успеха в самых различных областях. В первом русском издании эта его книга скромно названа «Достижение цели».
[Закрыть]утверждает: «Жизнь без четких целей похожа на поездку в густом тумане… Четкие цели позволят вам вдавить в пол педаль газа вашей жизни и быстро умчаться вперед».
Но Кэйс не мог не видеть, что очень часто этого не происходит. Бизнес-задача формулируется, о ней объявляют и обычно с энтузиазмом приветствуют ее появление. Но затем постепенно начинает выясняться, что она не совсем корректна – и реакцией на это становится «целедицея». Негативные данные используются как подтверждение недостаточности ресурсов и усилий, используемых для достижения цели и в оправдание необходимости дополнительных вложений и того, и другого. Неудивительно, что в результате ситуация может стать еще хуже.
Сейчас Крис Кэйс – профессор менеджмента в университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия. Использование им случая на Эвересте в качестве метафоры одержимости постановкой целей в его лекциях часто считают неуместным. Однажды он получил по электронной почте письмо от одного из своих русских студентов со строгой нотацией: «Деловым людям не следует изучать настолько эмоциональные и трагические темы. Подобные вопросы и дилеммы, которые ставит перед человеком жизнь, следует оставить поэтам, романистам и драматургам. Эти темы не имеют ничего общего с предметной областью управления организацией». Но Кэйс с этим не согласен. В разговоре со мной он заметил: «Наверное, и дня не проходит, чтобы я не подумал о том случае на Эвересте. Как будто умер кто-то из членов моей семьи. Наверное, самым правильным в этом случае было бы сказать, что та ситуация преследует меня». Кроме того, для гипотезы Кэйса существуют убедительные подтверждения в виде данных психологического исследования 1963 года, о котором сегодня мало кто помнит. Его объектом было поведение профессиональных восходителей во время экспедиции на Эверест.
В том году 17 альпинистов решили предпринять попытку стать первыми американцами на вершине Эвереста, а психолог по имени Джеймс Лестер решил, что эта экспедиция будет отличным случаем выяснить, что именно движет людьми, которые решаются на столь амбициозные и опасные предприятия. Лестер с коллегами получил финансирование от американского военно-морского флота и собрал альпинистов в Беркли, штат Калифорния, для прохождения личностных тестов. После этого, с удивительным упорством в приверженности своему исследованию, ученый покинул солнечную Калифорнию, отправился в горы вместе с экспедицией и добрался до станции II, где провел еще одну серию тестов с альпинистами и их носильщиками-шерпами. В своей книге «Пагубное стремление к цели: трагедия на Эвересте» Крис Кэйс цитирует основные характеристики совершающего восхождение альпиниста в описании Лестера: это человек, демонстрирующий «значительную непоседливость, нелюбовь к рутине, стремление к самостоятельности, тенденцию к доминированию в межличностных отношениях и недостаток интереса к социальному взаимодействию. Их потребность в достижениях и независимости крайне велика». В этом нет ничего нового: Лестер просто подтверждает общеизвестное мнение об альпинистах, как об одиночках со склонностью к доминированию, не особенно охотно придерживающихся социальных норм. Но намного более интересные вещи выясняются после изучения дневников, которые Лестер просил участников экспедиции заполнять ежедневно во время трехмесячного подготовительного периода и в процессе самого восхождения к вершине.
На пути к базовому лагерю американские альпинисты разошлись во взглядах относительно лучшего способа достигнуть пика. Большая часть команды считала, что следует придерживаться хорошо известного маршрута через Южное Седло – горный перевал, насквозь продуваемый сильными ветрами и по этой причине менее заснеженный. Меньшая группа участников хотела использовать для восхождения отдаленный и прежде не испытанный Западный Хребет. (И на сегодняшний день печальная статистика смертности при восхождениях через Западный Хребет превышает 100 %, что означает превышение числа погибших над числом достигших вершины этим путем.) Заметив эту разницу во мнениях среди альпинистов, Лестер сделал все возможное, чтобы в дневниках они регулярно отчитывались о своих пессимистических или оптимистических чувствах по отношению к выбранному ими маршруту.
Последующий анализ дневников принес неожиданности с точки зрения типичной модели поведения. С приближением дня начала восхождения оптимизм участников, выбравших Западный Хребет, начал быстро угасать, уступая место гложущему чувству неуверенности. Этого и следовало ожидать, учитывая неизведанный маршрут. Но одновременно с ростом неуверенности и пессимизма альпинистов по поводу своего выбора росла и их приверженность к этому пути восхождения. По словам Кэйса, «чем большую неуверенность испытывали восходители по поводу возможности успешного подъема на вершину, тем более склонны становились достигнуть цели именно таким путем». Их поведение пошло по замкнутому кругу или, скорее, спирали: члены команды активно собирали негативную информацию о своей цели (например, статистику и прогнозы погоды, свидетельствующие о максимально высоком уровне риска восхождения по Западному Хребту), которая способствовала росту их неуверенности. А затем, пытаясь заглушить эти сомнения, альпинисты усиленно поднимали уровень своего психологического настроя на достижение цели именно в рамках принятого решения.
Казалось, цель стала частью их индивидуальностей, поэтому неуверенность в возможности достичь ее оценивалась как прямая угроза цельности собственной личности, и вследствие этого какие-либо изменения общего направления действий не рассматривались в принципе.
Им так хотелось избавиться от неуверенности, что они еще сильнее полагались на наличие четкого, ясного и детального плана, хотя он выглядел все более и более безрассудным.
Счастливый исход экспедиции 1963 года состоял в том, что сторонники маршрута через Западный Хребет воплотили свои намерения и остались в живых, хоть это и противоречит выводам стройной теории Кэйса. В то же время слишком многие из участников восхождения 1996 года погибли, и мы никогда не сможем достаточно обоснованно утверждать, что в этом повинно именно такого рода мышление. Но Бек Уизерс, коммерческий участник того восхождения, смог подтвердить правдоподобие данной версии. Его дважды считали погибшим на восхождении, но он добрался до лагеря ползком и потерял в результате обморожения несколько пальцев и нос. Впоследствии Уизерс размышлял: «С целями легко перестараться, можно стать слишком одержимым ими».
Конечно, альпинисты не разговаривают корпоративным языком таргетов и целеполаганий. Но когда они упоминают о «манящей вершине», этом странно притягивающем, иногда фатальном чувстве, которое горы способны поселить в сознании альпиниста, они интуитивно говорят о похожей вещи: о стремлении к цели. Подобно пению сирен, завлекавших корабли на скалы, она может погубить тех, кто слишком сильно стремится к ней. Эд Вистурс, наблюдавший трагедию 1996 года в свой телескоп, высказался об этом влечении без иносказаний: «Когда ты там, наверху, и годами тренировался, и неделями залезал туда, и теперь видишь – вот она, вершина, а тебе вдруг становится ясно, что нужно поворачивать назад, потому что уже поздно, потому что кислорода может не хватить… Но вершина – прямо перед тобой, и она манит тебя. И многие ребята… их туда просто магнитом тянет, тянет так, что они забывают о правилах и идут на вершину. Если повезет, то все обойдется. А если нет – ты труп».
Если вы читали хоть одну из популярных книжек о пользе планирования своего будущего, в ней почти наверняка была ссылка (а может быть, и несколько) на Йельское исследование целей. Эти данные о важности создания детальных планов на жизнь стали легендарными; его цитируют в уже упомянутых «Целях!» Брайана Трейси, а также во множестве других трудов, от якобы академических (с названиями вроде «Психологические основы успеха») до самых популярных (учебник менеджмента «Обучи своих людей и замочи конкурентов!»). Краткое содержание исследования: в 1953 году ученые спросили у выпускников Йельского университета, составляют ли они детальные письменные планы своей дальнейшей жизни. Только 3 % опрошенных ответили утвердительно. Два десятилетия спустя ученые выяснили, как сложилась судьба выпускников 1953 года. Результат был однозначным: те самые 3 % выпускников с детально прописанными жизненными целями заработали денег больше, чем все остальные 97 %, вместе взятые. Это поразительное открытие и важнейший урок для юношества, считающего, что в жизни можно просто плыть по течению. В связи с этим неудивительно, что исследование приобрело легендарный статус – как в мире самопомощи, так и в самых темных уголках корпоративной жизни. Единственная проблема в том, что это настоящая легенда: Йельское исследование целей не имело места в действительности.
Несколько лет назад журналист технологического издания Fast Company отправился на поиски оригинала предполагаемого исследования. Поскольку упоминания о нем никогда не подкреплялись ссылками на научные источники, он начал задавать вопросы гуру мотивации, которым так нравится его цитировать. Когда их спрашивали об источниках, каждый из них без долгих раздумий указывал на кого-то еще из своей когорты. Тони Роббинс посоветовал обратиться к Брайану Трейси, а тот направил журналиста к Зигу Зиглеру [46]46
Hilary Hinton «Zig» Ziglar (р. 1926) – американский оратор-мотиватор и автор книг по самопомощи.
[Закрыть], ветерану движения ораторов-мотиваторов и постоянному персонажу семинаров Get Motivated!. Замыкая круг, Зиг Зиглер порекомендовал обратиться к Тони Роббинсу.
Решив разобраться в этом туманном деле самостоятельно, я позвонил Беверли Уотерс, старшему архивариусу Йельского университета. Она была дружелюбна и готова помочь, но, когда я упомянул об исследовании целей, в ее голосе появились нотки досады: «Когда несколько лет назад эта тема возникла, я провела системную проверку и ничего не обнаружила. Потом секретарь выпуска 1953 года сделал еще одну проверку, и ни один из его собеседников не подтвердил, что его когда-либо просили заполнить такую анкету». Она добавила: маловероятно, чтобы это случилось в каком-то другом году и по ошибке отнесено к 1953-му, потому что в подобном деле обязательно должна была участвовать Ассоциация выпускников Йеля, а там не нашли никого, кто помнил бы об этом. «Мне кажется, это слишком похоже на вымысел», – вздохнула Уотерс.