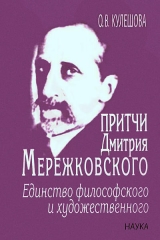
Текст книги "Притчи Дмитрия Мережковского: единство философского и художественного"
Автор книги: Ольга Кулешова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
На русской почве близким Мережковскому с формальной точки зрения нужно признать творчество В.Ф. Одоевского. Мережковский в теории отрицая рациональное познание, предпочитая «знание ночное» – откровение божественной интуиции, при создании философского романа активно пользуется достижениями рационального познания и не отвергает последние, а скорее сочетает с прозрением интуитивным. Подобная творческая позиция духовно роднит Мережковского с В.Ф. Одоевским, проповедующим соединение разума и инстинкта, и приводит к аналогичным достижениям 140 в формальном творчестве. Теоретическая часть произведений Мережковского не выпадает из романной структуры, а остается исходной философемой (развернутой философемой, представляющей собой авторский монолог, изобилующий художественными фигурами: эпитетами, сравнениями, метафорами, иногда включающий миф или вставную новеллу). Использование Одоевским «достаточно образных (эстетизированных) формул» в монологах, насыщенных научной терминологией и воплощающих теоретические раздумья автора, «отсутствие подлинной диалогичности и сильный авторский дидактический тон», справедливо отмеченные В.В. Агеносовым[164]164
14 Агеносов В.В. Указ. соч. С. 68.
[Закрыть], сближают творчество Одоевского с теми принципами, которыми руководствовался Мережковский при создании произведений в жанре философского романа-концепции. Отсутствие подлинной диалогичности характерно для романа-концепции Мережковского, а настойчивый авторский голос носит не дидактический, а проповеднический характер, что связано с философской спецификой творческого мировоззрения писателя.
Сходные теоретические взгляды на природу творчества у Одоевского и Мережковского, продолжающих романную традицию Вольтера, склонного к подчинению реальной действительности философской схеме, приводят писателей к использованию «вертикального времени» (Бахтин) и организации романной структуры по принципу контрапункта. Условность времени у Одоевского, 141 выражающаяся в отсутствии причинно-следственных связей и установлении смысловой близости разновременных событий, характерна и для организации романной структуры у Мережковского, который пытался не только соединить в плоскости одного романа события разных исторических эпох для истолкования духовных событий и изъяснения их метафизической глубины, но и расширить границы земного времени, соединяющего мгновение с вечностью, для установления связей явлений двух порядков – материального и идеального, духовного. События настоящего и прошлого, сегодняшнее и принадлежащее многовековой истории (независимо от степени давности, будь то дохристианская эпоха, эпоха раннего христианства или близкий ему XIX век) имеют для Мережковского одинаковый смысл, являясь иллюстрацией духовной истории человечества, раскрывая движение Духа в мире, демонстрируя достижения духовной, идеальной эволюции.
Те же функции выполняет у Мережковского и безграничное расширение пространства, простирающегося далее пределов земных и обретающего космические черты. Время, включающее земное время истории и идеальное время мистерии, и пространство, способное расширяться от географического пространства земного государства до космических, вселенских, надмирных высот, обусловливают синкретичную структуру концептуальных романов Мережковского, тяготеющих к воссоединению, синтезу философской мысли и изобразительных возможностей художественного 142 творчества, проявляющемуся «в живом нарастании, переплетении, скрещивании многообразных мотивов и тенденций по законам какого-то ему одному свойственного контрапункта»[165]165
15 Бахтин Н. Мережковский и история // Звено. Париж, 1926. 24 мая.
[Закрыть]. Подобную тенденцию отмечает В.В. Агеносов в творчестве В.Ф. Одоевского: он «дал теоретическое осмысление философского романа как синтеза интеллектуально повышенного философского содержания и художественного образа и осуществил смелую попытку воплощения этого синтеза на практике на пути создания сложнейшей многоступенчатой структуры художественного повествования… Одоевский благодаря романтической фрагментарности и сложнейшей системе сюжетно-композиционной инструментовки, ассоциаций, вариаций (того, что он называл контрапунктом) добился многозначности и диалектичности изображения»[166]166
16 Агеносов В.В. Указ. соч. С. 75–76.
[Закрыть].
Являясь духовным наследником Достоевского в философском смысле, широко используя цитаты и реминисценции из творчества классика, переосмысляя идеи и заимствуя художественные образы Достоевского для подтверждения своих мыслей, Мережковский почти полностью избежал его влияния в формальном творчестве. Акцентируя внимание на значении идеи и идеологичности романов Достоевского, высоко оценивая типологизацию художественного образа писателя, Мережковский оставляет без внимания и психологизм его романов, интерес к психологии человеческой личности. Продолжая в литературе философскую линию Достоевского, в формальном смысле 143 Мережковский заимствует у Достоевского лишь основной принцип романа, представляющий идею основным сюжетообразующим элементом. Идея у Мережковского, вырастая в «предмет художественного изображения» (М.М. Бахтин)[167]167
17 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 97.
[Закрыть], часто выходя за рамки художественного образа, становится самодовлеющей, определяя судьбу героя, мотивируя его поступки и объясняя внутренние устремления. У Достоевского идея обусловлена внутренними качествами исповедующей ее личности: психическим складом и менталитетом, у Мережковского – внутренний облик и поступки героя обусловлены и определяются внеположенной ему бытийственной идеей идеального мироздания. С одной стороны, герой испытывает своим бытием эту идею, являясь творцом земной судьбы, с другой – становится частью идеального мира, его земным воплощением, выполняя свое телеологическое назначение в движении человечества по пути духовной эволюции к слиянию с духовным абсолютом, и частью философской концепции автора, испытывая ее в своей земной судьбе. Подобная идеологическая «зависимость» героев Мережковского дала основание современным исследователям литературы причислять автора к литературной традиции трагедии рока, отрицать свободу воли его героев и даже – постановку проблемы свободы и достоинства человека на философском уровне, отрицать антропологический аспект философии автора. Подобные представления, по нашему мнению, не учитывают полноту и диалектичность видения мира писателем, 144 обогатившим (следуя традиции Достоевского) не только содержательную, но и формальную сторону своих поздних произведений включением противоборствующих концепций «Рго» и «Contra». Данный принцип, положенный в основу романной структуры, позволил Мережковскому разрешить одну из основных антиномий миропорядка, выражающуюся в диалектическом единстве существования свободной воли человека и заданности, телеологичности духовной эволюции идеального мира, проявляющихся в движении исторического человечества к концу всемирной истории, в стремлении идеальной субстанции – Духа Святого – к слиянию с абсолютом в Царстве Божием.
Таким образом, создавая «роман с максимальным авторским участием», посвящая значительную часть произведения философскому осмыслению субстанциальных вопросов бытия и сопровождая события в жизни героев неизменной авторской оценкой, Мережковский не разрушает романного жанра и не впадает в крайность полнейшей приверженности философской схеме, а пытается воплотить в рамках романного полотна диалектическую сложность взаимодействия категорий идеального и материального в мире, уживающуюся как в рамках определенных исторических периодов в истории человечества, так и в личности каждого отдельно взятого человека. Заострение противоречий и возможность их разрешения как на уровне всемирной истории, так и в судьбе отдельного человека в творчестве Мережковского объясняются не приверженностью писателя к 145 примитивно понятой диалектической схеме: теза – антитеза – синтез, а глубокой философской основой идеалистического мировоззрения писателя, пытающегося проникнуть в высшее диалектическое единство материи и духа, осознать духовные и идеальные возможности каждой отдельной личности и человечества в целом, найти в низшем мире материи потенциальную возможность к обожествлению и достижению полноценного абсолютного бытия в Духе.
Итак, основная особенность и своеобразие романного полотна Мережковского – активность философской идеи в произведении. Философская идея существует в романе двояко: выражает собственно философскую мысль в рамках общей концепции автора, воплощаясь в ярких авторских монологах, и моделирует психологический облик героев, определяет духовные коллизии и перипетии их земной судьбы. Авторский монолог у Мережковского представляет собой образную художественную речь, насыщенную поэтическими фигурами и изобилующую экспрессивной лексикой, что обличает в авторе не отстраненного философа, оперирующего научной терминологией, а скорее поэта или мыслителя-романтика, воплощающего свою философскую позицию в монологе лирического героя. Подобный принцип построения авторского монолога обусловлен иррациональным, мистическим характером миросозерцания писателя и его приверженностью к художественному осмысливанию действительности путем создания образа. Частая замена логического доказательства 146 эмоционально-экспрессивной образной формулировкой, с одной стороны, свидетельствует об особенности гносеологической концепции писателя, основанной на приоритете интуитивного познания перед рациональным, а с другой стороны, говорит о поэтическом строе мысли Мережковского, стремящегося не выходить за рамки художественного произведения. Психологический облик героя, прорисовка характера выполняются Мережковским в русле философской идеи, поручаемой автором для жизненной проверки персонажу. Идея начинает преобладать над образом, но герой не становится «рупором идей» писателя, он осуществляет свою индивидуальную судьбу, соотносимую автором с собственным духовным абсолютом, понимающим высшее назначение человека как слияние с идеальными субстанциями. Земное существование героя обретает телеологический смысл, раскрывающийся путем включения обыденной исторической жизни в космический процесс и заставляющий реальное историческое бытие взаимодействовать с идеальными категориями.
Романы, созданные Мережковским в эмиграции в жанре философского романа-концепции, становясь частями единого интеллектуального полотна (особенность творчества писателя, подмеченная им самим еще в дореволюционный период), несут в себе двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, это строго определенные части философской концепции автора, прорабатывающие различные проблемы и идеи, с другой – неизменная картина мира, главная роль в котором 147 отводится Личности, движущей духовную эволюцию к достижению абсолюта, т. е. к Концу мира. Герои Мережковского разнятся психологическими чертами характеров, разделены земным временем и призваны прорабатывать различные положения философской концепции автора, но все они занимают одно положение по отношению к миру, являясь духовными движителями эволюции, стремящейся завершиться в абсолютном Конце. Все они выражают горячее стремление писателя приблизить мир к духовному абсолюту, призванному стать Концом и Началом, новым воплощением идеального в материальном мире.
Особенность романного полотна Мережковского в тождественности философской концепции автора художественному миру создаваемых произведений. Философская концепция рождается и передается в сфере художественного мышления, где идея и образ не иллюстрируют, а взаимно обусловливают друг друга, образуя единый конгломерат философско-художественного содержания, в котором уже невозможно установить первопричину.
Прологом художественной картины мира, создаваемой Мережковским в период эмиграции, становятся романы «Рождение богов: Тутанкамон на Крите» (Прага, 1925) и «Мессия» (Париж, 1928), где Мережковский работает в жанре философского романа, вплотную подходя к созданию романа-концепции, но лишь намечая те положения, согласно которым будет разворачиваться все его дальнейшее эмигрантское творчество. Данные 148 произведения стоят ближе всего к «собственно философским романам», оперирующим пластичными, художественно цельными образами, отводящим не последнюю роль психологическому облику персонажа и картине мира, включающей в себя социальные и природные условия существования героя. Роль автора в произведениях минимизирована, что обусловило отсутствие авторских монологов, беседы с читателем, выявляющих авторскую позицию. Непосредственное теоретическое обоснование философских положений на абстрактно-логическом уровне, характерное для дальнейшего романного творчества писателя, в данном случае уступает место художественному бытованию идеи. Озвучивать философские искания автора поручается героям-идеологам, выявляющим истину не только при столкновении с себе подобными в философских спорах и дискуссиях, но и проверяющим ее собственной земной судьбой. Подобный принцип построения романа приближает Мережковского к романной традиции Вольтера.
Произносимая героем философема, открывающая роман «Рождение богов: Тутанкамон на Крите», определяет основную тему произведения и подчиняет себе все дальнейшее развитие сюжета. Сюжетное действие направлено на проверку идеи персонажами, обладающими разными мировоззренческими установками, а также социальными и национальными различиями. Повествование отличается повышенной условностью и зачастую, упрощая многообразие и богатство наличной действительности, начинает обретать схематические черты. 149
Интерес к мистической стороне христианства, трансформирующийся у Мережковского в соответствии с философией Р. Штайнера в видение предначертанности пути Спасителя преданиями языческих мистерий, воплощается в романе в идею о вечном существовании христианства на Земле, о подготовке прихода Христа мистериями языческого мира. Платоновское восприятие мистерии как реальной духовной действительности, свидетельствующей о вечности души, обосновывает стремление героев Мережковского, существующих в дохристианскую эпоху, открыть для себя главную истину христианства: «Бог есть любовь», узнать в божествах языческих мистерий черты Единственного.
Исходная философема – «Отец есть любовь», произносимая вавилонянином Таммузададом, являясь реминисценцией известной библейской фразы, озвучивает идею Мережковского о вечном существовании христианства и задает тон духовным поискам героев романа. Она несет двойную смысловую нагрузку: представленная как надпись на языческом талисмане, подтверждает идею о бытовании одной всемирной религии от сотворения мира, утверждает ее мистическую сущность и в то же время, становясь загадкой для героев, представителей дохристианского человечества, открывает духовное измерение их поисков и стремлений, определяет вектор, согласно которому будет разворачиваться их дальнейшая судьба и создаваться духовный облик. Проверка предлагаемого философского утверждения осуществляется 150 в диалогах-диспутах героев-идеологов Таммузадада и критянки Дио, выявляющих истину посредством личной судьбы.
Первый диалог-диспут героев не только намечает их философское кредо, но и завязывает земные житейские коллизии судьбы. Стремлением проникнуть за покров мистериального знания воодушевлены в одинаковой степени и жрица богини Матери Дио, приближенная к покрову тайны, но не приподнявшая его, не посвященная, и Таммузадад, слишком земной, грешный человек, влюбленный в Дио, пытающийся постичь истину земным «евклидовым» умом. Закрытость мистериального знания для непосвященных, невозможность познания Бога обыденным умом человека, не разбудившего в себе знание духовное, звучит как грозное предостережение в речи Таммузадада, определяя дальнейшую трагическую судьбу героя: «Слово Божие – закрытый сосуд: кто знает, что внутри? А может быть, и не надо знать: узнаешь – умрешь?..»[168]168
18 Мережковский Д.С. Рождение богов. Тутанкамон на Крите // Мережковский Д.С. Мессия. СПб., 2000. С. 33.
[Закрыть]
Природные пейзажи, умело вплетаемые Мережковским в философский диалог героев, выполняют двойное назначение: во-первых, сопутствуют философскому рассуждению, выводя героя из плана бытового к бытийному, включая его в диалектическую картину мироздания (философское рассуждение Таммузадада о непостижимости божественного знания, страшного для человека, как смерть, сопровождается описанием шума сосен, возносящим чувственное впечатление к духовной бытийной ипостаси: «И оба замолчали, 151 прислушались к шуму сосен – шуму незримого моря – не того ли, что бьется о все берега земные неземным прибоем – шумит шумом смерти?»[169]169
19 Там же.
[Закрыть]); во-вторых, усиливают глубину прорисовки чувства героя, укрупняя психологические черты персонажа, оттеняя внутренние противоречия характера (невозможность земного счастья Таммузадада с девой-жрицей Дио, связанной обетом безбрачия, ощущаемая героем в тоске по безвозвратно утраченному или неспособному воплотиться, сосуществует в его сердце с вечно щемящим чувством любви к ней, возрождающим вновь и вновь смутную, но вечно живую надежду, и сопровождается у Мережковского контрастным описанием-сопоставлением весенних сумерек в долине с зимним пейзажем: «Уже весна цвела в долинах, а здесь, на Горе, все еще была зима. Пронзительно-холодный ветер задувал со снежной Иды. Тучи неслись по небу так низко, что казалось, цеплялись за верхушки сосен. Шел мокрый снег с дождем. Смеркалось. Но весна была уже и в зимних сумерках. Из-под кучи прелых листьев пробивались ландыши; во мху цвели фиалки; куковала кукушка, как будто знала и она, что счастья не будет, а все-таки плакала от счастья»[170]170
20 Там же. С. 32.
[Закрыть]).
Диалог героев намечает основное русло разрешения философских вопросов и жизненных коллизий в романе. Сопоставляя предания вавилонских и критских мистерий, герои обнаруживают важные для автора совпадения мифов, выявляющие всеобщность, универсальность истины. Идея сотворения человека «из плоти и крови закланного 152 Бога»[171]171
21 Там же. С. 34.
[Закрыть], понимаемая Таммузададом как добровольная жертва Бога человеку («Бог умер, чтобы человек жил»)[172]172
22 Там же.
[Закрыть], предлагается героем как ключ к разгадке мистериальной тайны, обозначенной в начальной философеме романа: «Отец есть любовь». Иными словами, Таммузадад предвосхищает открывшуюся миру позднее христианскую истину о великой жертве Бога, пославшего Сына в мир. Эта идея станет судьбоносной для героев, так как именно она одухотворит извилистые повороты их земного пути и предрешит финал их земного существования. Не менее важной для автора становится мысль о женской ипостаси Божества – Великой Матери, выявляемая героями при сопоставлении народных мифов.
Образ главного героя, представленный в начале романа психологической коллизией неразделенной любви, обогащается в дальнейшем философским содержанием, мотив одиночества и бессмысленной смерти на чужбине вырастает в идею самопожертвования и мученичества за любовь, одухотворенную верой. Диалектичность мира и антиномичность, противоречивость человеческого характера передаются автором путем столкновения противоположных сравнений и метафор, использования оксюморона. Показателен для творческой палитры Мережковского эпизод, вскрывающий многогранность страдания героя, вбирающего в себя мгновения боли и счастья одновременно: «Из-под хоревого шлема блеснули глаза ее – вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие, – и опять почувствовал он, что 153 чужбина – родина; умрет из-за нее, ненавистной-любимой, подохнет, как пес на большой дороге, – и будет счастлив»[173]173
23 Там же.
[Закрыть].
Часто писатель прибегает к отмеченному нами ранее приему укрупнения психологических состояний и философских раздумий человека, используя динамичные пейзажные зарисовки. Подобным образом Мережковский усиливает эффект одиночества и тоски героя на чужбине: «Произнеся имя родного города, почувствовал вдруг, что низкие тучи, мокрый снег, приторный запах мокрой хвои, унылое кукование кукушки и шум сосен – шум смерти, – все ему здесь ненавистно; ненавистна и она, любимая: из-за нее никогда не вернется он на родину, умрет на чужбине бездомным бродягою, подохнет, как пес на большой дороге»[174]174
24 Там же. С. 33.
[Закрыть].
Герой Мережковского Таммузадад, призванный своим слишком земным человеческим умом разрешать вопросы божественного порядка, духовно близок героям Достоевского – русским мальчикам, размышляющим в трактирах о вечном. Подобное сходство подчеркивается и легендой о судьбе героя, совершившего в прошлом преступление, и построением диалогов, выражающих жизненную позицию героя. Мережковский не только отягощает судьбу героя совершением убийства, делая его слишком грешным, дабы из бездны греха и нравственного падения герой мог, возвысившись, увидеть неземной свет божественного горизонта, но и использует в речи Таммузадада прямые реминисценции и аллюзии из Достоевского, 154 обличающие дерзновенные идеи богоборчества и права сильной личности взять на себя функцию вершителя земных судеб, исповедуемые Родионом Раскольниковым («Человек о Боге знает столько же, как о человеке червь. Как твари дрожащей путь Божий постигнуть? Все надвое. На небе одно, а на земле другое. По земле судя, не очень-то Бог любит людей»[175]175
25 Там же. С. 34.
[Закрыть]), а также вводит страстные монологи в духе Ивана Карамазова, сочетающие скепсис неверия и благодать веры («Как не хотеть! Хочу, чтоб дважды два было пять, да ведь не будет… Все надвое. Выбирай, что хочешь: или дважды два пять – жизнь, или дважды два четыре – смерть»)[176]176
26 Там же. С. 35.
[Закрыть].
Использует Мережковский в романе и мотив Достоевского, прозвучавший в «Преступлении и наказании», – различение двух истин: «истины сердечной» и «истины головной». Если у Достоевского их воплощают Родион Раскольников и Соня Мармеладова, то у Мережковского – Таммузадад и Дио. Скепсис и сомнения разумного Таммузадада гасит вера и надежда иррациональной Дио. Духовные блуждания героев на пути обретения истинной веры в романе сопровождаются их блужданиями по глухой звериной тропе. Мерцание огонька надежды в потемках души, одержимой скепсисом и неверием, символизирует у Мережковского пейзажная зарисовка, изображающая миндальное дерево на глухой поляне в лесу: «Давно уже сошли с дороги на глухую, как звериный след, тропу. Вдруг вышли на лесную поляну, отовсюду огражденную скалами, тихую, теплую. 155 Посреди нее миндальное деревцо розовело розовым цветом, под белым снегом, в мутных сумерках»[177]177
27 Там же.
[Закрыть]. Полисемия пейзажной зарисовки Мережковского углубляет образ, наполняя философский конфликт психологическим содержанием. Личный мотив любовной драмы Таммузадада подчеркивает разлад героя с миром, усиливая неразрешимость «проклятых вопросов»: «Он тоже взглянул на дерево и понял: для нее, смеющейся, он, скорбящий, – как этот мокрый снег для розовых цветов»[178]178
28 Там же. С. 36.
[Закрыть].
Символичен в романе эпизод обретения героями верного пути, избавившего их от бессмысленных блужданий по темному лесу. «Угольчатый крестик – Ее (Матери) святое знамение» выводит героев на тропу, ведущую к святой пещере Матери, ставшей для путников приютом, дарующим отдых, и успокоением, концом пути. Глубинный смысл подобного сюжетного поворота в романе восходит к философской концепции писателя, интерпретирующего женскую ипостась Божества как спасительницу мира и гарант духовной свободы человека, обеспечивающий ему возможность полноценного бытия в идеальном мире.
Экзистенциальную расколотость, мучительную нецельность и противоречивость героя, сближающую Таммузадада с героями Достоевского, Мережковский подчеркивает портретной зарисовкой, пытаясь через внешнюю деталь раскрыть антиномии внутреннего порядка (черта, характерная для творческой манеры Л. Толстого): «Обветренное, смуглое, как у моряков, лицо с резкими 156 чертами, с вечною, как бы застывшею, умною и злою усмешкою, было некрасиво. Но иногда он улыбался неожиданно-детскою улыбкою, и вдруг, точно личина спадала, открывалось другое лицо, простое и доброе»[179]179
29 Там же. С. 38.
[Закрыть].
Тот же прием писатель использует и для освещения внутренних противоречий героини. Дио становится для Таммузадада не просто объектом чувства и чувственного вожделения, но и мистической загадкой, лежащей по ту сторону мистериального знания, объясняющей возможность слияния полов, доступную лишь миру божественному, миру идеальных сущностей: «…он никогда не знал, кого любит – ее или его. Видел голую женскую грудь, а все-таки не знал. О, это слишком худое, отрочески стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе – смешные “усики” – для него не смешные, а страшные! Ни он, ни она – она и он вместе – Лилит, Лилит!»[180]180
30 Там же. С. 39.
[Закрыть]
Двуполость, андрогинизм, якобы присущие человечеству Третьего Завета, – свойство персонажей позднего Мережковского, отмеченных печатью Духа Святого, и прежде всего это наивысшее воплощение самого совершенного человека на Земле – Иисуса Неизвестного.
Черты философской концепции писателя легко идентифицируются и в описании святилища Матери – святая святых языческих мистериальных 157 культов. Три чаши «для воды, молока и меда: вода – Отцу, молоко – Сыну, мед – Матери» – символизируют знание языческой мистерией не только Лика Троицы христианской религии, существующей от сотворения мира, но и триодичность мирового исторического процесса, представленного тремя периодами, совершающимися под знаками Отца, Сына и Матери-Духа. «Святая Секира – Лабра» – знамение «Сына закланного, Тельца небесного» – символ знания языческой мистерией великой тайны христианского мира – жертвы Бога Отца, пославшего Сына в мир для искупления греха всего человеческого рода.
Критерием истины для героев Мережковского становится идентичность мифологического опыта двух народностей, приходящих в разных мистериальных таинствах к тождественной мудрости – мудрости предвидения христианства (великой жертвы Бога, пострадавшего за мир ради спасения человечества, и великой роли Матери как спасительницы, заступницы человека и главного Лика Божества, соединившего в себе вместе Отца и Сына).
В уста Таммузадада, героя, воплощающего правду земного «евклидова» ума, Мережковский вкладывает рассуждения о катастрофическом конце мира, о неизбежности войны, завершающейся кровавым потопом. Подобные рассуждения расширяют идею писателя о конечности и ограниченности рационального знания, способного привести человечество не к возвышенному идеальному абсолюту, а к неотвратимой гибели в бездне Небытия. 158
Психологический конфликт романа, воплощающийся в стремлении героя обрести земное счастье разделенной любви, получает философское измерение, раскрываясь неразрешимым противоречием полового вопроса в философском споре Таммузадада, исповедующего земную истину половой любви, и Дио, ставшей для героя мистической загадкой идеального пола, сочетающего в себе черты обоих земных полов. Земной пол, как и смерть человека, у Мережковского – атрибут вещного мира, в котором господствуют материя и разум, что выражено в устах Таммузадада формулой «Дважды два – четыре». Воскресение и воскресный пол – идея вечной жизни – принадлежат миру духовному и выражаются формулой «Дважды два – пять», символизируя алогичность, иррациональность понятия, невозможность его разумного, рационального истолкования. Духовный путь героя в романе определяется стремлением подняться от рационального истолкования истины, свойственного земному «евклидову» уму человека, живущего в трех измерениях, к духовной субстанции идеальных сущностей, в которой понятия земной логики теряют первоначальный смысл, казавшийся единственно возможным и истинным. На этом пути герой обретает свою судьбу. Любовная драма, рожденная чувственным вожделением, вырастает в духовный подвиг-мученичество ради спасения любимой, мотивированный глубинным предвидением – пониманием христианской идеи – добровольной жертвы Бога ради спасения человека. 159
Проверка философской идеи осуществляется и второстепенными персонажами романа. Образ Тутанкамона, имя которого вынесено в заглавие произведения, не определяет основной философской линии повествования, а лишь подчеркивает отдельные черты характера главного героя. Особенно отмечается Мережковским чувственная природа образа, приверженность всему слишком внешнему, земному, лежащему на поверхности и лишенному глубины. Используя портретную характеристику Тутанкамона, Мережковский намеренно прибегает к сравнению внешности героя с большой дикой кошкой, чтобы подчеркнуть значение всего земного, чувственного и внешнего, что создает характер персонажа, лишая его глубины духовного измерения, определяющего судьбу главных героев романа: «Они были друг на друга немного похожи: у обоих одинаково круглые, плоские, широкие лица; большие, пустые, с хищным разрезом, глаза; осторожная мягкость движений и равнодушная ласковость. Никогда не разлучались: кошка всюду ходила за ним, как тень, и иногда ему казалось, что это не зверь, а домашний дух-покровитель»[181]181
31 Там же. С. 49–50.
[Закрыть].
Противником внешнего, поверхностного измерения действительности, базирующимся на возведении в абсолют чувственного и вещественного мировосприятия, становится в романе другой персонаж – Юти. Болезненно воспринимает он стремление увековечить в искусстве чувственное и преходящее: «Вечное разрушить, увековечить мгновенное, остановить летящее – вот чего хотят 160 эти беззаконники»[182]182
32 Там же. С. 51.
[Закрыть]. Защищая древнейшее толкование искусства как эстетической формы бытования божественного, проявления Божества в мире, Юти осуждает богоборческие устремления человека, пытающегося победить естество и возвыситься до Бога благодаря победе человеческого разума над природой.
Развитие основной сюжетной линии в романе – разгадка метафизического шифра: «Отец есть Любовь» – главными героями, Таммузададом и Дио, и необходимость для Таммузадада разгадать мистическую загадку человека-андрогина, таинственной Лилит, связанную с освящением и обожествлением пола в вечности, сопровождается повествованием о посольстве Тутанкамона к критскому царю Идомину. На новом витке сюжета Мережковский проигрывает ту же идею, заставляя персонажей второго порядка разрешать метафизические вопросы, определяющие судьбы главных героев. Тайна царя Идомина, предстающего «то “царем”, то “царицею”, потому что он – Муж и Жена вместе, так же как бог Адун»[183]183
33 Там же. С. 61.
[Закрыть], становится для Тутанкамона (персонажа, олицетворяющего идею о пустоте и тщетности чувственного мировосприятия, концентрирующего в себе земные, «евклидовы», чувственные черты главного героя) такой же мистической загадкой, как тайна Дио-Лилит для Таммузадада. Но царь Идомин только пародия на богоподобное существо, преодолевшее пол, ставшее божественным андрогином. Низменная природа просвечивает сквозь богоподобные черты героя, скрывающего за поклонением небесной 161 Матери убийство матери земной, за великими пророчествами о страдающем боге Озирисе, предсказывающими христианскую евхаристию («Люди едят плоть мою»)[184]184
34 Там же. С. 65.
[Закрыть], пророчества гибели мира в огне великой всемирной войны. Подобное сюжетное решение необходимо Мережковскому для обоснования мысли о невозможности познания абсолютных истин рациональным разумом чувственного бытия. Пустота и поверхностность познающего, подчеркнутая писателем портретными зарисовками и описанием бытовых чувственных мелочей, окружающих героя, согласуется с призрачностью, эфемерностью мистической загадки царя Идомина, разрешаемой утилитарно, обыденно, приземленно. Мистическое видение рассыпается как мишура, обнажая истинную суть и мотивы поведения Идомина – безграничную жажду власти и мирового господства – и сокровенные желания Тутанкамона, интересы которого лежат всецело в сфере земного притяжения и бесконечно далеки от поисков религиозной истины.








