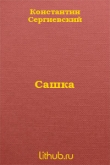Текст книги "Башня. Новый Ковчег 3 (СИ)"
Автор книги: Ольга Скляренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 4. Анна
Где-то, почти над самым ухом, гудел перфоратор. Анне казалось, что звук раздаётся прямо за стеной её кабинета, но это было не так. Рабочие сейчас заканчивали отделку одной из операционных палат, той, что была в конце главного коридора, но ещё день-два и они доберутся сначала до кабинета старшей медсестры, потом и до неё. А вот куда дальше они развернут свою строительную машину, об этом Анна старалась не думать.
Словно в ответ на её мысли в дверь настойчиво и нетерпеливо постучали, и тут же, не дожидаясь ответа, к ней ввалился Фомин, бригадир, в усыпанной побелкой и заляпанной краской спецовке. Анна слегка поморщилась. Конечно, пока на этаже полным ходом шёл ремонт, говорить о чистоте, а уж тем более о стерильности, не приходилось, но Анна всё равно с трудом воспринимала и эту грязную спецовку, и стойкий запах штукатурки и растворителя, который врывался к ней в кабинет каждый раз, когда Фомин появлялся здесь, и большие руки бригадира с въевшимися в кожу следами краски. Когда он протягивал Анне на подпись какие-то бумаги, она всё никак не могла отвести взгляд от чёрной каёмки грязи под его ногтями.
– Что-то случилось, Ярослав Петрович? – она подняла на него глаза, в который раз улыбнувшись про себя непривычному, торжественному и никак не вяжущемуся со всем обликом бригадира именем.
Здесь все звали его просто Петровичем: от старшей медсестры, пока та ещё была в больнице, до мальчишек-учеников, делавших свои первые шаги в деле освоения строительно-ремонтного мастерства, или просто по фамилии – Фомин. Имени своего бригадир чурался как огня и в первые дни пытался выдержать с Анной бой в борьбе за право называться для всех, и для неё в том числе, просто Петровичем. Бой этот он с треском проиграл, и теперь всякий раз, когда Анна обращалась к нему по имени-отчеству, недовольно кривился и раздражённо махал рукой.
Но сейчас он пропустил мимо ушей ненавистное ему обращение, быстро пересёк кабинет и встал перед Анной, тяжело упершись кулаками в стол.
– Случилось, Анна Константиновна. Начальство сегодня на планёрке порадовало. Ваш департамент приостановил оплату работ. Ничего толком не говорят, просят только продолжать, типа сейчас там наверху всё уладят. А я знаю, как там уладят, – бригадир буравил Анну маленькими злыми глазками. – Наобещают в три короба, потом не заплатят. Или кинут три копейки. А у ребят семьи, да и вообще. Мы тут волонтерствовать не нанимались. Чего я своим скажу?
У Петровича был мерзкий характер, вздорный, как у бабы, но в одном ему было не отказать – за своих ребят, которых он крыл матом с утра и до вечера, Фомин стоял горой. Вот и сейчас, едва почуяв угрозу для своей бригады, прибежал к Анне, навис над ней, и его усыпанное капельками побелки лицо исказило от злости.
– Я позвоню Мельникову и всё узнаю, – Анна спокойно выдержала бешенный взгляд бригадира. – А сейчас я вас прошу, продолжайте свою работу.
Фомин хотел возразить, но, встретившись с чёрными Анниными глазами, сдал назад, нехотя отлепился от её стола, потоптался тут же, ожидая, видимо, что она при нём будет звонить Мельникову, и, так и не дождавшись, развернулся и вышел. Только после того, как невысокая жилистая фигура бригадира скрылась за дверями, Анна сняла трубку и набрала Мельникова.
– Что происходит, Олег? – начала в лоб, не здороваясь.
Мельников её понял сразу, кашлянул в трубку, чуть помолчал, подбирая слова, а потом, как будто ему дали отмашку, заговорил быстро и сердито.
– Я сам, Ань, ни черта не понимаю. Здесь наверху хрен знает что творится после того, как… – он не договорил – щадил её чувства, и тут же перепрыгнул на другое. – Нам вообще всё финансирование урезали. Это какая-то насмешка.
– Нам – это вообще всем больницам? – уточнила Анна, хотя по нервному и злому голосу Олега было и так всё понятно.
– Да, всем больницам. Ставицкий откуда-то выкопал проект бюджета, который якобы подписал… – Мельников опять запнулся, но нашёл в себе силы продолжить. – Подписал Савельев. До своей гибели. Но это, Аня, бред. Мы с Павлом разговаривали утром, в тот день. И проект бюджета был другим, я видел сам, собственными глазами! Чёрт…
Олег на том конце трубки замолчал. Анна слышала лёгкое потрескивание на линии, далёкое шуршание, похожее на шелест звёзд, так говорила Лиза, бог весть из каких древних книжек выкопавшая это сравнение.
– Ань, прости, – наконец выдохнул Олег. – Я знаю, что Павел, что он…
Мельников опять не договорил – ему, честному и прямолинейному, нелегко давался этот разговор, в котором он то и дело соскальзывал на опасную тему, ту, что причиняла ей боль. По его мнению, причиняла. Анна отняла от уха трубку, задумчиво на неё посмотрела и опустила на рычаг. Далёкий шелест звёзд она слушать не хотела.
***
Если бы тогда утром она задержалась наверху, как и планировала, то весть о гибели Савельева застала бы её там – об этом очень быстро стало известно. Говорили, что дежурные, явившиеся на свою смену на Северную станцию, нашли зарезанного охранника Павла в будке КПП и труп Полынина на платформе (Анна тогда понятия не имела кто это такой), а ещё чуть позже тела тех двух, что дежурили в ночную смену. Сам Павел исчез, но мало у кого оставались сомнения относительно официальной версии – Савельев погиб, предположительно застрелен.
Анна могла бы сказать, что в тот день она что-то почувствовала, потому и сорвалась вниз, вопреки всему, но это было не так. Ничего она не почувствовала. Просто Мельников, с которым ей, собственно, и нужно было кое-что решить, ускакал ни свет ни заря по больницам. Ждать его было гиблое дело, поэтому Анна и решила спуститься вниз, к себе, чтобы не терять времени.
Говорят, что такие особенные дни крепко врезаются в память, и человек помнит всё до мельчайших подробностей – куда пошёл, что сказал. Ерунда, наверно. Анна ничего такого не помнила. Обычное утро, как и тысячи других.
Было ещё совсем рано, когда она появилась на этаже, и непривычно тихо. Не ревели дурным голосом перфораторы, не стучали молотки, не визжали болгарки. Редкие рабочие, из любителей приходить на работу пораньше, кучковались по углам, обмениваясь редкими вялыми фразами. Анна прошла по коридору, машинально перебирая в уме всё, что предстояло сделать, и тут взгляд упёрся в кушетку, рядом с кабинетом. Рабочие приволокли её откуда-то сверху, да так и забыли. Анна, натыкаясь на неё, каждый раз ругалась, но в запарке всё забывала отдать приказ унести её.
На кушетке спали двое. Спали полусидя, крепко прижавшись и склонив друг к другу одинаковые светлые головы.
Анна остановилась, разглядывая юную парочку. Катюшу и этого мальчика, как его, Полякова.
На других она бы гаркнула, не раздумывая, но Катя Морозова была её любимицей. Нет, сама Анна, конечно, так не считала, да и Катя, если бы ей это сказали, удивлённо округлила бы и без того круглые глаза. Едва ли во всей больнице нашёлся бы ещё хоть один человек, к кому Анна была так же строга, как к Кате. Анна гоняла свою Катюшу в хвост и гриву, отчитывала за болтливость, за безалаберность, даже за Катину безмерную любовь к старикам и то ругала, разражалась на её преданность и привязанность, сама не понимая, что вот так, бывает, и проявляется любовь к человеку, которого мы непременно хотим сделать ещё лучше.
Анна подняла руку и громко постучала костяшками пальцев по косяку.
Мальчишка проснулся первым. Вскочил, увидел Анну, дёрнулся, хотел что-то сказать, да так и замер с открытым ртом, вытаращив на неё голубые, чуть навыкате глаза.
– Совсем обнаглели, да?
Она развернулась, чтобы идти к себе, но мальчик наконец-то опомнился.
– Анна Константиновна, там у вас в кабинете Егор Саныч. Он… он спит.
И, начиная с этой минуты, оттолкнувшись от абсурдной по своему смыслу фразы (потому что как вообще в её кабинете мог очутиться спящий Ковальков), время понеслось галопом, перескакивая через часы и минуты и иногда возвращаясь назад. В голове Анны всё смешалось: Катя, так до конца и не проснувшаяся, с сонными больными глазами, перепуганный мальчишка, который нёс какую-то ахинею, Ковальков, помятый и состарившийся лет на сто, и она сама в водовороте событий, которые она не понимала и отказывалась понимать.
И только после слов Егор Саныча «он жив, Ань, и сейчас, скорее всего, уже должен прийти в себя» до неё наконец-то дошёл смысл всего, что ей говорили.
Она неслась по коридорам, ничего не слыша и почти ни о чём не думая.
Это потом она вспомнит серое лицо Ковалькова, и её вина перед этим старым врачом, несколько часов назад прооперировавшего человека, которого он ненавидел больше всех на свете (Анна знала, что ненавидел), навалится на неё тяжким грузом. Подумает о Катюше, и сердце её захлестнёт благодарность к этой маленькой девочке. Испугается – в первый раз за всё это время испугается по-настоящему – того, что всё могло сложиться по-другому, не окажись на той станции двух мальчишек. Но это будет потом. Потом.
А тогда она просто бежала. И ворвавшись в комнату, где прятала Литвинова, натолкнувшись на весёлый, почти счастливый взгляд Бориса и увидев Павла, бледного, но живого – живого, чёрт возьми, она дала волю эмоциям. Устроила им разнос. Обоим. Двум идиотам. Двум придуркам. Двум взрослым мужикам, одного из которых она любила как брата, а второго… второго просто любила.
В первые дни ему было очень плохо, но он крепился. Улыбку выдавить из себя, конечно, даже не пытался, но старался говорить ровно, если приходилось, и только бисеринки пота, блестевшие на высоком лбу, да напряжённые желваки на резких скулах говорили о том, как ему больно.
Анна хорошо помнила это его «терпимо», когда она в то утро, растерявшись и не желая показать свою растерянность перед этими двумя, задала самый дурацкий из всех возможных вопросов: «Болит?». Словно она и так не знала, что болит, и будет болеть ещё долго, и он будет жить на обезболивающих, на тех запасах, которые она у себя откопала.
Она старалась не смотреть на него, отметила только про себя, на автомате, уже как врач, не как женщина, что он неестественно бледен, приложила ладонь к разгорячённому лбу, подумала об антибиотиках, и что их мало, стала привычно рассчитывать, что дальше и как – и всё это помогало отогнать страх, придавало сил и решимости. И ещё, где-то совсем на краю сознания промелькнула мысль, что его она потерять не может. Как Лизу. Как папу. Нет. Он должен жить. Должен. С ней, без неё, какая разница. Только пусть живет. Пусть.
В то самое первое утро ей стоило большого труда уйти. Но остаться с ним она тоже не могла. Не выдержала бы. Смотреть на его бледное, с проступившей желтизной лицо, на заострённый нос, затуманенные пасмурные глаза, чувствовать его боль – это было выше её сил. Она боялась, что врач отступит на задний план. И перед ним – беспомощным, но всё равно сильным – останется просто женщина, которая любит его уже бог знает сколько лет и отчаянно боится этой любви, глупой, нелепой, никому в общем-то не нужной.
Она собралась.
Сказала себе: Аня, ты – врач. В первую очередь врач. И во вторую, и в третью, и в сто двадцать третью. Для него, для Павла. И твоя задача, чтобы он встал на ноги. И сказав себе это, она стала действовать.
Ум, холодный и рациональный, вытеснив эмоции, привычно принялся просчитывать все ходы и искать решения. Она моталась по другим больницам и по складам, всеми правдами и неправдами добывая лекарства, торчала над душой у лаборантов, требуя чуть ли не немедленного получения результатов так нужных ей анализов, вконец затерроризировала свою несчастную Катюшу и Кирилла, загрузив их с головой, да ещё заставив по очереди дежурить ночью у дверей комнаты Павла. Параллельно была больничная рутина и ремонт, с бесконечной руганью Фомина, планёрки и совещания наверху, были старики – там спасали волонтёры, исключительно благодаря Вере Ледовской, которая временно взяла на себя обязанности Ники, – и был ещё миллион дел и забот, которые помогали не сойти с ума от временами накатывающего страха и благодаря которым она валилась под вечер с ног на ту самую кушетку у себя в кабинете, на которой спал несколько дней назад Егор Саныч.
К Павлу она приходила по утрам, нацепив на лицо холодную и отстранённую маску. Быстро проводила осмотр, задавала необходимые вопросы, с облегчением отмечая, что он быстро идёт на поправку. Ловила привычные насмешливые взгляды Бориса (вот кто почти не отходил от Павла), злилась на эти взгляды, а когда Борис пытался поддеть, непонятно кого – её или Павла – резко осаживала его. Борька тут же затыкался, но в хитрых зелёных глазах продолжал искриться весёлый смех.
Павел тоже молчал. То есть отвечал ей, если она спрашивала, но по большей части только слушал их перепалки с Борисом, в какой-то странной задумчивости глядя на неё. От этих взглядов она нервничала и спешила уйти.
Ей не нравилось, как он на неё смотрит. Хотя нет, «не нравилось» – это не то слово. Настойчивый взгляд твёрдых серых глаз, который она ощущала даже спиной, и который день от дня становился всё невыносимей, заставлял её паниковать. И пару дней назад, когда она, неловко развернувшись, вдруг упёрлась в эти глаза, ей показалось, что он всё знает, откуда-то знает и теперь смотрит на неё, словно проверяя, прав ли он. Она отступила, уже понимая, что поздно, потому что стена, та самая стена, которую она кирпичик за кирпичиком возводила между ним и собой, рушилась, рассыпалась, взлетая кусочками битого кирпича и цемента, оседая облаком серой пыли из страха и несбывшихся надежд, обнажая и открывая её перед ним.
«Он знает», – это был даже не вопрос, а утверждение, и вслед за этим пришла другая мысль, совершенно немыслимая, дикая, детская: «А вдруг? Вдруг он тоже…». И ей стало страшно.
Она давно, очень давно, запретила себе даже думать, что у них с Павлом что-то может быть. Потому что хорошо помнила, как однажды она уже оступилась.
Это было в тот далёкий день, когда она от обиды и унижения срезала свою косу, и Пашка случайно застал её без защиты. Не было у неё тогда сил ни на какую защиту – всё она извела, когда пряталась в том вонючем туалете и слушала, как её валяют в грязи. Она чувствовала опустошённость, усталость, броня на какое-то мгновение упала, и так же, как и сейчас, их взгляды встретились, и что-то случилось, что-то почти родилось – как вспышка, как озарение… А потом закончилось, так и не начавшись. Оборвалось, и словно не было ничего…
Тогда она ещё ждала, долго ждала, несколько недель, пытаясь поймать, уловить, ухватить то робкое настроение, смутное желание. Что-то сделать такое, чтобы Пашка опять посмотрел на неё так, как смотрел в тот день, и потянулся к ней. А потом пришло понимание, что этого не случится, потому что на самом деле, скорее всего, он ничего и не чувствовал особенного. У мальчишек с этим проще, наверное. Это она, как дура, сняла рубашку, оказалась перед ним в одном лифчике, а у него… у него просто гормоны.
Больше она такого не допускала. Возвела вокруг себя надёжные крепкие стены, всё проверила, навесила замки. Что там бушует у неё внутри – её дело. Ему это видеть и знать совсем не обязательно. И вот теперь…
«А вдруг? Вдруг он тоже…» – её отражение колыхалось в серых глазах Павла, как тогда в шестнадцать лет, и кто-то странный и невидимый нашёптывал сладкие слова, вливал их в уши, отравляя сознание. И она испугалась.
Мыслей своих испугалась, этого неведомого шёпота внутри. Стыда, боли, которые неизменно последуют, если она опять даст слабину. И она, забыв зачем пришла, попятилась, не в силах оторвать глаз от смотрящего на неё Павла, наткнулась на дверь, слепо нащупала ручку и, развернувшись, выбежала вон из комнаты. Сбежала.
Ну да, это и выглядело, скорее всего как бегство, потому что Борис выскочил вслед за ней, схватил за рукав больничного халата и, почти силком притянув к себе, прошипел чуть ли не в лицо:
– Аня, ты что же, мать твою, делаешь, а? Ты вообще ничего не видишь, да?
А она видела, в том-то и дело, что видела. Только это всё было не нужно. Сейчас уже не нужно.
– Отстань! – она выдернула свою руку, развернулась и быстро зашагала прочь, усиленно борясь с желанием перейти на бег и чуть не сбив с ног удивлённого Кирилла Шорохова, который непонятно каким образом здесь оказался.
***
Поглядев долгим невидящим взглядом на телефон, так до конца и не переварив полученную от Мельникова информацию – какой ещё проект бюджета, что всё это значит? – Анна встала и подошла к полкам с папками. Вспомнила, что на завтра надо ещё успеть подготовить отчёт для совещания в департаменте.
Перебирая тонкими пальцами корешки папок на полке в поисках нужной, Анна опять переключилась мыслями на то, что занимало её сейчас больше всего.
Прошло уже больше недели, и тот первый страх, обручем сдавивший сердце при виде раненого Павла, ушёл, уступив место невнятной тревоге, которая была связана даже не с жизнью Павла, а с чем-то другим.
Теперь Анна уже понимала, что Павел выкарабкался. Благодаря счастливому случаю, удачной операции (рука старого доктора нигде не дрогнула), железному здоровью самого Павла, её неуклюжим молитвам или всему вместе взятому, но Павел очень быстро восстанавливался. Иногда, перед тем как зайти к нему утром, она слегка притормаживала перед дверями, прислушиваясь к их с Борисом разговорам, ловя уверенный голос Павла – прежний голос, и даже смех.
Наверно, в чём-то она им завидовала.
Пройдя через совершенно страшное испытание, Борис и Павел нашли в себе силы остаться друзьями, хотя людям для смертельной вражды бывает достаточно и гораздо меньшего повода, и то, что они вместе (не опять вместе, а по-прежнему вместе) она поняла ещё тогда, когда белая от страха влетела в комнату к раненому Павлу, и они уставились на неё одновременно с одинаковыми выражениями на лице. Она даже заметила их переглядки и идиотское Борькино подмигивание, словно им опять было по тринадцать – Борька, дурак, неужели он думал, что она этого не увидит?
Анна не спрашивала себя, как им это удалось, почему-то их дружба сейчас казалась вполне естественной, только временами с какой-то горечью отмечала, что она сюда уже никак не вписывается. Потому что… как?
– Анна Константиновна! – в приоткрытую дверь просунулась Катина испуганная мордашка. За её спиной маячил Катин бессменный рыцарь, Поляков. К этой Катиной тени Анна уже начала привыкать.
– Что такое? – Анна поставила папку, которую держала в руках, на одну из полок.
– Там… там Павел Григорьевич…
Катя ещё не договорила, но по сердцу Анны словно полоснули острой бритвой.
– Борис Андреевич сказал, что Павел Григорьевич неважно себя чувствует и…
Ноги стали ватными, и Анна инстинктивно ухватилась рукой за полку. Но это продолжалось не больше секунды, потому что в следующее мгновенье она уже бежала в чёртов тайник, ругая себя на чём свет стоит за безалаберность и за то, что рано расслабилась.
«Дура! Чёртова старая дура! – повторяла она. – Идиотка! А ещё врач!»
Она ворвалась в комнату Павла и застыла на месте.
Он был один. Сидел за столом (Анна вспомнила, Борис потребовал принести им в комнату письменный стол) и что-то торопливо записывал. Услышав звук открывающейся двери, Павел обернулся. Его лицо удивлённо вытянулось.
– Аня? Ты?
Глава 5. Павел
– Слушай, а ведь это Борькины проделки. Этот манипулятор хренов никогда не изменится, – Павел неожиданно расхохотался. Совсем по-мальчишески, задорно, счастливо, так, как не смеялся уже очень давно.
Правда он и счастливым себя не чувствовал уже чёрт знает сколько лет. Таким счастливым, как в это утро, лёжа на узкой, неудобной кровати, рядом с совершено непостижимой для него женщиной.
Она подняла к нему своё лицо, недоуменно уставилась:
– Паш, ты о чём? Причём тут Борька?
Чуть нахмурилась, не сердито, а как она всегда, ещё с детства, делала, когда чего-то не понимала, и Павлу на мгновение показалось, что перед ним не взрослая женщина, красивая – господи, ну какая же она всё-таки красивая, – а маленькая девочка, с жёсткой непослушной копной волос и худой, угловатой фигуркой. Аня. Его Аня.
– Борька? Так это его штучки? – до неё наконец дошло, о чём это он. – Господи, какие же вы ещё мальчишки. Седина в волосах, а сами…
– Мальчишки, – согласился Павел, всё ещё улыбаясь. Спорить с ней не хотелось. Хотелось другого. Он крепче прижал Анну к себе, чувствуя рукой и всем телом её чуть прохладную гладкую кожу. – Но Борька, каков стервец! А?
Анна немного завозилась, устраиваясь поудобнее. Положила голову ему на плечо, и Павел вдруг подумал, что они словно сделаны друг для друга – его плечо и её голова. Как-будто кто-то заранее спланировал, выточил их по идеальному чертежу, и теперь, наконец-то детали конструкции, подогнанные чьей-то гениальной инженерной мыслью, нашли своё место рядом, встали ровно, как и было задумано.
«Чёрт, какие идиотские сравнения лезут в голову», – подумал Павел, ему снова стало весело. И легко. Ему давно не было так легко. Может быть, никогда.
– Убить его мало, твоего Борьку, – она притворно вздохнула. – Он тут от скуки совсем распоясался. Надо же было такое… Я так перепугалась…
Последняя фраза прозвучала совсем тихо, Павел едва разобрал слова, скорее, даже почувствовал – её дыхание щекотало ему плечо, и от этого лёгкого прикосновения что-то внутри него откликалось, приходило в движение, словно невидимый оркестр играл там какую-то невыразимо прекрасную мелодию.
Он столько всего хотел сказать ей. И про эту мелодию, звучащую в нём, и про идеально подогнанные детали, вот ведь дурацкое сравнение, профдеформация, не иначе. Про всё. Как он жил без неё все эти годы. Что думал, что чувствовал. Ему столько всего надо было ей сказать, но почему-то словами не получалось. Словами получалось только про Борьку. Как в детстве. Когда Борька всё время торчал между ними и, казалось, постоянно мешал, но без него выходило ещё хуже. Да что там – иногда и совсем ничего не выходило. И сейчас бы тоже ничего не вышло.
Павел вспомнил, как вчера вечером Борис зачем-то отозвал в сторону Катюшу и что-то ей прошептал. Он тогда не придал этому значения, сидел и писал очередной их план, они обсуждали положение в Совете, строили догадки, и Павел, повинуясь своей давней привычке, ещё со школы, записывал их мысли – это помогало ему их упорядочить, выстроить схему решения. И потом, когда Борис, заявил, что у него разболелась голова, и он пойдёт к себе, пораньше ляжет спать, Павел тоже не обратил на это внимания. Ну, разболелась, бывает. Тут взаперти ещё и не то разболится – они оба с трудом переносили своё вынужденное заточение, оно давило на них, мешало, раздражало.
И вот теперь Павел сложил два и два, и сообразил – это ведь он всё и подстроил. Борька Литвинов. Выдающийся стратег, которого он собственными руками чуть было не отправил на тот свет.
– А давай ему отомстим, ужасной местью, – Павел сделал страшные глаза, за глупой шуткой скрывая невысказанные слова. И тут же уткнулся Анне лицом в макушку, не удержался, поцеловал, вдохнул запах волос.
– Отомстим, конечно, даже не сомневайся, – согласилась Анна, подхватывая его тон. – И я даже знаю как. У меня там завалялись запасы слабительного…
И они расхохотались уже вдвоём. Как дети, потому что оба, каким-то шестым чувством угадывали, что так надо. А, может быть, просто хотели, вернувшись на тридцать лет назад, пройти тот путь, который и должны были пройти. Шаг за шагом. Не совершая всего того ужасного, что совершили.
***
Вчера, когда Анна влетела к нему в комнату, с бледным, встревоженным лицом, впилась в него глазами, Павел опешил. И даже испугался. За неё испугался, за Анну. Подумал, что что-то случилось, опять какая-то беда. Как будто мало было этих бед на их головы.
– Аня!
Он шагнул ей навстречу и инстинктивно схватил за плечи, словно боялся, что она опять убежит. И ведь угадал. Она и хотела убежать. Как тогда, пару дней назад, когда попятилась от него, вжалась узкой спиной в закрытую дверь, не сводя с его лица своих чёрных глазищ.
Она его избегала. Избегала всё это время. И Павел знал. Видел. Да она и не скрывала особенно. Демонстративно отводила взгляд, деловито осматривала рану, уже почти затянувшуюся, сухо отдавала распоряжения маленькой смешной медсестричке Катюше. Или паршивцу Шорохову – вот уже кто тут совсем был неуместен, так это бывший ухажёр его дочери, глядящий на них с Борисом волчонком, словно только и ждал момента, чтобы укусить. Кирилла правда Анна по большей части ругала – парень всё же был неимоверно бестолков. А в основном она, конечно, разговаривала с Борисом, оставляя на долю Павла только профессиональные вопросы о здоровье и ничего больше.
Но Павел всё знал. Как бы она ни прятала от него свои глаза, как бы не прикрывалась Борькой и этими детьми, и сколько бы не продолжала играть в молчанку – он знал. Ровно с того момента, как увидел её неделю назад, растрёпанную, злую, обрушившую на Бориса всю силу своего гнева. Павел тогда только-только пришёл в себя после покушения и операции, с трудом говорил и соображал, голова была тяжёлая и мутная от наркоза, а боль, снова расправлявшая внутри свои когти, туманила сознание, мешала думать, пульсировала, подчиняя его себе, но этот её взгляд, да какой там взгляд – полвзгляда – бросила и тут же отвела глаза, этого Павлу хватило. Он всё понял. И за эти доли секунды ему открылся целый мир, словно он залпом прочитал роман великого классика. И боль, и страх, и готовность броситься спасать его, любой ценой, даже ценой своей жизни, и море нежности, и гора упреков – в этом взгляде было всё. И оно обрушилось на Павла каким-то сакральным знанием. А остальное не имело значения. С этой минуты они уже неслись навстречу друг другу, как два курьерских поезда – на полной скорости и без остановок, и то, что должно было произойти, произошло.
Павел поднял руку и осторожно коснулся её лица, провёл ладонью, нежно и бережно. Чуть приподнял пальцами за подбородок и заглянул в глаза, проваливаясь в них, как в омуты. Он видел там, на дне этих невообразимых глаз, себя и свою душу, видел огромный мир, не его, а их мир, а он столько времени жил без этого мира. Вот дурак!
Они столько лет пытались всё решить словами. Думали о чём-то, переживали, забившись каждый в своём углу, лелеяли обиды, выстраивали кучу препятствий, говорили друг другу тысячи ненужных, пустых и глупых слов. Горьких, обидных, жестоких, даже страшных и казавшихся непоправимыми. Отгораживались ярусами Башни, как будто это могло их разделить. А надо-то было только посмотреть друг другу в глаза. И всё.
И всё…
А ведь когда-то у них почти получилось.
В далёкой юности, когда он дрожащими руками ровнял ей криво отстриженные волосы, стараясь думать только про эти непослушные прядки, топорщащиеся и словно нарочно норовящие выскользнуть из-под лезвия туповатых ножниц в неумелых Пашкиных руках. Старался, но взгляд то и дело срывался, соскальзывал на её тонкую шею, такую беззащитную, на голые плечи, на бретельку лифчика, чуть врезавшуюся в нежную белую кожу. Ему мучительно хотелось дотронуться пальцами до её худенького, острого плеча, прижаться губами… Он тогда так испугался этих своих жарких мыслей, что совершенно потерялся, ничего не соображал, чего-то бормотал, а когда она наконец к нему повернулась – не смог совладать с собой, потянулся к ней, уже почти коснулся её губ.
А потом в квартиру ворвался Борька…
– Паша… – Анна попробовала что-то сказать, но он, улыбаясь, тихонько приложил палец к её губам, и она всё поняла, замолчала, подалась вперёд, открылась ему.
…Павел не помнил, как они переместились на кровать, почти не помнил. Они просто провалились в какое-то другое измерение, в котором не действовали законы физики, не работала логика и причинно-следственные связи. Анна что-то бормотала про швы, повторяла: «Пашка, ты с ума сошёл. Пашка», но губы говорили одно, а руки и тело другое. Он чувствовал, как скользят по коже её пальцы, вздрагивал, замирал и не понимал, как же он жил без всего этого раньше. Без её губ. Её рук. Её глаз? Как?
И всё, что было дальше, было совершенно невозможно, невообразимо, немыслимо. И вместе с тем очень правильно. Павел сразу понял – ничего более правильного в своей жизни он не делал. В своей чёртовой, глупой жизни, в которой он совершал ошибку за ошибкой, одну страшнее другой. И каждый раз мучительно сомневался, а потом страдал и убеждал себя, что всё сделал так как надо, потому что по-другому сделать не мог. И только сейчас он понял – как это бывает, когда всё делаешь правильно. Когда нет и не может быть никаких сомнений.
Анна была создана для него. А он для неё. Это было просто. Их тела были умнее, они откуда-то знали об этом. Всё происходило так естественно, словно бы они занимались любовью миллион раз в своей жизни. И при этом – это было остро, ново, удивительно. Как в первый раз. Впрочем, это и было в первый раз. А то, что было до, уже не существовало…
Ночь длилась бесконечно. На стене тускло мерцал ночник, выхватывая смутные очертания комнаты. Узкая кровать, серые стены, сотни этажей вверх, ещё с десяток вниз, бесконечные лабиринты коридоров, запутанные как его жизнь, в которой вопросов было больше, чем ответов. Он чего-то искал и не находил, и вдруг одна ночь – и всё встало на свои места. Сложилось – как сложная головоломка, когда бьёшься, мучаешься, переставляешь бесконечно детали, примеривая их к разным местам, и всё равно выходит какая-то бессмыслица, и потом – раз, одна какая-то подзабытая, потерявшаяся деталь нашлась, заняла своё место, и тут же всё получилось. И этой потерявшейся деталью был взгляд Анниных глаз. Чёрных, бесконечных, манящих, за которыми таился его мир.
– Почему всё было так? – Анна повернула к нему своё лицо. Тонкое нежное лицо, в тусклом свете почти девичье, с огромными тёмными глазищами, в которые Павел то и дело проваливался.
Анна не пояснила, что именно было «так», и как «так». Павел всё понял.
– Потому что я был дурак, – просто ответил он.
– Был? – Анна улыбнулась и запустила руку в его волосы, взъерошила их, пропустила прядки сквозь пальцы и вдруг тихо добавила. – Всегда мечтала так сделать. Ещё с детства.
Он, поймал её руку, поднёс к губам, медленно целуя кончики каждого пальца.
– И когда это ты успел поумнеть?
– Только что…
И снова её глаза, и кожа, и нежная ямочка на ключице. Время то останавливалось, то куда-то бежало, а он всё целовал её, гладил, изучал каждый изгиб, каждый миллиметр её тела, словно пытаясь наверстать упущенное. Павел никак не мог остановится, невзирая на усталость, на лёгкую, ноющую боль в груди, когда он неловко или слишком резко поворачивался. Столько он всего упустил, столько потерял и столько ещё предстояло узнать, наверстать. И Анна, Павел точно знал, тоже это понимала. Также внимательно изучала его, трогала, гладила. Сначала робко, словно смущаясь, лёгкими, едва заметными прикосновениями, потом всё более явно, уверенно. Ерошила его волосы, проводила прохладными тонкими, чуткими и сильными пальцами по его лицу, груди, бережно огибая повязку, покрывала поцелуями его плечи и шею, сначала украдкой, словно стесняясь, потом всё смелее…