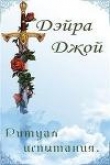Текст книги "Спасите наши души (СИ)"
Автор книги: Ольга Чулкова
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ
Ну, что же ты глядишь, тебя пока не бьют...
Владимир Высоцкий
К дому престарелых Лидию Григорьевну привез сын. Въезд на территорию был закрыт, сын вышел их машины, она не слышала, что он сказал охраннику, но шлагбаум поднялся, проехали, остановились около пятиэтажного здания. Никогда раньше не приходилось здесь бывать, она удивилась, что на территории много корпусов. Время приближалось к полудню, по дорожкам гуляли мужчины и женщины пожилого возраста, на скамейке сидели старушки. «Настоящая богадельня, – подумала она. – Так доживать свою жизнь».
– Мама, я сейчас коляску достану, номер палаты мне сказали, тебя отвезу, сам пойду к директору, надо кое-какие дела уладить.
– Сколько здесь народу, как жалко людей! Жили, работали, детей поднимали и под старость лет оказались в казенном доме. Как жизнь поворачивается! – с горечью произнесла Лидия Григорьевна.
– Мама, тебя это не касается. В твоем состоянии не надо думать о грустном. Только положительные эмоции, врачи говорят, что это самое главное и, конечно, реабилитация.
– Тогда на Луне надо реабилитацию проходить! Я же не могу закрыть глаза на жизнь.
– Обустроишься, у тебя сотовый, интернет, журналов на пару дней хватит, потом еще привезу я или Татьяна. Будем постоянно на связи, три раза в неделю, не чаще, смогу приезжать, на прогулки буду тебя вывозить. Надо два-три месяца потерпеть, из депрессии выйти, реабилитация быстрее пойдет.
– Миша, разве я не проходила реабилитацию в Москве, сколько денег потрачено, а результаты минимальны!
– Что ты хочешь – инсульт. Восстановление длительное. Москва помогла, рука понемногу восстанавливается, нога придет в порядок. Все будет хорошо! Вера города берет!
Лидия Григорьевна ничего не ответила.
***
Полгода назад под утро она проснулась и провалилась куда-то. Пришла в себя, когда в ее квартире уже были дочь, сын, работники скорой. Она хотела спросить, но не смогла. «Мама, сейчас отвезут тебя в больницу. Все будет хорошо!»
На третий день речь восстановилась, Лидия Григорьевна обрадовалась, поверила, что левые нога и рука тоже восстановятся. Но шли месяцы, изменений не было. В запасе у нее было триста тысяч рублей, почти все ушли на реабилитацию в Москве, но ходить она по-прежнему не могла. «Надо продолжать лечение», – говорил лечащий врач. – «Дорого! За три месяца все мои сбережения ушли, всю жизнь их копила». – «Это не ко мне, но, если хотите на ноги встать, то надо тратить, с собой на тот свет ничего не возьмете». – «Слышала, что там бесплатно все»,– пошутила Лидия Григорьевна.
Вечером, когда позвонила дочь, Лидия Григорьевна решила посоветоваться продавать ли квартиру, чтобы лечиться дальше.
– Павел в твоей квартире живет, поругался с Вадимом, знаешь, они не ладят. Продашь квартиру, а что потом?
– Мне же на ноги надо встать, мне 63 года, я хочу жить! В Израиль поеду или еще куда, где лечат инсульты!
– А где потом жить!
– Лечиться важнее, на потом не загадываю! На ноги бы встать, к нормальной жизни вернуться!
– Миша за тобой завтра в Москву приедет, заберет домой, поговорим. Не надо пороть горячку.
Дорога домой оказалась нелегкой. Сидеть на сидении автомобиля было трудно, неудобно, сын несколько раз останавливался в пути, разминал ей ноги, отодвигал сидение то ближе, то дальше, но все равно она измучилась.
– Мама, поспокойнее, никак тебе не улажу. Я за эти три месяца намучился. Раз в неделю в Москву гонял, мне на работе замечания делают, что отпрашиваюсь часто.
Лидия Григорьевна заплакала. Дома сын переложил ее на кровать, поставил на столик морс, воду, поменял памперс и сказал: «Скоро Паша из школы придет, покормит тебя, вечером я приду и Татьяна».
Несмотря на усталость после дороги, уснуть не могла, с отчаянием думала, что никогда не будет ходить. Левой рукой она не могла держать сотовый, приловчилась правой и держать, и входить в интернет, и писать в соцсетях. Стала искать, во сколько обойдется лечение в Израиле. Нашла. Получалось, что если продаст свою двухкомнатную квартиру за два миллиона двести тысяч, то хватит почти на три месяца реабилитации в одной из клиник Израиля. "А если сдвигов не будет, то квартиры лишусь. К дочке не пойдешь, там зять такой, что пасынок с ним не уживается. У сына однокомнатная...
Вечером после работы пришли сын и дочь, об Израиле она им даже говорить не стала.
– Мама, у нас в геронтологическом центре берут на реабилитацию после инсульта. Я предварительно договорился, может, попробуем?
– Сколько стоит?
– Бесплатно! Директору, говорят, надо дать тысяч пятьдесят, чтобы взяли, конфеты, шоколадки массажистке и другим, но там лежать надо...
– Не навсегда? Не отдадите же меня в богадельню?
***
– Здравствуйте! – сказала Лидия Григорьевна, когда сын вкатил ее на инвалидной коляске в палату.
– И тебе здравствовать! – ответила пожилая женщина, которая лежала на кровати у окна. Внимательно посмотрела не нее и тоже поздоровалась другая пожилая женщина, которая лежала как раз напротив свободной кровати. Лидия Григорьевна поняла, что это теперь ее кровать. Взглянула на третью женщину, которая никак не отреагировала на ее появление.
– Она уснула, слепая, без ног, сахарный диабет столько проблем наделал. Анной ее зовут. Меня Марией, а твою соседку Валентиной.
– А я Лида...
Сын перенес ее на кровать, разложил на тумбочке все необходимое.
– Пошел к директору, скоро вернусь.
Лидия Григорьевна легла, и как будто что-то пригвоздило ее к этой чужой, неудобной кровати, отчаяние, от которого она так пыталась уйти за последние полгода, вновь охватило ее. В московском центре, где она проходила реабилитацию, все было другим. Красивые шторы на окнах, современная мебель, кровати. На стенах висели картины. Здесь – старые кровати, тумбочки, серые, давно не видевшие ремонта, стены, обстановка действовала угнетающе. «Пахнет старостью, мочой, нездоровьем,– подумала Лидия Григорьевна. – Памперсы они, видимо, редко меняют, запах безнадеги. Надо чем-то заняться». Взяла с тумбочки журнал, который положил сын. И поняла, что читать не сможет. С глянцевой обложки смотрели красивые, преуспевшие в жизни звезды театра, кино, эстрады. «Будто я на другой свет попала. Я ведь никогда не жила, как звезды, но сносно было. А здесь, словно погребенные заживо».
– Расскажи о себе, Лида, – попросила Мария, – переживаешь, обстановка не нравится? Привыкнешь! Когда меня привезли, места себе найти не могла. Плакала, все хотелось встать на ноги, пойти домой, дважды с кровати падала... Бог вот так мой путь начертал, не могу ходить после инсульта. Лучше быть бомжем, но на своих ногах. Я шесть лет здесь. Мне восемьдесят один год. Я тебе свою биографию расскажу. Родилась в деревне Ивки, пятьдесят километров от города. Мне четыре года было, когда мать ранило осколком мины в войну, она кровью истекла на моих глазах. Старшая сестра пыталась помочь, но умерла мама. Отец на фронте был, осталось нас трое, я младшая, брату шесть лет, сестре двенадцать. Забрала нас к себе сестра отца, мы в одной деревне жили, у нее своих пятеро было. Голодали, ходили по деревням, попрошайничали, но выжили. Отец вернулся живым, царапины за войну не получил, но раненый в душу был войной, смертью мамы. Больше не женился, но и пожил мало, мне двенадцать лет исполнилось, когда помер. В пятнадцать я уже дояркой работала, на хорошем счету была. Замуж в девятнадцать выскочила, за тракториста. Григорий добрым был, но любви не было, так и не познала я любви за жизнь. Не дал мне Бог испытать любви. Книжки читать любила, про любовь... Первым сын родился, Толей назвали, потом дочь Зинаида. Жили в начале восьмидесятых хорошо, в доме все было: холодильник, телевизор, стенка, хрусталь, ковры, не хуже городских. Дом был ладный! Григорий все умел делать, выпивал по праздникам, на меня руку ни разу не поднял, детей баловал. Умер в шестьдесят два года. Дочь уже в городе жила, своей семьей, а сын не поладил с женой, колхоз еле дышал, уехал на заработки в Москву и сгинул, вот уже двадцать два года нет весточки. Может, в рабстве, может, убили. Знать бы как за него молиться! Молюсь, как за живого... Семь лет назад дочь стала звать к себе, я продала дом, деньги ей отдала. Двухкомнатную квартиру продали, трехкомнатную купили. И со мной беда – инсульт! Все работают! Кому за мной ухаживать? Решили сюда, в других интернатах хуже... Меня сюда взяли потому, что орден Ленина за труд доярки.
– Орден Ленина!
– Да!
– Большая награда!
– Большая, меня тогда чествовали всем колхозом! Почет, уважение были...
– А где сейчас орден?
– Внучка продала за пятьдесят тысяч рублей, телефон себе модный купила...
– Наглая какая!
– Не суди ее, я не сужу. Им хочется хоть что-то иметь, карабкаются из нищеты! Из моей памяти не вычеркнуть, как мне орден вручали. Уважали людей, хотя сейчас иное говорят...
– Я тоже считаю, что раньше людей ценили, а не деньги. Не были мы ни винтиками, ни шпунтиками, – сказала Валентина.
– А у вас что? – спросила Лидия Григорьевна заинтересованно, ей стало легче, люди хорошие, беда общая, надо вместе выкарабкиваться, решила она.
По характеру Лидия Григорьевна была человеком действия. Никогда в жизни не пасовала перед трудностями, сидеть, сложа руки, не могла. Мария рассказывала про свою жизнь искренне, но она смирилась с ситуацией, как будто ждала одного – смерти. Лидия Григорьевна свято верила, что нельзя мириться, надо действовать: «Надо оптимизм в них воскресить, а то похоронное настроение витает»,– решила она.
– У меня семьи не было, не случилось. Один племянник, сын сестры, остался, в Москве живет, раз в три месяца приезжает, раз в неделю звонит. А больше никто,– сказала Валентина.
– А сколько вы здесь?
-Тоже шесть лет. Мне восемьдесят исполнилось. Квартиру однокомнатную подарила племяннику. Сорок пять лет проработала учительницей, математик по образованию.
– И ученики не навещают?
– Так мне восемьдесят. Ушла из школы в шестьдесят шесть, навещали, заходили, хорошие люди выросли, а потом инсульт, меня сюда определили, в квартире чужие люди живут, племянник ее продал, у него сын заболел, лечить надо было.
– Так можно через интернет найти ваших учеников.
– Зачем людей тревожить?
– Потревожим!
– Какая ты заводная...
-Это есть и всегда было. Всегда хотелось всем помочь. Я свое за это получала, но избавиться от сочувствия не могла. Надо жить на полную, пока живы.
– Я не хочу жить, молю Бога, чтобы прибрал. Это не жизнь, – сказала Мария.
В это время раздался звонок на ее сотовый, она вздрогнула, подтянулась здоровой рукой за веревку, привязанную к спинке кровати, осторожно, будто брала какую-то драгоценную вещь, взяла телефон, нажала кнопку.
– Здравствуй! Как всегда себя чувствую. Не приедешь? Не можешь на этой неделе... Плохо себя чувствуешь... Как Леночка, Павлуша? Слава Богу! Обнимаю, целую! – Осторожно нажала кнопку, положила телефон на тумбочку, легла, отвернув голову к окну.
– Плачет, – сказала Валентина.
– Чего плачешь? – спросила Лидия Григорьевна. Мария молчала, а Валентина продолжила:
– У меня детей нет, мне и обижаться не на кого. А у нее и у Анны – дочери. Богадельни для одиноких и то не мед, а у кого дети, то смириться с этим трудно. И сколько лет не пройдет, а все думают: «Как это мать на старости лет, больную, немощную, отдать в интернат!». Эта боль занозой сидит. Мне не на кого обижаться, а все думаю: как это я никому не нужна осталась, жизнь нелегкую прожила... А у нее и дочь, и внучка, и правнук. Дочь раз в месяц приезжает и то не всегда, а живет в десяти минутах езды, пешком полчаса. Мы не дураки, понимаем все, не перестали чувствовать, наоборот, острее чувствуем несправедливость, потому что уход близок.
Лидии Григорьевне стало не по себе. Она представила на месте Марии свою мать, на глаза навернулись слезы.
– Мария, а чего ты дочь не построишь? – спросила она.
– Как это?
– Сказала бы: не пойду в интернат! Я твоя мать!
– А что я могла сказать! Своего угла не было. Кому за мной ухаживать? Все работают. Когда дочь сказала про интернат, то у меня сердце так сжалось, думала, умру. Хорошо было бы! Не судьба.
– Решились на такой поступок – совести нет.
– Да есть совесть, дочь хорошая, но работу не бросишь...
– Не согласна я. Она же у тебя на пенсии, всех денег не заработаешь, мать дороже денег.
– Об этом шесть лет думаю, извелась. Приезжала бы чаще, больше уже ничего не надо. Увижу ее и легче становится, готова и дальше свою лямку тянуть. Не береди душу, изболело все внутри.
– Я тоже думаю: почему меня бросили? Я тоже не противилась, когда решили меня в интернат отдать. Как противиться, если беспомощная совсем. Вы хоть видите, а я калека-калека...
– Я думала, что ты спишь, а ты слушаешь и на ум мотаешь, – сказала Мария. – У нас новенькая – Лида, она молодая, ей шестьдесят два года.
– Рано тебя определили сюда.
– Нет, Анна, нет! Я на реабилитацию легла, я на ноги встану! Дети у меня хорошие!
– У всех дети хорошие, только никому не нужны мамы немощные, ухода требующие, капризные, потому что хочется слова ласкового...
– У меня квартира своя, я себе хозяйка. Я только на реабилитацию, – настойчиво твердила Лида.
– У меня тоже квартира своя была, там сейчас внучка с мужем, ребенком живут, – сказала Анна. – После смерти мужа я жила одна, дочь, зять в гости приходили, и я к ним ездила. Сахарный диабет долго развивался, и вот так получилось...
– Пенсия у тебя сколько?
-Двадцать одна тысяча с инвалидными, но теперь денег нет у государства, так они и с пенсии семьдесят пять процентов с нас в интернате высчитывают, и с инвалидных столько же. На карточку мне пять тысяч семьсот пятьдесят рублей перечисляют, у дочки карточка, она раз в неделю приезжает, привозит вкусненького.
– А кем ты работала, что пенсия большая?
– На железной дороге инженером, а проживу еще пять лет, будет восемьдесят, так мне еще пять тысяч добавят. Вон Марии и Валентине уже платят. Мы, наверное, самые богатые пенсионеры в интернате. Но сюда с маленькими пенсиями не берут, таких в другие интернаты определяют... Там совсем плохо. Мои взятку давали, чтобы сюда взяли.
– В богадельню и ту взятку надо давать! Сын говорил, что тоже будет давать, не знаю сколько. Противно!
– Ты еще не знаешь, как противно, – сказала Валентина. – Подожди, столкнешься, мы привычные, заскорузлые и то порой плачем от их ухода. Здесь все злые, одна нянечка особенно. Когда ее смена, то я сама не своя, все глаза ее пытаюсь поймать, заглянуть в них. Своими словами и действиями убивает она...
– Все, хватит, свою порцию зла я уже получила, буду думать, – сказала Лидия Григорьевна.
Через пять минут позвонила сыну: «Забери меня отсюда, домой массажистку наймем, не хочу здесь лежать, плохо мне от этой обстановки». Сын стал уговаривать, объяснять с каким трудом удалось устроить ее на реабилитацию, надо взять себя в руки.
– Что он сказал? – поинтересовалась Анна.
– Надо лечиться...
– Сначала все так говорят. Не горюй, не все так плохо. У нас в палате демократия: можно говорить все друг другу. Когда приходит персонал, то начинается деспотия, говорить надо только то, что они хотят услышать, а лучше молчать. Если проверка, надо улыбаться и благодарить партию и президента, что не бросили стариков, создали прекрасные условия.
– Анна правду говорит, еще почувствуешь на себе,– подтвердила Мария.
– Почему запах в палате такой? Меня все время подташнивает от этого. В Москве нас тоже четверо в палате лежало, все неходячие, но не было запаха.
– В Москве за реабилитацию платили?– спросила Валентина.
– Конечно.
– Сколько?
– Семьдесят тысяч рублей в месяц!
– Тогда чего ты хочешь? Вот и памперсы меняли чаще, освежающими средствами брызгали. А в этих стенах запах испражнений устойчивый, до нас тут тоже люди лежали. Не знаем, не читали документов, сколько раз надо менять памперсы, подмывать нас, но выделяют два памперса бесплатно, а третий покупаем за свои деньги. Помнишь, детей растили, памперсов не было, подгузники из марли были, пеленки. Как пописал ребенок или покакал, то сразу меняли, подмывали. Еще и кремом детским смазывали. Свое дитя было. А мы, чьи дети? Ничейные. Да и не дети. Старичьё. Хорошо, что интернаты есть, иначе бы убивали таких наши же дети. Нашли бы как! Может, и лучше было бы. Забыла, как называется, когда укол делают с твоего согласия.
– Эвтаназия...
– Да, я бы согласилась. Это же не самоубийство, не грех. А, может, и на самоубийство пошла, но не знаю как. Из окна не выпрыгнуть, таблеток тоже нет.
– Нет, Мария, надо жить, верить.
– Верь, с тобой недавно это произошло. А я за шесть лет належалась, так отдохнула, что дал бы Бог счастье ходить, пошла бы на ферму и в восемьдесят лет работать. Муж мой умер во сне, как я убивалась, а теперь понимаю – счастье так умереть.
– Больше не могу вас слушать! Вы, девочки, без оптимизма живете, депрессия у вас. Психолог-то приходит, разговаривает с вами?
– Один раз, когда меня сюда определили. Минутку поговорила: мол, надо жить, люди в более сложных ситуациях оказываются. Это правда, вон Аннушке каково? Мы хоть видим этот мир.
– Глаза бы на него не смотрели.
– Душу разбередили. Давайте отдохнем, поспим,– сказала Валентина.
– Спите днем?
– Бывает. До тебя на этой койке лежала старушка девяноста четырех лет, маленькая, худенькая, как девочка лет двенадцати, она спала много.
– И где она?
– Где все будем – на небесах.
Лидии Григорьевне стало не по себе, она никогда не видела этой старушки, но явственно представила ее.
– Долго она здесь была?
– Меньше года, тоже все домой собиралась, как вылечат. Не ведала, что квартиру ее сын продал, все ее вещи выбросил, соседка ее рассказывала, что навещать приходила. Да ты не боись, все мы лежим на кроватях, на которых много людей умерло. Интернату лет семьдесят будет.
Лидия Григорьевна ничего не ответила, хотелось на улицу подышать свежим воздухом, посмотреть на деревья. Когда они подъезжали с сыном к интернату, она видела целую аллею цветущей сирени. «Как красиво!» – подумала. А теперь чувствовала, что мир для нее сжался до этой палаты, что никогда она отсюда не выйдет. Такой безнадеги в московском центре не испытывала. Снова позвонила сыну: «Забери меня, не хочу здесь лежать, дома хочу жить!»
Сын уговаривал потерпеть, обещал приехать, вывезти ее на прогулку. Взяла журнал, попыталась сосредоточиться на жизни знаменитой певицы. Она была снята на фоне таких интерьеров, что Лидия Григорьевна еще больше почувствовала серость и убогость своего существования. Со злостью, не свойственной ее характеру, подумала: «Им глянцевая жизнь, нам глянцевые журналы».
– Лида! Не горюй! Ты молодая, тебя подлечат, уйдешь на своих ногах. Девочки, давайте песню споем. – И запела «Я люблю тебя жизнь...» Голос у Марии был красивый, пела так, что брало за душу. Валентина и Анна подпевали.
– Да у вас хор настоящий! Я эту песню очень люблю. А ты певунья, Мария.
– Было, раз десять первое место в районе на смотрах художественной самодеятельности занимала. Когда совсем тошно становится, мы поем советские песни.
В палату вошла худая, высокая женщина лет пятидесяти в белом халате.
– Чего шумим?
Стало тихо. Лидия Григорьевна посмотрела на Валентину, та отвернула голову к стене и как бы сжалась. «Испугались они что ли? Все самое страшное уже случилось с ними. Неужели, испугались в эту тощую?»
– А кто шумит?– нарушила молчание Лидия Григорьевна.
– Не я же,– громко, по-хозяйски ответила женщина.
– Мы пели, а не шумели.
– А это не одно и то же?
– Конечно, нет!
– Я спорить не буду. У меня дел много. Ваше дело лежать и тихо лежать.
– Кто вы такая, чтобы указывать? Почему петь нельзя?
– Есть художественная самодеятельность, есть актовый зал, там петь можно. А здесь люди больные.
– Так это мы и есть люди больные. Нам что же теперь и петь нельзя.
– Я спорить не буду. Сказала тишину соблюдать!– ответила резко и вышла из палаты.
– Напрасно с ней связалась, она самая вредная нянька, посмотришь. Она тебе отомстит и нам достанется,– сказала Мария. – Я терплю, а Валентина плачет каждый раз, как она ей памперсы меняет. Оскорбляет, когда пересаживает на инвалидную коляску, нарочно старается, чтобы нога зацепилась, чтобы больнее было. Валентина говорит ей об этом вежливо, а та еще хуже себя ведет: мол, разговорилась под конец жизни, голос прорезался. И так три раза в день в ее дежурство. Мы на нервах в этот день. Остальные не такие злые, но добрых здесь нет. Кому нравится говно убирать?
– Не работали бы нянечками, раз люди в беспомощном состоянии им противны.
– Я тебе говорю как есть, еще нахлебаешься.
– Не пойму я, как она может говорить: «Ваше дело тихо лежать». Мы же не покойники, живые пока. Какая сука!
– Сука! Это верно,– поддержала Анна.– Мне говорит: «Разожралась на казённых харчах, только и делаешь что срешь. Дочери надоело, сдала тебя в интернат».
– Она может так говорить!
– Она все может, защиты не найдешь!
– А вы жаловались?
– Кому?
– Директору!
– Я его видела один раз, когда комиссия приезжала. А до этого зам его сказала, что комиссия будет ходить, отвечать надо, что всем довольны. Освежителем воздуха минут пять в палате брызгали, чтобы не пахло. Директор такой лощеный, красивый, как артист. Прошла комиссия быстро, словно ветер. Потом сабантуй, санитарки, я слышала, говорили. Все комиссии сабантуями заканчиваются, ни директору, ни проверяющим нет дела до нашей жизни. Директор хорошо живет! Дом у него с бассейном. Нянечки рассказывали. Иногда начнут его чихвостить, такого наговорят: вор, хапуга, а они, мол, за десять тысяч работают. И стоит над тобой нянечка, в глаза смотрит, не начинает менять памперс, ждет, чтобы пятьдесят рублей дала. И даешь пару раз в неделю по пятьдесят рублей. У каждой шесть палат в обслуживании. Дашь, а она скажет: «С паршивой овцы хоть шерсти клок».
– Наглые! Нахрапистые! Хоть каждый день давай, все мало. Раз директор ворует, и все об этом знают, то, как ему спрашивать с подчиненных.
***
Обед привезли около часа дня. У каждой кровати стоял столик на колесиках. Молоденькая девушка поставила на столики тарелки с супом, кашей и котлетами.
– Кружки готовьте, компот налью,– сказала она.
Лидия Григорьевна как могла села на кровати, хотела начать есть, но увидела, что Валентина и Анна лежат.
– Обедать не будете?
– Нянька должна прийти поднять изголовье кроватей, повернуть нас, иначе нам с Аней никак не поесть.
Та самая длинная и злая нянька вошла, подошла к Анне. «Давай помогай, я такую жирную не подниму». Через минуту подошла к Валентине, подняла изголовье тихо, сказать, что Валентина жирная, было невозможно. Она была худенькой, няня отделалась одним словом: «Жри!».
– Вы просто обнаглели. Как можно человеку сказать: «жри»,– не выдержала Лидия Григорьевна.
– Ты мне указывать будешь? Пожалуйся на меня. Скорее тебя отсюда уберут, чем меня, а то и в психушку поместят. Расскажу, что ты здесь устраиваешь.
– Что я устраиваю?
– Шума от тебя много, а всего первый день тут. С такими, которым не нравится, в психушке разбираются, уколют, потом будешь овощем тихо лежать, но не здесь.
– Фашистка! Разберемся с тобой! – закричала Лидия Григорьевна. Она так разнервничалась, что дрожали пальцы рук здоровой руки. Нянька вышла из палаты со словами: «Сейчас увидите». Минут через десять в палату вошли две женщины, одна лет пятидесяти, другая помоложе.
– Что происходит? – спросила та, что постарше.
– А вы не представились,– сказала Лидия Григорьевна.
– Я заведующая отделением, а это психолог.
– Хорошо, что сами пришли. Полное безобразие, как обращаются с больными, пожилыми людьми.
– Что вам сделали?
– Нянька – фашистка. Она последнее здоровье отнимает. Грубая, слова такие говорит! Да мы бы мечтали в туалет своими ногами ходить. Нашла, на ком отыгрываться.
– Успокойтесь! Может, она, что и сказала не так, но надо понимать: нервы могут сдать у каждого на такой работе... Зарплата маленькая. Войдите в ее положение.
– А кто войдет в наше?
В это время в палату вошла та самая нянька, видно, подслушивала за дверью.
– Зоя Дмитриевна, я уволюсь, меня фашисткой назвать, а я за ними говно убираю, вместо благодарности – оскорбляют.
– Успокойся, Надежда. Всем надо успокоиться. Вот психолог Эмма Викторовна с вами поговорит, разрядит ситуацию. Вы первый день, у вас стресс,– заведующая собралась уходить из палаты, но Лидия Григорьевна остановила ее:
– Подождите! Да, я первый день, но я легла на реабилитацию, у меня, слава Богу, квартира есть. А они здесь уже по шесть лет, только эти стены и видят. Ваш психолог, няни, все другие должны так работать, чтобы им лучше было. Да они ждут не завтрака, обеда или ужина, а людей! Вот войдут и слово доброе скажут. А у вас все молча, молча. То, что готовят, есть нельзя...
– Это диетическая пища... – сказала нравоучительным тоном заведующая.
– Диетическая значит – тошнотная? Как можно умудриться кашу плохо приготовить! А от котлет понос начинается! Потом няньки выговаривают за это, памперсы не меняют, лежат в говне...
– Я не отвечаю за пищеблок! – повысив голос, сказала заведующая.
– Вы же врач, как это вы не отвечаете, как кормят больных!
– Некогда мне дискутировать, работы много!
– А это не работа? Психолога привели, а что он сделает, если няньки грубые! Тут гипнотизер нужен, чтобы ввел нас в транс, и мы бы перестали видеть реальность. Нянька бы доброй феей стала.
– Вы лечиться приехали или конфликтовать? Может, вам сначала нервы подлечить, а потом к нам? – заведующая пристально посмотрела в глаза Лидии Григорьевны. – Это можно устроить, к нам очередь! У нас лучший интернат в области!
-Решили поугрожать мне? Что за люди у вас подобрались! Где милосердие? Мы же все в сложной ситуации, прикованы к постели. И вы, врач, угрожаете! Зовите директора! С вами разговаривать не хочу!
– Никакого директора звать не буду, у него без вас дел хватает. Тут семьсот человек, к каждому он подходить не может!
– Придет! – сказала Лидия Григорьевна уверенным голосом. Она успокоилась, в голове ее созрел план действий.
Заведующая ушла. Психолог взяла стул, села около кровати Лидии Григорьевны.
– Вы чрезмерно возбуждены. Надо поспокойнее относиться к ситуации. Нянечки грубые, пища невкусная, но ведь родные дети отдали сюда этих женщин, не захотели ухаживать. Не было бы таких интернатов, тогда куда? Крыша над головой, ухаживают. Посмотрите на это с другой стороны, не все так безрадостно. Сейчас вы легли на реабилитацию, а, если изменений в состоянии здоровья не произойдет, то вы можете остаться здесь до конца жизни. Зачем конфликтовать?
– Вы умеете поддержать человека в сложной ситуации! Я встану на ноги, не убьете веру. А многих, видимо, пригвоздили навсегда! Бесправные люди, а с вашего молчаливого согласия над ними эксперименты ставят! Фашисты!
– У вас все фашисты! Зачем преувеличивать! – спокойным голосом, без всяких эмоций сказала психолог. – Посмотрите, люди тихо лежат, довольны, одной вам не нравится. Ведь, правда, женщины, все нормально?
В палате стало тихо, но Лидии Григорьевне показалось, что сейчас что-то произойдет, а, может, и обойдется, боятся всего и всех.
– Хорошо вам, девочки? – спросила Лидия Григорьевна. – Если плохо, то читайте параграф, где написано, что отвечать надо: «Хорошо!»
Анна, Мария и Валентина рассмеялись, психолог напряглась.
– Видите, люди живые, в этой тюрьме еще чувство юмора не потеряли, – сказала Лидия Григорьевна.
– Может, кто-нибудь хочет поговорить? – спросила психолог.
– Нет, – ответила Мария. – Лида – настоящий психолог. Ее нам Бог послал, жизнь началась...
Психолог встала со стула, поставила его к столу у окна, собралась уходить.
– А вы знаете, что Мария орденом Ленина награждена за свой труд?– спросила Лидия Григорьевна.
– А это здесь причем?– сказала психолог.
– Только при том, что она человек заслуженный. Орден Ленина – высокая государственная награда, а няня ее отчитывает, что покакала в памперс, потому что ходить не может. Хорошо, если бы мы не какали, не писали, святым духом питались, а интернату наши бы пенсии перечислялись!
Психолог ничего не ответила, тихо вышла из палаты.
– Сейчас брызгать себя духами французскими будет, передышала нашим воздухом,– сказала Лидия Григорьевна.
– А откуда ты знаешь, что французскими?– поинтересовалась Мария.
– У меня тоже французские есть дома, она так надушена, что сил нет.
– Они хорошие?
– Хорошие...
– Дорогие, небось, у меня никогда не было, я «Красной Москвой» душилась, мне нравилось. Да и то изредка, когда в клуб ходили, в кино.
– Что же вы меня не поддержали? – спросила Лидия Григорьевна.
– Тебе шестьдесят два, а нам за восемьдесят. Может, тебя дети заберут после реабилитации, а нам здесь лежать... – сказала Валентина. – Терпеть надо!
– Слышала, что тут храм есть, а, значит, и священник. Надо пригласить его, пусть наставит их на путь милосердия... – решила Лидия Григорьевна.
– Просить надо, чтобы пригласили, обо всем просить надо. Поэтому нельзя ни с кем ругаться, надо тихо все сносить. Священник приходил, когда Аню привезли. Она три дня лежала, слова не произнесла. В отчаяние впала. Сначала ослепла, потом ноги отняли, а потом в интернат сдали! Столько бед на одного человека! Видно, попросили священника с ней поговорить. Пришел, сел около ее кровати, за руку ее взял, она заплакала. Что он ей говорил, я не слышала, но после этого разговора стала понемногу в себя приходить. Он и к нам подошел, благословил, назвал страдалицами... Но он же не директор интерната, чтобы изменить нашу жизнь.
Лидия Григорьевна замолчала. Она чувствовала усталость и опустошенность. «Чего я душу рву, через месяц-другой дома буду». Стала листать глянцевые журналы, чтобы забыться. Потом взяла сотовый, зашла на свою страничку в «Одноклассниках».
***
После окончания института она пришла работать на завод по распределению. Начинала мастером участка, потом стала мастером смены. Замуж вышла за заводского парня Валерия. Муж хотел, чтобы она нашла себе место поспокойнее, но Лида любила свою работу, не хотела переходить в отдел, как она говорила: бумажки перебирать. Сначала родилась дочь, а через четыре года сын. Сыну исполнилось два годика, когда мужа не стало. В этот день она была дома, взяла отгул на работе, ей не нравилось самочувствие сынишки. В двенадцать часов дня ей позвонил начальник цеха, сказал, что сейчас приедет. «Зачем ему приезжать, может, случилось что, документы не могут найти?» – забеспокоилась. Вскоре приехали начальник цеха и председатель цехкома Евдокия.