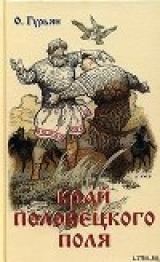
Текст книги "Край Половецкого поля"
Автор книги: Ольга Гурьян
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Глава девятая ОГОНЕК
Да куда же, в самом деле, подевались скоморохи? Ни в море они не потопились, ни сквозь землю не провалились, а выбежали они, в чем были, за ворота и побежали по дороге. Еван бежит-пыхтит; Вахрушка за его рубаху держится, ногами перебирает, снег загребает, едва за Еваном поспевает. А у Ядрейки голова на тонкой шее вертится, как горшок, что на плетень сушиться вывесили. Беспрестанно оглядывается Ядрейка, от страха стучит зубами, еле-еле выговаривает:
– На-на-нагонят нас! Мы пе-пеши, они конны!
Еван пыхтит-отвечает:
– Авось, уф-уф! Не хватились еще – уф! Позади никого не видать – пых-пых!
Вахрушка кричит:
– Впереди дяденька на санях!
Еще прибавили они ходу, на ходу кричат:
– Эй! Эй! Постой!
Нагнали мужика с санями, просят:
– Будь добрый человек, подвези.
Мужик отвечает:
– А я в лес за дровами еду, А вам в лес-то не по пути будет.
Еван поскорей говорит:
– А по пути, по пути. Нам в лес по пути. У настам родные-знакомые проживают!
Это он нарочно выдумал. Какая там в лесу родня? Волки да медведи? Никакой родни у него там не было. А Вахрушка поверил, обрадовался:
– У меня за лесом мамка живет, заждалась нас!
Мужик уж было согласен, да сомневается:
– А вы не разбойники будете?
Еван его уверяет:
– Да протри глаза! Да разве разбойники такие? Кто на разбой малого мальчонку с собой берет?
Поверил мужик, посадил их в сани, повез. Вот поехали они, свернули с дороги в лес, приехали на порубку, остановились сани. Мужик говорит:
– Вот мое место, а дальше уж пешком пойдете. Я и рад бы вас подальше подвезти, да тороплюсь обратно дотемна вернуться.
Скоморохи благодарят:
– И на том спасибо. Нам уж теперь недалеко.
Да, недалеко! Сами не знают, куда идут.
Вот углубились они в лес, а лес чем дальше, то дремучей. Высокие деревья густо стоят, переплелись-перепутались ветвями – неба не видать. Снега навалило Вахрушке по колени – тропки-то нехоженые, неезженые, вовсе никаких тропок нет. Вахрушка спрашивает:
– А скоро мы к мамке придем?
– Ну и несмышленыш! – говорит Еван. – Мы сюд аот твоей мамки два месяца шли, а ты обратно хочешь в полдня добраться. Сколько отсюда туда, столько ж оттуда сюда. Через два месяца вернешься к мамке.
Вахрушка помрачнел. И в ногах будто тяжести прибавилось.
Наконец все трое выбились из сил и, куда дальше двигаться, не соображают. А уж стало совсем темно. Еван говорит:
– Утро вечера мудреней, придется нам в лесу заночевать. А не хотелось бы.
Ядрейка потянул носом и говорит:
– Человечьим духом, дымком пахнет. Я влезу на дерево, на высокое, погляжу на все четыре стороны – высмотрю человечье жилье.
Выбрал он дерево повыше, подскочил, ухватился за сук, подтянулся и вверх полез. Руки-ноги у него длинные, живо взобрался на самую верхушку. Кричит оттуда:
– Огонек видать! И недалеко!
Стал он спускаться, а Еван ему снизу кричит:
– Эй, Ядрей! Осторожней ступай! Смотри, куда ногу ставишь! Сперва пощупай, а потом уж опирайся. Вниз-то оно опасней! И кошка с дерева задом ползет.
– Ученого учить! – небрежно говорит Ядрейка.
И уж совсем почти спустился, уж его длинные ноги у Евана над головой болтаются, и вдруг нежданно сук, за который он держался, затрещал, надломился, и Ядрейка полетел вниз.
Упал Ядрейка, хочет встать. Ухватился одной рукой за куст, другой рукой Евану в плечо вцепился, поднялся, на одной ноге стоит, на другую ступить не может: больно – мочи нет терпеть. Застонал Ядрейка, сквозь зубы говорит:
– Ой, я, кажется, ногу сломал.
И опять на снег повалился, стонет.
Как быть? Неужто в сугробе заночевывать? Ведь огонек-то, человечье жилье близко.
Подобрал Еван сук, который вместе с Ядрейкой вниз полетел, – ветви на этом суку широкие, разлапистые, хвоя густая, мягкая, бурая, будто полость настелена, шкура медвежья.
– Вот, – говорит Еван, – сани-волокуши. Ложись, Ядрейка, я тебя повезу.
Помог он ему лечь, а Ядрейка уж вовсе без памяти. Бормочет невесть что, зубами скрипит, ругается.
Еван привязал его кушаком, чтобы Ядрейка не свалился, когда будет метаться, а сам ухватился за сук, поволок сани. Вахрушка идет впереди, раздвигает кусты, выбирает дорогу, где волокуше можно пройти.
Стали деревья редеть, и темное небо над головой видно, и восточная звезда, первая, в нем засветилась.
Стали деревья совсем редкие, кривые, узловатые. Стволы будто водянкой раздуло, изломанные ветви будто руки вздымаются, будто волосы лохмами свисают. Все-то деревья в буграх да в наростях – чудища ночные.
Выплыл полный месяц, стало светло. Да не кис днем под мягким солнечным светом, а все резкое, холодное. И тени чернее, и снег белее. И впереди, в низинке, избушка.
Стоит избушка на высокой кочке, на древесных пнях, будто на куриных лапах, над землей поднята. Сквозь затянутое бычьим пузырем окошко мутный, красный огонек светится.
Поднялся Еван по древесным корням, как по лесенке, стукнул в дверь, позвал:
– Помогите, добрые люди!

Отворилась дверь, на пороге старуха.
Сама высокая, в плечах широкая, рубаха на ней складчатая, на голове шапка высокая из бересты, на шее монисто, да не из монет, а из птичьих черепов. А в руке она держит тяжелую клюку. Стоит молча, смотрит на скоморохов, лицо темное у нее, как ночь, в глазах луна и снег отражаются.
Вдруг бросила она клюку назад через левое плечо, спрыгнула с порога вниз, нагнулась над Ядрейкой, острыми зубами его путы, Еванов кушак, распустила, сильными руками Ядрейку подхватила и внесла его в избу. А за ней и остальные вошли.
В избе жильцов полпым-полно. В углу черная коза бороденкой трясет, у печки черный кот дугой изогнулся, трется об ухват. На насесте черные куры сонные плешей с глаз сдвинули, распушили перья, куриных блох ищут. А со стены смотрит пустыми глазницами лошадиный череп.
Старуха расстелила на полу коровью шкуру, белую с черными пятнами, и положила на нее Ядрейку. Повернулась к печке, плюнула, топнула, кинула в огонь пучок травы. Вспыхнул огонь синим пламенем, густая копоть от него полетела. Старуха повернулась к Евану, спрашивает:
– Как его по имени зовут?
– Ядрей.
Пламя лижет котел синими языками, в котле варево бурлит, старуха мешает его, да не ложкой, не палкой, а берцовой костью. Ходит вокруг котла, скороговоркой бормочет:
Едет перуи в телеге,
Золоченые спицы.
От спиц искры, от колес гром,
Гром, гром.
Ударь, гром, в дуб,
Расщепи сук
На мелкие щепочки.
Ударь, гром, в гору,
Расколи камень
На мелкий щебень.
Ударь, гром, в реку,
Расплескай воду
На мелкие капельки,
Моего Ядрея ногу не тронь!
Кости срастутся,
Мясо заживет,
Кожа затянется.
Тут она зачерпнула из котла кипящее варево, дунула туда, плюнула, отхлебнула, распробовала, причмокнула и полный корец[4]4
[3] Корец – ковш.
[Закрыть] Ядрейке в рот влила.
Ядрейка губами забулькал, руками замахал и затих. А старуха, сорвав со стены бубен, закружилась и запела:
Энь-дрень-дребедень
Сел кот на плетень.
Кошки-мышки-кочерыжки,
Козьи ноги, кочерга.
Старуха крутится, широкая рубаха колоколом вздулась, черные космы змеями взвиваются, монисто-череписто костями бренчит.
У Вахрушки перед глазами крути завертелись – белое, черное, серое, красное, синее, бурое. Больше он ничего не помнил.
Глава десятая СТРЕЛА
Что-то пощекотало Вахрушкину щеку, он проснулся, открыл глаза и увидел, что рядом примостился кот, лапами тянется, мурлыкает.
И с чего это вчера померещилось, будто кот весь черный? На носу к кота белое пятно и брюхо белое, хвост полосатый. Вахрушка почесал коту пузо и огляделся. В избе светло, только не прибрано. Ядрейка лежит уже не на полу, а на широкой скамье, опершись о стол локтем, хлебает из чашки молоко. А старуха у печи хлопочет, в печке дрова потрескивают, золотое пламя пляшет, язычками котел лижет, а над котлом сладкий пар стелется. И лицо у старухи не страшное, не черное, а только неумытое, в саже и в копоти.
Вахрушка посмотрел на свои руки, они тоже все грязные. И рубашечка новая, которую девка Дунька петухами вышила, а боярыня ему вчера утром подарила, такая рубашечка серая, будто он ее месяц не снимал.
– Я пойду снежком умоюсь, – сказал Вахрушка. Старуха повернулась, задумчиво ответила:
– А стоит ли? Изба-то курная,[5]5
[4] Курная изба – то есть без трубы, дымная, закопченая.
[Закрыть] в одночасье опять сажей перемажешься.
– Я пойду, – повторил Вахрушка, открыл дверь и прямо с порога прыгнул в снег.
Вслед за ним кот высунул нос, раздул ноздри, стал воздух нюхать. Куры высыпали наружу, распушили перья. И вовсе не черные, а рябенькие.
Вахрушка умылся снегом, расчесал пятерней вихры, загнал кур обратно в избу, кот сам за ними пошел. А в избе уже стол накрыт и завтрак богатый – взвар из сушеных груш и пироги с грибами.
Ядрейка, будто он уже совсем здоровью, стал просить пирог, но старуха не дала, а сказала поучительно:
– Хочешь здоровым быть, до ста лет прожить, всякую еду потребляй вовремя. В марте сладко ешь и пей, в апреле репы не ешь, в мае поросят не ешь. Хочешь, я тебе еще молочка подолью?
После завтрака старуха сунула миску коту вылизать, вздохнула и заговорила:
– Сломанную-то ногу, сколько ни ворожи, в одну ночь не срастить. Придется Ядрею еще пожить у меня. А вы как надумаете? Будете его здесь дождаться или по своему делу дальше пойдете?
На это Еван ответил:
– Нам без Ядрейки никак нельзя. Позволь его здесь дождаться, добрая женщина, уж не знаю, как тебя по имени звать?
– Люди меня кличут Баба-Яга.
– Так позволь нам, Ягуша, остаться у тебя.
– Да оставайтесь, мне что, – сказала Яга. – Небось не обидите меня. Оставайтесь!
– Бабушка Ягуша, у тебя помело есть? – спросил Вахруша.
– А то как же? Есть у меня помело. Известно, говорят, Бабе-Яге без помела и без клюки шагу не ступить. А зачем тебе помело?
– Больно у тебя не прибрано. У меня мамка каждое утро пол подметала, – ответил Вахрушка.
– Поиграй, дитятко, – сказала Яга. – Помети пол, если это тебя потешит. А по мне ни к чему. Куры с козой опять напачкают…
Вот стали они жить-поживать. День живут, другой живут, третий, десятый. Куры яйца несут, коза молоко дает, кот песни поет, мышей ловит, Еван за хворостом в лес ходит, Вахрушка по дому помогает, Ядрейка поправляется. А Баба-Яга иной раз наденет с утра теплую однорядку, поверх берестяной шапки платком укутается, клюкой подопрется и на весь день уйдет.
– Каша-то в печи. Без меня обедайте! – крикнет. Вечером воротится, притащит полную кошелку добра – тут и полотна трубка, и пряжи моток, и еда всякая.
– Мне люди за ворожбу пожертвовали. Я сына старостихина от трясучки излечила. Дунула, плюнула, на шею ему ладанку-пауз повязала, заговор шепнула, беса прокляла – хворь как рукой сняло. Хромого теленка на ноги поставила. Кривой девке-бесприданнице жениха приворожила…
А иной раз Ягуша никуда не уйдет. Сидит целый день, у печки греется, кудель не прядет, холст не ткет, а только про старых богов сказки сказывает:
– Как в былые годы, в прежние времена покидали в городе Киеве богов в Днепр-реку – и Перуна, и Волоса, и Сварога. Стали с той поры князья и бояре людей притеснять и не стало от них зашиты. Ох, да не вздыбил Перун, не вынырнул. Разбило у днепровских порогов Перуна в щепы, серебряная его голова, золотые усы в пучине утонули, на дно канули. Потопили богов в Искоростени и в Чернигове. Во Вручьем городке, в Переяславле, в Любече порубили. В Муроме, в Смоленске сожгли. А живы старые боги, и люди им потаенно поклоняются. От Перуна – гром, от Хорса – небесный огонь, оба они молнии сыновья. Скотий бог Волос скот стережет, богатство дает, бог Сварог железо варит, оружие кует. А бабам в их трудах помогает Мокошь. Боятся бабы Мокоши. Простым глазом она невидимая, телом прозрачная и тонкая, прилетает паутиной по воздуху, а руки у ней длинные, ниже пят. Помогает Мокошь женщинам прясть, а отлучится баба куда, Мокошь сама за нее спрядет. Боятся бабы Мокошь разгневить: она кудель спутает, нить порвет, сколько ни связывай – вся в узлах. Много-премного невидимых богов: боги мглы и боги света, боги облаков и рек и лесов и стрибожьи внуки – боги ветра. Сами невидимы, а людские дела видят. Затеешь недоброе дело – Карну и Желю кличут, смертью покарают, зарыдают по убитому, дева-обида лебедиными крыльями взмахнет, страшным-ужасным голосом заплачет…
А иной раз начнет Ягуша приметам учить:
– Ты глаза-то разуй, уши навостри, все кругом примечай. Ухозвон, куроклик, мышеписк, воронограй. Красное солнце тучей закроется-затмится – быть беде…
Такого наговорит – и спать-то жутко и двинуться боязно – из темных углов тени поползут. А Ягуша ухмыльнется, прищурится, скажет:
– Ты, Вахруша, не пугайся. Не всякому слову верь, миленький. На то она сказка – страшно, да складно. Уши развесишь, в рот муха залетит…
Так они живут, неделю живут, две живут. Глянь, и месяц прошел. У Ядрейки нога зажила, как прежде цела стала: хочешь – пляши, хочешь – кувыркайся. Пора уходить.
Уж весна настала, солнышко землю пригрело. Уж Вахрушкин отец, наверно, домой возвратился, лошадь купили, в поле пашет, бороздки пометывает, золотое зерно пригоршней раскидывает. Пора и Вахрушке в путь собираться.
Простились они с Ягушей, пирогов-подорожников она им напекла. Ушли.
Идут они, идут, дорогой незнакомой. Вахрушка спрашивает:
– А скоро мы к мамке вернемся?
– Всему свое время, – говорит Еван. Опять они идут, идут. Вахрушка спрашивает:
– Мне домой пора. До весны обещались. Отпустите меня!
Еван вздохнул, да так-то глубоко и жалостно. От того громкого вздоха по траве трепет пробежал.
Вздохнул Еван, наземь сел, руки на колени уронил, заговорил:
– Ох, сердце мое глупое да участливое. Теленку бы такое сердце под стать, а не мне, старому дураку. Всякий-то меня разжалобит, всякого я приголублю. Пятый десяток но земле ступаю, а к людской злобе и обману привыкнуть не могу. Пригрел я змееныша на своей груди, червя ползучего в сафьяновые сапожки обул! До весны, говоришь, обещались? Так ступай к своей мамке, не терзай меня, уходи поскорей с моих глаз долой!
Так он горестно причитал и невидимую слезу кулаком растер, а Вахрушка от таких речей совсем растерялся и только спросил:
– Да что ж я сказал такого?
А Еван говорил все печальнее:
– И как у тебя язык повернется еще спрашивать? Разве я не заботился о тебе, как добрый отец о сыне, а ты покидаешь меня в горе-несчастье. Всё наше добро потеряли мы у боярина, остались нагие и нищие. Как нам убытки пополнить? Ты уйдешь, кто в дудку дудеть будет? У меня не три руки, не могу я и в барабан бить, и в свирель свиристеть. А без дудок и веселье не то и люди нам скупей подавать станут. А Ядрейка! Нога-то у него больная, а придется ему плясать без отдыха, без передышки. Разве у него сил хватит? Только осталось нам с Ядрейкой лечь на сырую землю под ракитовым кустом и богу душу отдать!
Ядрейка плечами пожал и тихонько присвистнул, а Вахрушка, вконец оробев, чуть не плача, тонким голосом говорит:
– Я бы остался еще немножко, да мать меня ждет.
– Остался бы? Мать, говоришь, ждет? – говорит Еван задумчиво и медлительно. – Это похвально, что ты о матери беспокоишься. Это ты хороший мальчик! Но я твоему горю могу помочь.
Ядрейка шею вытянул, глаза перекосил, слушает, что дальше будет.
– Мы твоей матушке письмо пошлем, – говорит Еван.
– Письмо? – говорит Вахрушка. – Да кто ж его напишет? Да как мы его пошлем? А получит она его и прочесть не сумеет.
– Я напишу! – говорит Еван и в грудь себя ударяет. Тут Ядрейка фыркнул и пробормотал:
– Ишь грамотей нашелся.
Но Еван не обратил внимания и продолжал:
– Говоришь, не прочесть ей письмо? Простое-то письмо, понятно, не каждый сумеет прочесть. А мы напишем твоей матери волшебное письмо. Не простое, а заговоренное, к волшебной стреле прикрепленное. Взовьется стрела под небесами, пронесется письмо над лесами, отселе и дотоле, до самого твоего села. Само письмо к матушке прилетит, само ей на колени ляжет, а как возьмет она его в белы руки, само оно себя вслух человечьим голосом прочтет.
Ядрейка хотел было заговорить, да Еван так зыркнул на него, что Ядрейка прикусил язык. Сел он на пенек, одну ногу вкруг другой переплел, длинный подбородок в ладони упер, хмурится, а молчит.
– Эньди-дрэньди, – шепчет Еван.
Срезал с орешника прямой прутик, снял с него кору, один конец заострил, к другому – деребеньди! – привязал пучок птичьих перьев. На ладони эту стрелу взвесил – есть ли в ней равновесие, прямо ли полетит – и спрашивает Вахрушку:
– Что писать-то будем?
Вахрушка смотрит будто зачарованный. Рот таково широко открыл, сейчас, гляди, ворона залетит. Он у Ягуши всяких чудес наслышался, его волшебной стрелой не удивишь. Поверил он в нее, говорит:
– А напиши: я, мол, скоро вернусь, гостинцев привезу.
Еван острым ножиком царапает на стреле знаки, шепчет:
– Веди, аз, Вахрушкиной матери… – А дальше так тихо зашептал, что и не поймешь ничего.
– Ты напиши, пусть не плачет. Пусть мышеписка, куроклика остерегается. Чтобы здоровая была! – говорит Вахрушка.

Ядрейка от злости пальцы себе ломает, суставами хрустит, под нос себе бормочет:
– У, собака, старый пес!
Еван не обращает внимания на эту брань. Отломил он ореховую гибкую ветку, концы веревочкой соединил – получился лук. Наложил он на лук волшебную стрелу, натянул тетиву до самого уха, спустил ее. Улетела стрела в поднебесье.
Глава одиннадцатая ЛОДКА
Вахрушка старается, пляшет, сапожками стук-стук, подковками звон-звон. На дудочке засвиристит – всех птиц перечирикает, тюр-люр-лю. Рожи кривит – со смеху помрешь, за словом в карман не лезет, бойкий парнишка, золотой мальчишка, цены ему нет!
Старается Вахрушка – отрабатывает свой долг Евану. А уж лето настало, луга стоят зеленые, цветами расцвеченные, хлебные колосья налились, позолотились. В ожидании богатого урожая люди все добрые. Котомки за спиной у Евана, у Ядрейки опять наполнились пуще прежнего. Уже тяжелы стали, плечи натирают. А Еван говорит:
– Нет, мало еще! Погоди, Вахруша!
И все дальше и дальше уходят они на полдень, от родимого Вахрушкиного села прочь.
Лесов дремучих уже нет, один перелески. И селения чаще.
А нехорошие тс селения. Где избы пусты стоят, брошены – народ весь разбежался, а может, побили их или в плен, в рабство увели. А где вовсе всё потоптано-повыжжено. К иному селению и близко не подойдешь – ветер оттуда подует, мертвым духом несет. А где и остались люди, хмуро смотрят, на скоморохов и глядеть не хотят, своих забот полой рот – не до веселья. И поля-то все не вспаханы, заросли сорными травами. Лето погожее, а урожая не жди.
– С чего бы это? – спрашивают скоморохи. – Какая такая прошла здесь беда? Не моровая ли болезнь людей поморила?
Люди отворачиваются, глаза отводят, говорят нехотя:
– И не мор, не болезнь, а княжеские полки здесь прошли. А какого князя, нам неведомо, Рюрика ли Ростиславича, Святослава ли Всеволодовича, кто их разберет? У всех речь русская, лица светлые, щиты красные, брони и шеломы, как вода, на солнце сияют. Все-то похожи, как родные братья, а где встретятся – там бьются, а где пройдут – там пустыня.
Ядрейка говорит:
– А не повернуть ли нам обратно? В Черниговской земле тиxo. Сколько добра мы там заработали, а здесь все проедим.
– Нет, – говорит Еван. – Дальше шли, меньше осталось. Уже до Киева недалеко. Вокруг Киева городов много – там поправимся.
Ядрейка не стал спорить, Вахрушку не спрашивают. Пошли они дальше.
Пониже Остерского Городца вышли они к Десне, широкой реке, пошли берегом.
Вот идут они, солнце налит, пот со лба градом катит, с носа капает. От одного села, не завернув туда, ушли, до другого не дошли. Вдруг видят они на берегу челн, из липового дерева долбленный, и уключины на месте, и весла тут же на песок брошены.
Оглянулся Еван во все стороны – нигде людей не видать. А стоит невдалеке избушка, и оттуда голоса слыхать. Какие-то двое там ссорятся-бранятся.
Еван говорит:
– Хотел я тебя спросить, Ядреюшка, как нога твоя, не ноет ли?
– Вот вспомнил! – отвечает Ядрейка. – С чего ей болеть, давно зажила.
– Чего ж ты обижаешься? Я тебя по-доброму спрашиваю, – говорит Еван. – О тебе беспокоюсь. И Вахрушенька не устал ли? Идти-то жарко, а на реке небось прохладно. Идти-то устанешь, а ладья сама тебя несет.
– Это какая такая ладья? – говорит Ядрейка. – Не эта ли?
– А хоть бы и эта, – говорит Еван.
– Хозяин-то выскочит, намнет тебе шею за такие дела, – говорит Ядрейка.
– А не выскочит! Слышишь, уж там драться начали, горшки бьют. Не до нас им. Пожалей ты, Ядрейка, меня, старика, как я тебя жалею. Сядем в лодку!
– И то, не сесть ли?
– Сядем, сядем. И Вахрушенька сядет. Вниз-то по течению через день в Киеве будем. Подсоби-ка лодку на воду спустить. Ай, хорошая, легкая, а вместительная какая! Кидай-ка котомки на дно. Осторожней лезь, Вахрушка, не перевернуться бы. Ну, с Богом!
Уж они оттолкнулись от берега, когда из избушки выскочил мужик, весь растерзанный, растрепанный. Увидел уплывающую лодку, завопил, руками замахал, да поздно! Другой раз умней будет, не оставит весла на берегу, с собой в избу возьмет.
Хорошо плыть по реке…
Наконец увидели вдали Киев на горе. Белокаменные высокие стены в вечерней заре розовеют, золотые маковки огнями вспыхивают, последний солнечный луч отражают.
На ночь не стали они высаживаться на берег, костер разводить. Боялись, как бы не увидели их, не отобрали бы лодку обратно. Поели всухомятку, подвели лодку в тихую заводь, где кусты низко свешивались над водой, так что ниоткуда нельзя было обнаружить их, привязали лодку и прямо в ней, подложив котомки под головы, полегли спать. Укромно, будто в шалаше.
А ночь-то звездная, тихая, от реки свежестью несет, вода плещется, баюкает.
Среди ночи их разбудили шум и грохот, словно тысяча кузнецов разом по наковальне ударили, и земля трясется и стонет. Кругом кромешная тьма, ничего не видать, а где-то невдалеке бьют в бубны, и трубы гудят, и кони ржут, и железо бряцает, и дикий вой, и смертный вопль.
Еван, и Ядрейка, и Вахрушка сидят, друг к другу прижавшись, застыли – страшно.
Вот уж как будто шум стал удаляться, а немного погодя будто конский топот, два коня скачут – и прямо к реке.
Ядрейка не удержался, встал на ноги, голову просунул сквозь ветви. А уж рассвет чуть забрезжил, и в сером предутреннем свете видит Ядрейка: два всадника несутся. В то же мгновение и они его увидели, и один как закричит:
– Лодка!
Подлетели к берегу, с коней соскочили, ветви раздвинули и прыгнули в лодку. Схватили весла, стали лодку поворачивать, обратно, вверх по течению грести.
Скоморохи и ахнуть не успели, так все быстро случилось. Слова поперек сказать не смеют: всадники-то, видать, знатные, князья или бояре, – шлемы золотые, доспехи сияют.
Вот один из них крикнул Ядрейке:
– Греби! Чего сидишь, как болван! – кинул весла и, сняв шлем, зачерпнул рукой воды и омочил лоб.
И тут, как он шлем снял, Вахрушка его сразу узнал, Игоря Святославича. Вахрушка обрадовался, а чего обрадовался и сам не знает, протянул к князю руки, кричит:
– Не узнаешь меня?
Игорь Святославич смотрит, глаза у него красные, взгляд мутный, губы запеклись, смотрит он на этого мальчишку, щурится и вдруг засмеялся. А смех-то хриплый, будто взлаял.
– А, это ты самый храбрый на селе? Жаль, тебя с нами не было нынешней ночью. Такой бы храбрец кстати был!
Вахрушка еще хотел было поговорить, да князь отвернулся, повалился на дно лодки и заснул.
Тут второй воин передал весла Евану, приказал – а говор-то у него странный, гортанный, не наш, – крикнул:
– Вверх по реке правь. Повернешь – убыо! – и тоже спать завалился.
Ух, страшный какой! Лицо-то у него и у спящего свирепое. Плоское, смуглое, усы редкими волосами щетинятся, рот ощерен, клыки желтые, волчьи, видны.
– Кончак, хан половецкий, – шепчет Еван Ядрейке. А тот в страхе-ужасе за ладанку рукой схватился, бормочет:
– Чур, нас, чур, мимо пронеси!..
Весь этот день, сменяя друг друга – то Еван с Ядрейкой, то князь с Кончаком, – гребли они без остановки, торопясь подальше уйти от Киева. Всё оглядывались, нет ли позади погони, так спешили, дохнуть некогда, дыхание в груди сперло. Весь день ни единым словом лишним не обмолвились и ели-то наспех, куском давились. Скорей, скорей!
И ночью-то тоже гребли, прикорнув но очереди на дне лодки, опять вскакивали, хватались за весла.
На другой день стали они поспокойней, и Игорь Святославич начал с Кончаком ссориться, счеты сводить:
– Племя твое поганое! Серые волки, хищное зверье! Конины нажрались, дрыхнуть завалились, сторожей не выставили!
А Кончак оскалился, жирными плечами пожимает, говорит с усмешкой:

– А мы на храбрый Игорев полк понадеялись.
– Сами вы больно храбры безоружных грабить!
– А вы сами нас на помощь звали!
Вахрушка думает: «Собачатся, как тетки возле колодца. Рассказали бы лучше, что случилось. Уж так любопытно узнать…» Да кому ж не любопытно! Небось и вы думаете: «А что ж в самом деле в ту ночь случилось?» Не стану вас томить, не из таковских я, чтоб моих читателей в недоумении держать. Все расскажу, ничего не утаю.
Как Святослав призвал себе на помощь половцев, чтобы бить суздальских, муромских, рязанских князей за то, что они сына его, Глеба, полонили и в оковах держали, так с тех самых пор и не отпускал их от себя. Выгнал он князя Рюрика Ростиславича из Киева, сам в Киев въехал. А половцы с Игорем на другой стороне Днепра, у Долобска остановились.
Рюрик Ростиславич послал на них князя Мстислава и с ним воеводу с черными клобуками. Эти клобуки были те же половцы, только замиренные, все на русских девушках женатые и жили оседло. А кочевых половцев яро ненавидели.
Услыхали клобуки, что половцы стоят у Долобска без боязни, полагаются на свою силу и ночью не выставляют сторожей. Никого не спросясь, пустили клобуки коней, устремились на половцев. А воевода не может их удержать, потому что еще ночь, своих от чужих не отличишь.
Половцы увидели, что клобуков мало, не испугались и сами погнались за ними, а те бросились к Мстиславову полку. Шатры опрокинули, людей криком разбудили, скачут как безумные, удирают от половцев.
Мстиславу почудилось, что они побеждены: вся его дружина взметнулась, вскочила на коней, обратилась в бегство. Мстислав кричит, и грозит, и мечом машет, а не может удержать ни клобуков, ни своих людей. Махнул рукой на все и сам побежал.
Но лучшие из клобуков остались, соединились с Рюрика Ростиславича полком, поскакали на половцев и потоптали их в множестве, а других зарубили. Тут убили Кончакова брата Елтоута, и половецкого князя Козла Сотановича, и многих других. А Кончаковича сына и Куначука богатого в полон взяли.
Как увидел Игорь Святославич это побоище, и разгром, и поражение, он сам обратился в бегство, и хан Кончак бежал вместе с ним. До самой реки рядом скакали, вместе в лодку вскочили и оба спаслись…
Долго ли, коротко плыла ладья вверх по Десне, а доплыли они наконец до Моровийска, а уж это было в Черниговской земле, где прежде Игоря Святославича дед княжил и отец княжил, а теперь княжил Ярослав – князю Святославу родной брат, Игорю двоюродный. Здесь уж им ничто не угрожало и встретили Игоря Святославича колокольным звоном, и они с Кончаком на другую ладью пересели, в Чернигов плыть. Но на прощание оторвал князь со своего плаща золотую бляху и подарил ее Евану. А Вахрушке сказал:
– Ты, храбрец, подрасти еще маленько и ко мне приходи, Я тебя в свою молодшую дружину приму.








