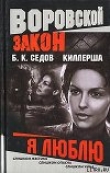Текст книги "Поцелуй осени"
Автор книги: Ольга Карпович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
4
После выздоровления Лика, для адаптации к коллективу, была отправлена в детский сад. Но суровое сердце деда-летчика, два раза горевшего в самолете, почти глухого, томилось и спотыкалось в одиночестве, и он, несмотря на яростные протесты продмага и еле слышное шелестение со стороны мамахен, извлек любимое чадо из советской кузницы зла. Пролетарское воспитание для Лики было закончено, она ни разу не ездила в пионерский лагерь, для школы оформлялись бесконечные справки-освобождения от физкультуры, а в столовой ее, единственную, не заставляли давиться манной кашей в склизких, мерзких комочках.
Зато они с дедом бродили в лесу до темноты, приносили разгневанному продмагу две корзины грибов, охапку душистых, свежесорванных целебных трав. И, казалось, нет ничего прекраснее в жизни, чем брести вот так по убегающей из-под сандалий сухой тропинке, держаться за мозолистую ладонь и слушать монотонный тихий голос:
– Вот, помню, в сорок втором тяжело было, зима разразилась лютая…
Ольга тем временем, освободившись от необходимости нести посменную вахту возле больной девочки, занялась устройством личной жизни и вскоре нашла-таки женское счастье в объятиях начинающего художника, по слухам, большого таланта. И хрупкое равновесие, установившееся в семье в последние годы, снова было нарушено. Несокрушимому союзу воздуха и товаров народного потребления отчаянно не понравился зять, художник, придурок и выпивоха. Эти крайне неприятные и, как казалось счастливому новобрачному, тайные пороки были тут же извлечены на свет божий и обнародованы во всеуслышание прозорливым продмагом: «Не будем пригревать нищету голозадую, мазилкин, тоже мне, еще чего не хватало», – был вынесен вердикт. А уж когда Личка после посещения этого козлобородого творца заболела ангиной с высокой температурой, тут уж дед клятвенно пообещал, что ноги его, потенциального убийцы и мучителя ребенка, не будет в доме.
Однако Ольга решительно объявила, что на этот раз не позволит святому семейству разрушить ее счастье, и отбыла вместе с новым избранником в светлое будущее. Поселились они на подмосковной даче творца-недоучки, сопровождаемые последним отцовым напутствием: «Ты, если хочешь, приходи. Но только без него! Без него!»
Лике бородач тоже не понравился. Лика хотела жить с бабой, дедом и матерью, зачем нам чужие… Откровенно говоря, Лика любила и знала только деда, и не понимала, как можно любить кого-то еще. Мать Лика тоже любила, но она ее не знала. По странному стечению обстоятельств Лика пронесла эту любовь к деду через всю жизнь, помнила его, как живого, хотя он и оставил свою обожаемую внученьку довольно рано, и ее, школьницу уже, даже не пустили к нему на похороны…
Под окном подъезда стоял приземистый ржавый автобус с черной полосой вдоль борта. Вокруг него суетились люди – вносили венки, разбрасывали по тротуару еловые ветки. Бабка, в криво повязанном черном платке похожая на престарелого пирата, отдавала распоряжения, и даже отсюда, с высокого этажа, через плотное стекло слышен был ее командирский голос, ничуть не смягчившийся даже перед лицом утраты. Лика, сейчас уже угловатый четырнадцатилетний подросток с цепким и настороженным взглядом зеленых глаз, как когда-то в детстве, висла на подоконнике, прижимая пылающее лицо к стеклу. За окном был душный пыльный летний день, и нагретое стекло не освежало лоб, не приносило хотя бы минутного облегчения. Автобус зафырчал, стайка людей в черном, похожих на встрепанных грачей, загрузилась в салон, и через минуту двор опустел. Ее не взяли.
Весь вечер она билась с матерью и бабкой за право увидеть в последний раз любимого деда, ей же объявили беспрекословно: «Нечего и думать. Ты больная. Тебе сильные потрясения вредны». И она сдалась, согласилась. Слишком сильно было в ней это впитанное с детства ощущение – тебе нельзя, ты больная. Всем можно, а тебе нельзя.
Нельзя прыгать через скакалку, ходить в походы, плавать в бассейне. Нельзя прийти попрощаться с любимым человеком. Да что там, просто нельзя любить, привязываться, мечтать. Жизнь все равно отнимет, отберет самое дорогое. А тебе нельзя, тебе вредны сильные потрясения.
И оставалось только бродить одной по враз опустевшей квартире, ловить пальцем пылинки, плавающие в горячем воздухе, и вздрагивать от мерещившегося в душной пустоте родного голоса:
– А вот, к примеру, бомбардировщик «Б-52». Как бы тебе объяснить… Да вот, смотри, сейчас нарисую.
Много лет спустя, забыв все свое прошлое, похоронив ту, самую юную и счастливую часть себя, она пришла все же к выводу, что единственный мужчина, который ее по-настоящему любил, прощал и всегда желал только добра, был ее полуглухой дед – военный летчик, муж своей жены-продмага и герой войны, вся грудь в орденах.
5
«Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я хочу всех любить – вот цель моей жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, ни границ. Мой дом везде, где существует мир…»
Вацлав Нижинский
Свет в зале начал медленно гаснуть, постепенно замер обычный театральный гул. Еще пару секунд слышны были отдельные шорохи, чей-то быстрый шепот, и, наконец, все стихло. Грянул оркестр, полилась в зал волшебная музыка Дебюсси, и тяжелый бордовый бархатный занавес пополз в разные стороны, открывая ярко освещенный сказочный лес. Постановка балета «Послеполуденный отдых фавна» была большой уступкой со стороны руководства Большого театра в пользу модерновых танцевальных течений, приходивших с Запада и настоятельно не рекомендованных сверху к внедрению в советское искусство. Возрождение этого легендарного балета, поставленного Нижинским в 1912 году, стало возможно лишь по особому указанию партии и правительства по случаю приезда высокопоставленных правительственных гостей из Франции.
Лика подалась вперед, во все глаза вглядываясь в декорации. Место ей, к сожалению, досталось на балконе неудачное, часть сцены оказалась не видна. Но за билет и на это кресло ей пришлось выстоять многочасовую очередь в кассу, притом занимать ее пришлось накануне вечером. Пока яркие лучи софитов высвечивали лишь распростертое под причудливо сплетенными ветками неподвижное тело, это было не так важно. Тонкая изменчивая мелодия, казалось, вот-вот должна была разбудить дремавшее в заколдованном лесу удивительное существо. Лика, затаив дыхание, ждала, когда это случится.
И наконец существо пробудилось от дремы, подняло голову, потянулось, все исполненное ленивой животной грации, и приложило к губам свирель. Обтянутое бело-коричневым трико тело озорного фавна жило какой-то своей жизнью, пластично гнулось и распрямлялось, полусознательно, повинуясь древним зовущим инстинктам. Танцовщик успел сделать всего лишь несколько движений по сцене, как по залу пронесся уже восторженный шепот:
– Андреевский, Андреевский…
И Лика, словно загипнотизированная, не в силах оторвать взгляда от движущейся по сцене, то настороженно, крадучись, то резко, угловато, фигуре, тихо поднялась со своего неудобного места, прошла между кресел к ступенькам, спустилась вниз, к самому краю балкона, и опустилась на колени перед балюстрадой. Она не слышала раздраженных шиканий, не чувствовала ломоты в ногах. Привалившись к барьеру, она неотрывно смотрела на приковавшего к себе всеобщее внимание фавна. На Никиту…
Казалось удивительным, невозможным, что этот древний языческий бог легко, словно играючи, передвигавшийся по раскинувшемуся на сцене красочному лесу, и есть их молодой преподаватель хореографии из модной театральной студии, заниматься в которую Лику устроил незадолго до смерти дед. Преподаватель, в которого вот уже месяц Лика была отчаянно и безнадежно влюблена. Занятия в театральной студии должны были, по мысли старика, раскрепостить нелюдимую девочку и сдружить ее с коллективом. Именно здесь, как ему казалось, маленькая принцесса могла бы встретить достойного ее принца, тем более что занимались в студии исключительно дети из хороших семей. Замкнутая Лика поначалу ни за что не хотела отдавать занятиям часть того свободного времени, которое могла бы провести в разговорах с любимым дедом, тем более что ездить с их окраины в студию в центр было долго и утомительно. Но видя, как дед зажегся этой идеей, сдалась и уступила. После его скоропостижной смерти девочка собиралась тут же забросить занятия, и вот тут-то как раз и появился принц.
Конечно, годы спустя она бы с удовольствием поспорила о том, существует ли на самом деле вот такая любовь с первого взгляда и можно ли погрузиться в совершенно незнакомого человека, ничего о нем не зная. Но на тот период Лике исполнилось шестнадцать лет, и душа ее, совсем юное женское естество, начинала томиться в преддверии грядущих изменений. Разумеется, девушка ни на секунду не забывала о том, что она всегда будет находиться где-то за пределами обыкновенных человеческих радостей, и не ей выпрашивать у судьбы снисхождения, но все же, все же… Никита ворвался в ее жизнь мощнейшим цунами. Все случилось сразу, в один день, когда в их театральную студию пришел новый молодой балетмейстер. Лика запомнила появление Никиты посекундно, детально, как будто каждый его вздох или движение имели необыкновенное и важное значение.
Лика сидела в самом дальнем углу небольшого танцевального класса, подперев тщательно побеленную стену узкой, совсем детской еще спиной. За приоткрытыми окнами неистовствовала майская гроза, ветер шумел в верхушках кленов. Дверь резко распахнулась, и в класс вбежал Никита, открыто улыбаясь, словно одаривая притихших студийцев своим талантом, уверенностью в себе. Будто приглашая и их тут же, не медля ни секунды, проникнуться его уверенностью тоже, заставляя поверить, что они и есть самые талантливые, а новая постановка непременно станет целым событием в истории драмкружка.
Лика сразу и безоговорочно поверила в него и полюбила этого молодого бога. Любовь заполнила ее до краев, до самых корней волос – безграничным, слепым обожанием. Лика смотрела и не могла оторвать глаз от необыкновенно пластичной фигуры, впитывала в себя, проникалась им, боясь пропустить малейшее изменение в его интонациях или жестах. Как завороженная, следила за его перемещением по классу. Лике казалось, что законы земного притяжения не распространяются на Никиту Андреевского, что он может воспарить в любой момент, оторвавшись от пола, и даже не заметит этого.
Никита шагнул к ней, обдал свежим запахом дождя и пряной гвоздики, обратился к замершей в углу зеленоглазой девочке, больше похожей на ребенка, чем на подростка, вероятно, хотел узнать ее имя. Лика испуганно моргнула, с трудом догадавшись, о чем ее спрашивают, под смешки одногруппников назвала себя.
– Элеонора… но меня все называют Лика…
Никита улыбнулся глазами необычного, очень яркого голубого цвета. Во всем его облике было что-то необыкновенное – его невесомая фигура, вся состоящая из тонко вылепленных рельефных мышц, словно слетела с одного из полотен французских импрессионистов. В нем чувствовалась легкость и сила, грация и мужественность, и при этом не было ничего женоподобного, избыточного, слащавого. Его красота, помноженная на яркую харизму, вызывала мгновенное восхищение всех, кто попадался на его пути – женщин, мужчин, стариков, детей.
Тут прозвенел звонок, хореограф махнул своим ученикам на прощание рукой и выбежал из класса. Ребята, перекрикивая друг друга и делясь впечатлениями от нового учителя танцев, гурьбой повалили в открытую дверь. Лика плелась позади. То, что сейчас произошло, пока еще не имеющее названия, то, что теперь целиком и полностью завладело всем ее естеством, будто давило на плечи, на грудную клетку, затрудняло дыхание. Определенно, с этим стоило разобраться и как-то научиться заново жить.
Странно было, что в ее ничем ранее не примечательном существовании вдруг появился этот парень, легкий, как летний ветер, и подвижный, как ртуть. И словно уже не стало всех ее придуманных проблем, переживания показались вдруг такими нелепыми и смешными. Теперь на свете существовало что-то более важное, чем ее вечная замкнутость и настороженность, и это что-то было ярким и свежим, как молодая, умытая дождем листва.
Лика подбежала к запотевшему окну и изо всех сил дернула фрамугу. Оказывается, гроза давно улеглась, с неба падали крупные, теплые, серебристые капли, сверкающие на выглянувшем из-за туч солнце. И весь мир показался ей вдруг необыкновенно чистым, сияющим, пахнущим свежестью дождя и чудесным запахом мокрого асфальта… И как это она раньше не замечала этого яркого, сладостного, томительного майского счастья.
Лика, не осознавая, что делает, высунулась из окна, почти полностью намочив балетное трико о мокрый подоконник, зажмурила глаза и выкрикнула только что пришедшее ей на ум название всему этому буйному великолепию:
– Ни-ки-та!!!
С того самого дня Лика, высидев положенные часы в школе, бегом неслась в театральную студию, боясь опоздать, упустить хоть секунду из отведенного ей на Никиту времени – полутора часов, ровно столько длилось занятие по танцам. Никита, казалось, совсем не тяготился навешенной на него профсоюзной нагрузкой – занятиями с юными театралами. Приходил вовремя, шутил, смеялся, заражая всех вокруг своей энергией. Высокомерия, презрения признанной звезды к простым смертным не было в нем ни на йоту. И Лике поначалу даже не верилось, что это на него, именно на него, рвется в Большой вся Москва. Только потом, увидев его на сцене, она и впрямь поняла, какой удивительный светлый талант сочетался в этом гибком смешливом парне с обаятельным дружелюбием. Конечно, она и не надеялась на ответные чувства, не ждала, что он заметит ее и полюбит. Она знала, это было невозможно. И все же каждый раз перед занятием особенно тщательно закалывала перед зеркалом блестящие темные волосы и даже купила на сэкономленные на школьных завтраках деньги коробочку туши для ресниц. Никита же, казалось, совсем не выделял ее из стайки молодых стройных учениц. Был одинаково ровно предупредителен, вежлив и галантен со всеми. И вроде бы совсем не замечал, как колотится под черным трико Ликино сердце, когда он на репетиции подходил к ней и помогал ниже прогнуться в спине, мягко, но сильно надавливая ладонью на грудную клетку. Лике же довольно было и этого – только видеть его, слышать звонкий веселый голос, ощущать прикосновения рук. О большем она и мечтать не смела, памятуя о давнем своем наблюдении – жизнь всегда отнимает самое дорогое. Но оказалось, что и такого-то непритязательного, урывками полученного счастья для нее слишком много.
– Я еще раз повторяю, что мы не выйдем отсюда, пока не выясним, кто совершил этот наглый, безобразный поступок, – возмущенно колыхнула пышным бюстом директор театральной студии Марина Васильевна. Солнце за окном уже спряталось за крыши окрестных домов, потянуло прохладой. Внизу прошлепал через двор завхоз Михалыч со связкой ключей. Собрание, посвященное «наглому, безобразному поступку», а именно, выцарапыванию ругательства на борту новеньких директорских «Жигулей», длилось уже второй час и, похоже, не собиралось заканчиваться. Марина Васильевна допрашивала учеников с пристрастием, выдвигала вперед квадратную бульдожью челюсть, всматривалась в очередного подозреваемого и, казалось, даже принюхивалась в поисках виновного. Однако до сих пор так ничего определенного и не вынюхала.
Лика же прекрасно знала, кто этот, по выражению директрисы, циничный хулиган. Вернее сказать, хулиганы, их было двое. Вчера вечером, выходя из здания после занятия, она случайно наткнулась во дворе на неразлучную парочку студийцев, Машку и Валерку, совершающих «неслыханный акт вандализма». Ребята со смехом сообщили ей, что решили проучить гадину директоршу, отстранившую Валерку от участия в финальной постановке за частые пропуски занятий, просили не выдавать. Лика, конечно же, обещала молчать как рыба.
Кто же мог знать, что Марина Васильевна устроит из-за своего средства передвижения такой переполох? Щеки ее тряслись и багровели, пышный бюст взволнованно трепетал в низком вырезе темно-зеленого платья, узловатый палец, увенчанный большим перстнем, то и дело тыкал в каждого из учеников:
– Кто это сделал? Ты? Ты? Ты? А кто?
На Машку страшно было смотреть. Она, бедная, вся вжалась в парту и глаза боялась поднять на разъяренную бульдожью морду.
– Ладно, пойдем другим путем, – зловеще пророкотала Марина Васильевна.
Она поднялась из-за стола, прошествовала к двери и крикнула куда-то в гулкий коридор:
– Никита Владимирович, зайдите в восьмой кабинет, пожалуйста.
Когда же в дверях появился Никита, директриса обратилась к нему:
– Вы, голубчик, не помните, кто вчера последним уходил с занятия по танцам?
– Конечно помню, – светло улыбнулся Никита, не подозревавший, какие страсти кипят и бушуют в маленькой аудитории. – Белова последняя уходила, Элеонора. Она всегда…
Директорша, не дослушав, издала победный клич и ринулась прямо к сидевшей по обыкновению в углу девушке. Никита ошарашенно поглядел на нее, спросил:
– А что, собственно, случилось?
Но ему никто не ответил; Марина Васильевна с остервенением взялась за новую жертву.
– Так, значит, ты последняя выходила с занятий? – вопросила она и вдруг гаркнула: – А ну встань, когда с тобой разговаривает директор!
Лика поднялась из-за парты, сумрачно глядя на разбушевавшуюся тетку.
– Я, – кивнула она.
– Значит, ты видела, кто испоганил мне машину? Видела, а? Отвечай!
С выкрашенных малиновой помадой губ директрисы брызгала слюна, Лика невольно утерлась тыльной стороной ладони, и выщипанные брови Марины Васильевны гневно изогнулись, словно ей только что нанесли величайшее оскорбление.
– Видела? – повторила она.
– Нет, – помотала головой Лика и, опустив глаза, уставилась в облупленную крышку парты.
– Как это не видела? – не унималась Марина Васильевна. – Должна была видеть! Не смей врать! Отвечай, кто поцарапал мою машину!
Лика поймала отчаянный взгляд Машки, взглянула на сгорбившегося на стуле Валерку и решительно отрезала:
– Не знаю! Я ничего не видела.
– Ах так, – зашлась от возмущения директриса. – Ну, значит, это ты сама и сделала! Я всегда знала, что от тебя можно этого ждать. Сразу видно, злая, скрытная девчонка, так и зыркает глазами туда-сюда, так и смотрит, какую бы подлость сделать. А ну, собирай свои вещи, и чтоб духу твоего не было в студии!
Марина Васильевна не отступала, и Лика, помедлив немного, собрала сумку, повесила ее на плечо и, опустив голову, двинулась к выходу из кабинета. Ребята за спиной молчали, очевидно, радуясь, что буря нашла, наконец, на кого обрушиться, пройдя мимо них стороной. Уже в дверях Лика почувствовала смущенный и сочувственный взгляд Никиты, но обернуться не смогла, просто ушла, тихо притворив за собой дверь.
На душе было гадко. Жгла глаза незаслуженная обида, возмущало предательство соучеников, Машки и Валерки, не пожелавших признаться в преступлении, но страшнее всего было то, что отныне единственное, что составляло ее жизнь, что заставляло по утрам вскакивать с постели и улыбаться новому дню, оказалось для нее под запретом. Не видеть Никиту, не разговаривать с ним, не затаивать дыхание, когда он подходит близко. Да и к тому же осознавать, что отныне он всегда будет считать ее мелкой пакостницей, способной из врожденной беспричинной злости испортить чью-то вещь.
6
Без студии, а главное, без Никиты, жизнь сделалась пустой и ненужной. Лика приходила из школы, ложилась на кровать и часами разглядывала выцветший узор на обоях, водила пальцем по хитросплетениям травинок и цветов. Рассказать о своей утрате ей было некому. Закадычными подружками она, по замкнутости характера, так и не обзавелась. С матерью, изредка навещавшей родное дитя, тоже так и не установилось духовной близости. Да к тому же та сейчас как раз готовилась воспроизвести на свет Ликиного братца. Ликин отчим, именовавшийся в бабкином доме не иначе как голодранец, сподобился наконец-таки опровергнуть свое обидное прозвище. По случаю написал портрет какого-то деятеля из верхов. Работа понравилась, художника пригласили снова, и жизнь вдруг пошла на лад, появилась и квартира в центре Москвы, и деньги. И мать, пятнадцать лет ходившая в драных колготках, приоделась, расцвела и озаботилась проблемой произведения на свет потомства – спешила, как бы не опоздать, успеть, носилась со своей беременностью как сумасшедшая. На Лику же, и так занимавшую не самое большое место в ее жизни, теперь времени совсем не осталось. И, конечно, разбираться, почему дочь часами лежит носом к стене, матери было некогда.
Бабка же не дремала, по ястребиному закружила, высматривая, кто обидел внучку, и в конце концов вытянула-таки из Лики рассказ о ее злоключениях. Вытянувши, разъярилась, распушила перья и ринулась в бой. Позвонила кому-то из дедовских однополчан, подняла на уши все «солидные» знакомства и, в качестве финального аккорда, самолично заявилась в студию. Лика о бабкиной подрывной деятельности не знала; о том, как грозная старуха вцепилась в случайно попавшегося ей в коридоре Никиту и вывалила на него все, что думает о губителях и угнетателях бедной больной сироты, не ведала; о звонке в студию откуда-то сверху, после которого директриса тряслась и пила валокордин, не подозревала. И, когда в квартире вдруг раздался телефонный звонок и из трубки с ней поздоровался Никита Андреевский, готова была поверить в самые настоящие чудеса.
– Это Элеонора, которую все зовут Лика? – весело осведомился Никита.
– Да… – растерянно протянула она, чувствуя, как от одного звука его голоса вдоль позвоночника бегут мурашки.
– Ну, что же, вы, Лика-Элеонора, совсем нас забросили, на занятия не ходите? У нас ведь премьера спектакля в сентябре, а вы еще финальный танец не отрепетировали. Как же так?
– Но я же… Меня исключили…
– Да что вы, бросьте, не берите в голову. Это просто недоразумение. Мы здесь уже давно во всем разобрались. Никто вас не исключал. Приходите завтра на занятия, слышите? Приходите обязательно. На вас вся надежда.
Как же летела она на репетицию на следующий день! Как легко перепрыгивала через лужи, улыбалась слепившему глаза умытому дождем солнцу, размахивала сумкой с черным балетным трико. «На вас вся надежда!» – так он сказал. Господи, неужели он выделил ее из всех, заметил, запомнил? – Лика, задержитесь на полчасика, если возможно, – сказал Никита после репетиции. – Мне хотелось бы с вами отработать одну вариацию. Вы же много пропустили…
И Лика осталась с ним наедине, в балетном классе, прижалась спиной к зеркальной стене, сияя на своего принца счастливым взором. В коридоре постепенно стихали развеселые голоса студийцев. Никита подошел к ней, откинул со лба прядь пепельных волос. Лика, встретившись с ним глазами, вдруг потупилась, прикусила губу.
– Вы, Лика, я вижу, стараетесь, занимаетесь всерьез, – начал Никита, по привычке уперев левую руку в бок, машинально поставив ноги в третью позицию. – И у вас неплохо получается. Как вы думаете, что, если нам финальный эпизод немножко изменить, сделать поинтереснее? Включить элементы модерна, а? У вас же от природы великолепный слух! Как думаете, сможете? Только предупреждаю, работать придется много.
– Я смогу, – отчаянно закивала Лика. – Я буду, буду работать! Я все сделаю.
– Ну и прекрасно! – широко улыбнулся Никита. – Тогда давайте попробуем.
Он щелкнул кнопкой бабинного магнитофона.
– Сначала стаккато, выходишь на одну восьмую. Появляешься в левой кулисе, а в центре сцены стоит твой возлюбленный. Понимаешь, ты любишь его, и в твоей пробежке зритель должен увидеть, что ты страдала, ждала и наконец дождалась. Здесь и скорбь, и радость и безумная любовь.
Лика, как завороженная, слушала своего маэстро. Ей казалось, что если бы на сцене, высвеченный софитом, стоял Никита, ей не понадобилось бы ничего играть, все чувства, о которых он говорил, проявились бы сами собой.
– Стоп! Нет, не так! Никита подскочил к ней, взмокший, со сверкающими из-под спутанных светлых прядей ясными глазами.
– Ну это же просто, сколько можно повторять? Мне было бы уже стыдно…
Он отошел к воображаемому левому краю кулисы, раскинул руки и двинулся вперед, ведомый музыкой. И в этом его движении было столько страсти, тоски, любви и преданности, что Лика оцепенела – перед ней впервые разворачивалось настоящее искусство.
Занятие шло уже два часа, за окном давно стемнело, черное трико вымокло от пота. Лика уже не чувствовала волнения от его прикосновений, не замирала. От усталости она почти перестала соображать, двигалась машинально, вся, казалось, превратившись в клубок ноющих мышц. Никита же словно ничего не замечал, снова и снова заводил хриплую пленку, носился вокруг нее, показывая движения, кричал, хватался за голову. Завхоз Михалыч дважды уже заглядывал в помещение, многозначительно поглядывал на часы, Никита же лишь отмахивался от него:
– Мы еще не закончили! Позже!
Лика впервые видела его таким – распаленным, фанатично увлеченным работой. Смотрела на него одновременно с восторгом и страхом. Казалось, этот огонь, полыхавший в нем, сейчас перекинется на нее, опалит, сожжет дотла. В то же время она отчаянно боялась, что этот вечер все-таки закончится… может, это просто сон, все это ей снится – и Никита, и его неожиданное внимание к ней. Она проснется снова в своей комнате с ощущением постоянного одиночества, ненужности и вселенской тоски…
Лика постаралась сильнее выгнуться, как показывал Никита, запрокинула голову назад. В колене вдруг что-то хрустнуло, она охнула от боли и едва не упала, в последний момент ухватившись за Никитино плечо.
– Ой, извините, – прошептала она, пытаясь отдышаться.
Никита словно очнулся, бережно довел ее до скамейки, усадил, присел рядом.
– Тьфу ты, прости меня, ради бога, совсем тебя загонял. Ты как, жива?
– Вроде бы, – неуверенно улыбнулась Лика, потягиваясь.
– Но здорово ведь мы придумали с этим танцем, правда? Такого еще никто не ставил. Модерн и классика. Отлично получится! Эх, вот если бы… – он осекся и махнул рукой. Затем обернулся к Лике. – Ты голодная, наверно? Хочешь, пойдем мороженого поедим? После такой репетиции можно.
И Лика, не веря в то, что все это на самом деле происходит с ней, что сказочный принц Никита приглашает именно ее, незаметную, некрасивую, никому не нужную больную девочку в кафе, лишь молча кивнула.
За стойкой тяжко наигрывал старый катушечный магнитофон. На темных окнах отражались разноцветные блики от укрепленной под потолком елочной гирлянды. Вдоль стен расположились какие-то странные керамические фигуры. Лика и Никита сидели за круглым металлическим столиком. Никита сидел с прямой спиной, при этом умудрившись грациозно подогнуть левую ногу под себя. Дюралевое кресло неприятно холодило Ликины ноги под коленками. Официантка только что поставила перед ними две вазочки, в которых кривоватым айсбергом оплывало мороженое.
– Вот представь себе, – говорил Никита. – Это ведь не просто какое-то хобби, даже не профессия, нет. Это твоя жизнь. У кого-то семья, работа, дом, друзья, дети. А у тебя – только балет. И это твой осознанный выбор. Для всех других ты инвалид, практически, неполноценный человек. Понимаешь?
– Понимаю… это я понимаю…
– Он сожрал тебя с головы до ног, ты им болеешь, ты им живешь. И, главное, у тебя ведь неплохие идеи, и все это признают, даже эти там, – он махнул рукой куда-то вверх. – И ты сам это знаешь. Но вот нельзя, понимаешь? Кто-то где-то там решил, что классику ставить можно, а весь этот вот модерн – нельзя. Не вписывается в идеологию, черт бы их взял.
Он со злостью стукнул ребром ладони по столу, едва не смахнув на пол вазочку с мороженым, криво усмехнулся и залпом опрокинул полную рюмку коньяку. Лика сидела напротив, затаив дыхание. Впервые он разговаривал с ней так – серьезно, откровенно, словно она была не просто случайной знакомой, девочкой из студии, а его давним и близким другом.
– Никита, но разве… – осторожно начала она. – Мне казалось, это должно быть такое счастье – когда выходишь на сцену и даришь людям себя, раскрываешься перед ними. И каждый в огромном зале, каждый, хочет стать таким хоть на минуту, но не может…
– Счастье, – скептически вскинул брови Никита, оторвавшись от своих мыслей, впервые внимательно поглядев на Лику. – Что ж, может быть оно и есть, на сцене… Но ты хоть представляешь себе, что за этим стоит? Нет, я даже не про репетиции сейчас. Я про всю эту гадость и гниль, в которой приходится существовать ежедневно. Про это смердящее, засасывающее болото… Про всех этих художественных руководителей, воинствующих бездарностей… Про всю эту кодлу, которая постоянно шепчется у тебя за спиной, высматривает, вынюхивает, строчит доносы. А… – Он махнул рукой. – Тебе должно быть все это не интересно.
– Очень интересно. Рассказывайте, пожалуйста! – возразила Лика, не отрываясь глядя в его бархатистые, сейчас кажущиеся аквамариновыми глаза, затененные прямыми черными ресницами.
– Да что рассказывать, – пожал плечами Никита. – Просто была мечта, понимаешь? Поставить что-то свое, новое, такое, чего в этой стране никто еще не видел. Ходил, обивал пороги, писал прошения, выпрашивал подписи чинуш. Наконец вроде все срослось, разрешили начинать репетиции. Несколько месяцев не спишь, не ешь, только об этом и думаешь. А на генеральном прогоне, за день до премьеры, худсовет берет и закрывает постановку. И сразу же начинается за спиной шу-шу-шу, и смотришь вдруг, а на твои роли уже второй и третий состав введен. И все, ты в опале, и каждая сволочь, которой ты когда-то дорогу перешел, теперь норовит этим воспользоваться и окончательно тебя прикончить.
Никита рассеянно зачерпнул ложкой растаявшее мороженое, медленно перевернул ее над вазочкой и смотрел, как скатываются и расплываются на металлическом дне тяжелые белые капли. Лика осторожно спросила:
– Поэтому вы так возитесь с нами, да? Потому что в студии нет художественного совета и можно ставить все, что хочется?
– Ну, в этом ты ошибаешься, все, что хочется, у нас в стране нигде ставить нельзя, – усмехнулся Никита. – Но вообще ты права, в студии надзор гораздо слабее. Подумаешь, детишки занимаются танцами, какой от этого может быть вред. Это тебе не передовой фронт балетного искусства всего СССР. Да, Лика, мне с вами интересно, потому что вы настоящие, чистые, у вас на репетициях глаза горят, вам и самим хочется сделать что-то красивое, новое, а не просто выдвинуться на главную роль и вырвать Госпремию.
Он неожиданно протянул руку и положил ладонь на ее плечо, мягко улыбнулся: