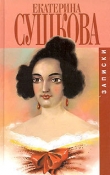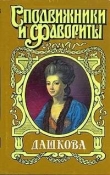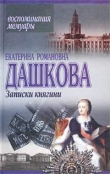Текст книги "Екатерина Дашкова"
Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
«Отвратительная клевета»
Первым рубежом, за которым отношения уже не могли быть прежними, принято считать гибель Петра III. В мемуарах это событие словно подводит подруг к разрыву: «Когда получилось известие о смерти Петра III, я была в таком огорчении и негодовании, что, хотя сердце мое и отказывалось верить, что императрица была сообщницей преступления Алексея Орлова, я только на следующий день превозмогла себя и поехала к ней. Я нашла ее грустной и растерянной, и она мне сказала следующие слова: “Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть!” – “Она случилась слишком рано для вашей славы и для моей”, – ответила я».
«Вечером в апартаментах императрицы я имела неосторожность выразить надежду, что Алексей Орлов, более чем когда-либо, почувствует, что мы с ним не можем иметь ничего общего, и отныне не посмеет никогда мне даже кланяться»{293}.
При чтении таких строк вопрос об участии самой Екагерины Романовны в ропшинской драме должен был сразу отпасть. Среди биографов княгини он считается почти неприличным. Между тем недостаточно сослаться на приведенный выше фрагмент из «Записок», дополнив его красочным письмом Алексея Орлова с места преступления, чтобы считать проблему закрытой.
«Матушка милостивая Государыня, – взывал Орлов. – Как мне изъяснить, описать, что случилось… Свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни»{294}.
В настоящий момент подлинность этого документа подвергнута обоснованным сомнениям{295}. Княгиня же горячо отстаивала достоверность приведенных в нем фактов. В течение долгих лет письмо подтверждалось рассказом Рюльера, согласно которому Алексей Орлов – командир охраны в Ропше – и статский советник Григорий Николаевич Теплов, приехавший из Петербурга, сначала попытались отравить императора, а потом удушили его. «Орлов обеими коленями давил ему на грудь и запер дыхание»{296}.
Это описание стало известно раньше других источников и использовалось гораздо чаще. Есть все основания считать, что Рюльер в своей книге повторял сведения, услышанные в кругу Дашковой. «Он бывал у меня в Петербурге и в Москве», – признавала княгиня, – и считался «старинным знакомым, оставившим во мне самые приятные воспоминания»{297}.
Комментарий Дашковой к записке Орлова показывает, что и через 40 лет ее ненависть к Алексею не остыла: «Он писал как лавочник, а тривиальность выражений, бестолковость, объясняемая тем, что он был совершенно пьян, его мольбы о прощении и какое-то удивление, вызванное в нем этой катастрофой, придают особенный интерес этому документу… Когда, уж после кончины Павла, я узнала, что это письмо не было уничтожено… я была так довольна и счастлива, как редко в моей жизни»{298}.
Что заставило княгиню радоваться? Доказательство вины старого врага? Подтверждение невиновности подруги? Или чувство облегчения – ведь ее собственное имя тоже связывали с событиями в Ропше? Недаром Вольтер назвал Екатерину Романовну «Томирис с французским диалектом»{299}, ставя знак равенства между нашей героиней и древней царицей кочевого племени массагетов, победившей и обезглавившей персидского царя Кира. Философ намекал на участие Дашковой в свержении и убийстве Петра III. В европейских столицах, где никто толком не разбирался в реалиях переворота, сложился образ эдакой тигрицы, готовой жертвовать своей и чужими жизнями. Увидев княгиню в 1770 году в Лондоне, Горацио Уолпол писал: «Ее улыбка приятна, но в глазах – свирепость Каталины»{300}. Эта маска прирастала к живому лицу княгини, ее становилось трудно сорвать.
Для ряда исследователей загадка состоит в том, что Павел I наказал Дашкову за участие в перевороте куда строже, чем Орлова. Екатерину Романовну отправили в дальнюю ссылку, в глухую деревню, под надзор полиции. А Алексею, после участия в торжественном перезахоронении останков Петра III, позволили уехать с официальной любовницей и дочерью в заграничное путешествие «на лечение». Он даже не потерял чинов.
После смерти Екатерины II Алексей был призван во дворец, его объяснение с новым государем происходило «при закрытых дверях», из-за которых слышался «горячий разговор»{301}. Видимо, граф сумел оправдаться, так как 28 и 30 ноября 1796 года он участвовал в императорском обеде{302}, а убийцу отца с собой за стол не сажают.
Совсем иначе Павел повел себя в отношении нашей героини. 1 декабря 1796 года московский генерал-губернатор M. M. Измайлов получил именной указ: «Объявите княгине Дашковой, чтобы она напамятовала происшествия, случившиеся в 1762 году, выехала из Москвы в дальние свои деревни». В черновике император собственноручно приписал: «чтоб ехала немедленно»{303}. Павел считал непосредственным убийцей князя Ф.С. Барятинского, которого подверг аналогичным с Дашковой гонениям. Оба были помилованы одновременно и в одних и тех же выражениях: «Позволить… жительство свое иметь… в Москве, когда нашего в сей столице пребывания не будет»{304}.
Возможно, Павел, неведомо с чьих слов, видел в княгине вдохновительницу преступления. Вспомним отзыв Бекингемшира: «Если бы когда-либо обсуждалась участь покойного императора, ее голос неоспоримо осудил бы его; если бы не нашлось руки для выполнения приговора, она взялась бы за это»{305}. Однако император мог ошибаться. Вряд ли наказание, павшее на голову княгини в 1796 году, является подтверждением ее вины.
Но и само желание Екатерины Романовны безоговорочно возложить всю ответственность на Алексея Орлова говорит о стремлении обелиться. Показать дистанцию между собой и убийцами. Выделить себя из группы соучастников. Противопоставить им. А значит – в известной степени и государыне, покрывавшей преступников. На этом пути письмо Орлова играло ключевую роль.
В воспоминаниях Дашкова говорит о документе так, как если бы он был ей известен сразу после ропшинских событий, а потом всплыл уже при Павле I{306}. Княгиню не смутил тот факт, что письмо было предъявлено ей Ф.В. Ростопчиным в 1805 году в копии, а рассказ об исчезновении подлинника, мягко говоря, вызывал сомнения. Согласно Ростопчину, документ был найден после смерти Екатерины II в особой шкатулке и передан Павлу I: «Я имел его с четверть часа в руках. Почерк известный мне графа Орлова… Император Павел потребовал… письмо графа Орлова» и «бросил в камин и сам истребил памятник невинности Великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезновал»{307}.
Дашкова приписала Павлу восклицание: «Слава богу! это письмо рассеяло и тень сомнения, которая могла бы еще сохраниться у меня». Если император испытал радость и облегчение, то зачем было сжигать письмо? Вопросов к истории множество, но, будучи человеком пристрастным, княгиня охотно поверила в подлинность письма. Ведь оно подтверждало версию Панина, сторонницей и распространительницей которой Екатерина Романовна была много лет.
Рассказ самого Никиты Ивановича содержится в мемуарах его племянницы Варвары Головиной. «Решено было отправить Петра III в Голштинию, – писала фрейлина. – В Кронштадте подготавливали несколько кораблей… Приведу здесь достоверное свидетельство, слышанное мною от министра графа Панина: “…Я находился в кабинете у ее величества, когда князь Орлов явился доложить ей, что всё кончено. Она стояла посреди комнаты; слово 'кончено' поразило ее. 'Он уехал?' – спросила она вначале, но, услыхав печальную новость, упала в обморок… Надежда на милость императрицы заглушила в Орловых всякое чувство, кроме одного безмерного честолюбия. Они думали, что, если уничтожат императора, князь Орлов займет его место и заставит государыню короновать себя”»{308}.
Итак, обвинения в адрес Орловых распространял Панин. Восклицание императрицы в рассказе Никиты Ивановича: «Моя слава погибла! Никогда потомство не простит мне этого невольного преступления!» – очень похоже на слова, переданные Дашковой: «Вот удар, который роняет меня в грязь!»{309} А далее: «Слишком рано для вашей славы и для моей». После таких слов должно было произойти нелицеприятное объяснение.
Но нет. Княгине отворили кровь, чета Дашковых перебралась во дворец и зажила с императрицей как ни в чем не бывало. Значит, у разговора был конец, который опущен в «Записках» и который позволил Екатерине II оправдаться. Княгиня подводит читателя к мысли о том, что во время объяснения государыня показала ей письмо Алексея Орлова.
Сторонники версии «заговора вельмож» часто подозревают, что Дашкова знала о гибели Петра III больше, чем рассказала. Ее многозначительные недомолвки воспринимаются как намеренное желание скрыть правду.
Однако могло быть и наоборот. Княгиня знала очень мало. От нее по-прежнему продолжали «всё скрывать». Посмотрим, например, как описан ею придворный быт: «Я пламенно любила музыку, а Екатерина напротив. Князь Дашков, хотя сочувствовал этому искусству, но понимал его не более императрицы… Она, обыкновенно, подавая секретный знак Дашкову, затягивала с ним дуэт… Ни тот ни другой, не смысля ни одной ноты, составляли концерт самый дикий и невыносимо раздирающий уши… Она также искусно подражала мяуканью кошки и блеянью зайца (так в тексте. – О. Е.)… Иногда, вспрыгивая, подобно злой кошке, она нападала на первого мимо проходящего, растопыривая руку в виде лапы»{310}.
В самих «кошачьих» концертах ничего невозможного нет. (Точно такие же Дашкова могла видеть летом, посещая великокняжескую чету в Ораниенбауме.) Екатерина II описывала в мемуарах, как с юности научилась копировать голоса животных. Однако время после убийства Петра III было крайне неподходящим для подобных развлечений – дворец оказался фактически в осаде.
Дашкова убеждала Дидро, что «в России никто, даже среди народа, не обвинял Екатерину за участие ее в смерти Петра III»{311}. Это неправда. Согласно донесениям иностранных послов, один ночной взрыв в гвардии следовал за другим. Прусский министр Бернхард фон Гольц сообщал 10 июля о «множестве недовольных», число которых «возрастает со дня на день»{312}. Чуть позже дипломат добавлял: «Теперь, когда первый взрыв и первое опьянение прошли, сознают, что только покойный император имел право на престол»{313}.
Голландский резидент Мейнерцгаген доносил 2 августа в Гаагу, что «третьего дня», то есть 31 июля, «ночью возник бунт среди гвардейцев», охвативший два старших полка – Семеновский и Преображенский. Солдаты «кричали, что желают видеть на престоле Иоанна [Антоновича], и называли императрицу поганою». «Майора Орлова» – Алексея, – который пытался их успокоить, они именовали «изменником»{314}. Спустя два дня беспорядки возобновились.
«Братья Орловы едва смеют теперь показываться перед недовольными, – писал Гольц. – Нет таких оскорблений, которых не пришлось бы выслушать Орлову-камергеру (Григорию. – О. Е.) в одну из тех ночей, когда императрица посылала его успокаивать собравшихся»{315}.
Раздражение росло день ото дня. Кейт писал в Лондон 9 августа: «Между гвардейцами поселился скрытый дух вражды и недовольства. Настроение это достигло такой силы, что ночью на прошлой неделе оно разразилось почти открытым мятежом. Солдаты Измайловского полка в полночь взялись за оружие и с большим трудом сдались на увещевания офицеров. Волнения обнаружились две ночи подряд, что сильно озаботило правительство»{316}. Мейнерцгаген сообщал, что результатом волнений стали «аресты и высылка множества офицеров и солдат из столицы»{317}. Информацию об арестах подтверждал и Кейт.
Императрице приходилось самой выходить успокаивать служивых. То же делали Разумовский, Орловы, другие бывшие заговорщики. Отсутствие среди них князя Дашкова было бы невозможно, находись Михаил Иванович во дворце. Если бы у его супруги имелось влияние на солдат, ей пришлось бы тоже принять участие в успокоении. Ничего подобного не произошло.
«Обижались моим энтузиазмом»
Нарастание неприязненных отношений между подругами, на наш взгляд, произошло стремительнее, чем принято считать. Буквально за несколько дней.
Екатерина II была очень терпеливым человеком. Однако имелся пункт, в котором императрица не могла уступить. Руководство переворотом, свержение Петра III не должно было приписываться за границей юной амазонке. И здесь государыне пришлось столкнуться с плодом своих прежних усилий. Во время подготовки заговора одна Дашкова открыто обнаруживала ненависть к императору, гласно заявляла о готовности рисковать головой. Екатерине было выгодно, чтобы подругу, не знавшую ничего «важного», считали главой заговора и не опасались.
Теперь, когда переворот произошел, императрицу раздражало, что иностранные дипломаты сообщали своим дворам о Дашковой как о главной движущей силе «революции». Чего стоил один Кейт – давний поклонник Екатерины Романовны и неприятель самой государыни: «Местом встреч был дом княгини Дашковой – молодой леди не старше двадцати… Ясно, что она сыграла важную роль, когда заговор задумывался и при исполнении его от начала до конца»{318}. С чьих слов посол сделал подобный вывод? Екатерина II знала, что Дашкова с мужем часто обедали у старика, что тот называл княгиню «дочкой»…
Естественным образом возникали соперничество, ревность, желание рассказать «правду» – как каждая из подруг ее понимала. Рюльер описал положение княгини весьма близко к тому, что она сама о себе рассказывала, например, Дидро: «Ее планы вольности, ее усердие участвовать в делах (что известно стало в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора, между тем как Екатерина хотела казаться избранною); наконец, всё не нравилось Екатерине, и немилость к Дашковой обнаружилась во дни блистательной славы, которую воздавали ей из приличия»{319}.
Слова секретаря французского посольства подтверждал и вернувшийся в Россию Бретейль: «Сразу после беспорядков думали, что княгиня Дашкова и господин Панин недовольны и покинули двор. Когда княгиня Дашкова вернулась, императрица осмеяла ее и больше не доверяла господину Панину». В донесении 13 сентября француз рассказывал о столкновении из-за Вольтера: «Императрица спрашивала меня, знаком ли я с господином де Вольтером. Она хочет, чтобы я просветил его касательно истинной роли княгини Дашковой. Несмотря на службу, которую княгиня Дашкова действительно сослужила, ее теперь игнорируют. Императрица ревнует и хочет, чтобы Вольтер не приписывал успех революции княгине»{320}.
Гольц зафиксировал странное «легкомыслие» вельмож, стремление не гасить, а раздувать слухи о смерти Петра III: «Удивительно, что очень многие лица теперешнего двора, вместо того, чтобы устранять всякое подозрение, напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя. Никогда в этой стране не говорили так свободно, как теперь». Среди тех, кто «забавлялся», была и Екатерина Романовна. Она передавала, вероятно, со слов Панина, что в день ареста император «ел с аппетитом и, как всегда, пил много своего любимого бургундского вина»{321}. Это была неправда, Петр III не мог есть, но действительно выпил один стакан, после чего его скрутила жестокая колика на нервной почве.
Екатерина II, без сомнения, не испытывала благодарности к подруге за «легкомысленную» болтовню в дипломатическом кругу. Нарастало напряжение и по внешнеполитическим вопросам. Сразу после восшествия императрицы на престол при дворе началась борьба за повторное вступление России в войну против Пруссии. За такое развитие событий ратовали бывшие союзники – Австрия и Франция. Короткое время партия Панина, позднее вставшая на позиции альянса с Пруссией, придерживалась австрийской ориентации[18]18
Ошибочно считать, что Н.И. Панин с самого начала выступал за союз с Пруссией. В 1787 году в письме Г.А. Потемкину по поводу союза с Австрией императрица рассуждала: «Система с венским двором – есть Ваша работа. Сам Панин, когда он не был еще ослеплен прусским ласкательством, на иные связи смотрел как на крайний случай». Таким образом, очень недолгое время в 1762 году Никита Иванович склонялся в пользу Австрии.
[Закрыть]. А вот Екатерина II, напротив, поставила целью не допустить нового столкновения с Берлином и рассматривала Фридриха II как потенциального партнера в решении польских дел.
Из донесений дипломатов видно, что Дашкова вместе с Паниным очутилась не на стороне императрицы. 23 июля Гольц сообщил домой тревожные новости: «Княгиня Дашкова часто ведет оживленные беседы с венским послом». Дашкову считали ближайшим доверенным лицом Екатерины, и, конечно, ее разговоры с графом Мерси не воспринимались как частная болтовня.
Сам Мерси д'Аржанто обнаруживал близость взглядов с представителями вельможной группировки: «Кажется еще сомнительным, не сделала ли новая императрица большой ошибки в том, что возложила корону на себя, а не провозгласила своего сына, великого князя, самодержцем, а себя регентшею империи во время его несовершеннолетия»{322}. Так говорили и Панин, и Дашкова.
Временной близостью позиций объяснялись и симпатия к княгине французских дипломатов, и отзыв Бекингемшира, иногда ставящий исследователей в тупик: «для Англии нет особой причины сожалеть об» удалении Дашковой, «поскольку она поддерживала в сильной степени интересы Франции»{323}. Несмотря на то что в течение всей жизни княгиня предпочитала Британию, был краткий момент в ее политической биографии, когда вместе с партией Панина она выступала на стороне Вены и Парижа.
«Поддерживала в сильной степени» – значит, доводила до государыни мнение своей группировки. И делала это с обычной для княгини настойчивостью. Чтобы не сказать назойливостью, к которой подталкивал племянницу Панин, сам предпочитавший действовать осторожно. Позднее она рассказывала Дидро: «Я часто оскорбляла своих друзей ревностью, с которой старалась помочь им, и некоторые предприятия не удались только потому, что я слишком горячо принималась за них. Холодные и мелкие душонки обижались моим энтузиазмом»{324}. То, что для Дашковой было энтузиазмом, императрица расценивала как вмешательство в государственные дела.
«Epris de Catherine»
Не легче складывались и личные контакты в узком дворцовом мирке. Помимо сильных врагов – Орловых, существовало множество мелкой придворной рыбешки, которая, сбиваясь в стаи, могла нападать даже на крупную дичь. Екатерина Романовна остро помнила нанесенные обиды. Недаром ее брат Семен, в 1813 году убеждая Марту Уилмот не публиковать мемуары княгини, писал, что в тексте «сквозит питающееся ни для кого не интересными дворскими сплетнями чувство ненависти к людям, сошедшим в могилу за четверть века до смерти автора. Что подумать о такой вовсе не христианской ненависти, которой не может примирить и самая смерть?»{325}.
Княгиня считала иначе. За 40 лет она не смогла примириться с перенесенной болью. Один брат обвинял ее в отсутствии благодарности. Другой – в неумении прощать. Оба чувства вытеснялись из души нашей героини жалостью к себе. Если летом 1762 года Дашкова еще претендовала на роль «главной фаворитки», то в момент написания воспоминаний она уже давно и уютно сжилась с ролью жертвы. «Некоторые изображали меня упорно преданной своим мнениям и необыкновенно тщеславной, – писала княгиня Кэтрин Гамильтон. – Самолюбие считали господствующей моей страстью».
И далее развенчивала оба мнения: «Я никогда не подозревала в себе способность нравиться. Это недоверие к себе… выражалось на лице; поэтому в моих манерах проглядывала какая-то неловкость, очень охотно перетолкованная в заносчивость или раздражительность. Застенчивость моя была так велика, что я обыкновенно в кругу большого общества сообщала именно то впечатление, которого боялась, – ложное понятие о том, что говорила и делала».
Иными словами, княгиня держалась с показной гордостью, чтобы скрыть природную робость. Последнюю не замечали, на первую ополчались. «Меня также представляли жестокой, беспокойной и алчной, – продолжала она. – Канва для этих портретов… была представлена публике вслед за восшествием императрицы на престол… Мне было тогда восемнадцать лет от роду… я действовала под влиянием двух опрометчивых обстоятельств: во-первых, я лишена была всякой опытности; во-вторых, я судила о других по своим собственным чувствам, думая о всем человечестве лучше, чем оно есть на самом деле… Вспомните также о лицах, окружавших императрицу; это были мои враги с первого дня правления ее, и враги всесильные»{326}.
Сделав круг, княгиня вновь вернулась к мысли о врагах. Нельзя не отметить, что ее представление о прошлом отличалось цикличностью: любовь к Екатерине II – противники, отнявшие обожаемого идола, – несправедливые гонения и ложная клевета.
Однако материал для подобных представлений имелся в избытке. Придворная среда живет сплетнями. Екатерина Романовна с ее беспокойным, взрывным характером, демонстративной независимостью и презрением к условностям стала удобной мишенью для злословия. Насколько реальные претензии Дашковой преувеличивались, можно судить по слуху, записанному в конце века Ш. Массоном: «Всем известно, что она усиленно просила Екатерину назначить ее гвардейским полковником и, несомненно, была бы в гвардии больше на месте, чем большинство теперешних полковников. Но Екатерина не могла доверить ей такую должность – слишком мало полагалась она на эту женщину, хваставшуюся тем, что возвела ее на престол»{327}. В основе сплетни лежала попытка княгини в дни переворота распоряжаться солдатами. Впрочем, безуспешная. Отчего было не приписать даме посягательство на чин фельдмаршала?
При жене, которая «не только усвоила мужские вкусы, но и обратилась совсем в мужчину», супруг, естественно, смотрел на сторону. Говорили, будто князь Дашков ухаживал за Екатериной II. А его законная половина стала любовницей Никиты Панина. Обычная светская грязь. Семен Воронцов ошибался, назвав «дворские сплетни» «ни для кого не интересными». И тогда, и через два с половиной века они вызывают больше любопытства, чем участие княгини в создании буквы «Ё» для русского алфавита{328}.
В 1831 году А.С. Пушкин побывал в Москве на балу у дочери Дашковой – Анастасии Михайловны Щербининой и с ее слов записал старую сплетню: «Разумовский, Никита Панин, заговорщики. Мсье Дашков, посол в Константинополе, возлюбленный Екатерины, Петр III ревнует Елизавету Воронцову. (Мадам Щербинина)»{329}. Запись сделана частью по-русски, частью по-французски. Забавно, что некоторые биографы Дашковой не решаются перевести оборот: «Epris de Catherine» – и ставят в нужном месте отточия{330}.
Переданная история в первую очередь не украшала саму Щербинину. Анастасия Михайловна сильно пострадала от деспотизма матери, но княгиня скончалась уже более двадцати лет назад. «Что подумать о такой вовсе не христианской ненависти, которой не может примирить и самая смерть?» Видимо, мать и дочь были похожи.
Что же до сути истории, то либо Пушкин неточно записал, либо Щербинина неверно запомнила: ведь не Петр III ревновал фаворитку, а наоборот. Подробность об отсылке князя Дашкова женой в Константинополь, чтобы избежать романа с Екатериной, любопытна. Но возникает вопрос: кого же ревновала Дашкова – мужа к подруге или подругу к мужу?
Вспоминаются слова княгини: «Кроме мужа, я пожертвовала бы ей решительно всем». А фраза Екатерины II в письме 1781 года о детях Дашковой: «будучи любима обоими их родителями»{331} – приобретает иной смысл. Много лет спустя, рисуя характер княгини для «Былей и небылиц», государыня очень резко выскажется о ее семейной жизни: «Любезному мужу доставалось слышать громогласные ее поучения, кои бывали… бранными словами и угрозами наполнены… “я все для тебя потеряла, и я бы знатнее и счастливее была за другим, когда бы черт меня с тобой не снес”»{332}.
Видимо, Михаил Иванович жаловался. Нет ничего удивительного в том, что люди, измученные беспокойным поведением княгини, тянулись друг к другу. Личная симпатия между Екатериной II и Дашковым, без сомнения, существовала. Но в той обстановке, когда государыня во всем опиралась на братьев Орловых и боялась задеть их, ни о какой связи речи идти не могло. Любой кандидат рисковал головой, о чем императрица прямо писала Понятовскому, отговаривая от немедленного приезда в Россию: «С меня не спускают глаз, и я не могу давать повода для подозрений»; «вы очень рискуете тем, что нас обоих убьют»; «я не хочу, чтобы мы погибли»{333}.
Если императрица и сгущала краски, то совсем немного. Бекингемшир подтверждал серьезность настроя Орловых относительно новых кандидатов на роль фаворита: «Не очень давно некий молодой человек хорошего круга, внешностью и манерой своей сильно располагавший в свою пользу, обратил на себя особенное внимание императрицы. Некоторые из друзей Панина, бывшие также и его друзьями, поощряли его добиваться цели. На первых порах он последовал было их совету, но вскоре пренебрег блестящею участью… Он сознался по секрету близкому родственнику, что он побоялся угроз, высказанных Орловыми по адресу всякого, кто вздумает заместить их брата, и не имел достаточно честолюбия, чтобы рискнуть жизнью»{334}.
Следует ли видеть в описанном «молодом человеке» князя Дашкова? Или это был другой кандидат? Ведь посол вел рассказ с чьих-то слов и не называл фамилий. Но кое-какие следы добрых отношений остались: Екатерина II подарила князю лучшую лошадь из своей конюшни{335}. Она сама была страстной ценительницей лошадей, прекрасно ездила верхом, и подобный презент много говорил заинтересованным наблюдателям.
Как бы там ни было, императрица держалась крайне осмотрительно, и Михаил Иванович не имел шансов. Другое дело – его жена. Привязанность государыни к княгине могла выглядеть как дружба. Но Екатерина Романовна вносила в нее столько горячности, что не позволяла окружающим остановиться на этой невинной трактовке.
Пушкин зафиксировал довольно поздние слухи, касавшиеся отношений Дашковой с императрицей. В 1835 году, взбешенный назначением С.С. Уварова президентом Академии наук, он писал: «Уваров большой подлец… Разврат его известен… Он начал тем, что был б…, потом нянькой и попал в президенты Академии Наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии»{336}.
Эта запись не значит ничего, кроме того, что подобные разговоры велись. Но гораздо больше сплетен вызывали близкие, доверительные контакты молодой княгини с Паниным. Дипломаты в один голос называют княгиню «дочерью или любовницей» Никиты Ивановича. Родные открыто обсуждали больной вопрос. Дядя-канцлер, чья дочь – Анна Михайловна – также в свой час не миновала объятий Панина, с негодованием сообщал племяннику Александру, что Никита Иванович «к его позору страстно любит и боготворит Дашкову», хуже того – «слепо превращается в раба ее»{337}.
Дж. Казанова, побывавший в России в 1767 году, посетил Дашкову с рекомендательным письмом. «Княгиня замолвила обо мне словечко перед графом Паниным, – отмечал он. – Я слыхал от лиц, заслуживающих всяческого доверия, что граф Панин был не любовником госпожи д'Ашковой, а отцом»{338}.
Эти сплетни больно ранили такого нервного, впечатлительного человека, как Екатерина Романовна. Клевету, по словам Дашковой, распространяла «первая камеристка императрицы в бытность ее великой княгиней». Некоторые исследователи видят в этой особе Марию Травину{339}, урожденную Жукову, действительно возвращенную ко двору. Однако прежняя горничная Екатерины была слишком молода и худородна, чтобы находиться некогда «в дружеских отношениях с матерью» Дашковой и от нее узнать подробности романа с Паниным. Ее сослали в 1745 году. На наш взгляд, имелась в виду М.С. Чоглокова, первая камер-фрау малого двора и родственница Воронцовых. Некогда «Кербер» молодой Екатерины, она с годами превратилась в ее преданного пса. Эту-то женщину и использовали против Дашковой.
Часто в рассказах об охлаждении между подругами императрица предстает безучастной и отдаляющейся. На самом деле она поборолась за сохранение княгини. Но сделала это очень своеобразно.
Кто бы ни был источником слухов о связи с Паниным – Чоглокова или Травина, – обе являлись слишком слабыми и несамостоятельными фигурами, чтобы действовать без ведома государыни. Перед нами попытка вбить клин между Дашковой и Паниным, рассорить их. А такой ход уже отдавал политикой. Группировка, выступавшая за интересы наследника Павла, должна была дать трещину, ведь позиции княгини и воспитателя совпадали далеко не полностью. Порвав с Паниным, лишившись поддержки его партии, Екатерина Романовна становилась безопасной и могла быть сохранена в качестве подруги. Но теряла политический вес.
Императрица почти преуспела. «Я бы ненавидела Панина, потому что из-за него пятнали мою репутацию», – признавалась княгиня. Причиной сохранения близких отношений в мемуарах названы благодеяния детям Дашковой. Но это анахронизм: до благодеяний оставалось несколько лет, а дружба подвергалась испытаниям летом 1762 года. Истинная причина состояла в желании нашей героини играть самостоятельную политическую роль, пусть и оппозиционную, Екатерине II.