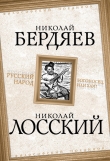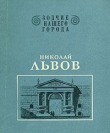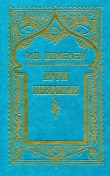Текст книги "Бердяев"
Автор книги: Ольга Волкогонова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Первоначально на «Гафиз» была приглашена чета Бердяевых, но спустя несколько заседаний Лидию Юдифовну из «Гафиза» исключили за то, что она стесняла своим присутствием участников (в том числе, по мнению других «гафизитов», самого Бердяева). Наверное, она действительно была инородным включением в этой богемной среде (да еще и с гомоэротическим привкусом). В своих дневниках Михаил Кузмин бегло описывал происходившее на «Гафизе», – как Городецкий притворялся спящим, чтобы присутствовавшие «будили» его поцелуями, как после стихов и «мудрости» участники плясали, а тот же Городецкий из своего хитона устраивал «палатки» над разбросанными по полу тюфяками, где присутствовавшие обнимались и вели беседы о любви. Думаю, как ни храбрилась Лидия Юдифовна, происходившее было ей чуждо, и это почувствовали другие участники. Бердяев посещения «Гафиза» продолжил – уже без жены. Лидия Юдифовна очень переживала по этому поводу. Михаил Кузмин записал в своем дневнике 29 мая 1906 года, не преминув попутно посмеяться над поэтическим даром Бердяевой: «Лидия Юдиф<овна> очень стремится опять в Гафиз и только боится Кузмина и хочет писать челобитную в стихах, где Кузмин рифм<уется> с "жасмин", "властелин" и т. д.» [113]113
Кузмин М. Дневник 1905–1907 / Предисл., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. С. 159–160.
[Закрыть].
«Гафиз» просуществовал недолго, – собрания продолжались более или менее регулярно около года, состоялось примерно десять заседаний. Кузмин довольно подробно описал в дневнике одну такую встречу «гафизитов», в том числе и исключенной к тому моменту Л. Ю. Бердяевой, Ремизовых, Б. Лемана и знакомого Николая Александровича по Вологде датчанина О. Маделунга с дамой. Эта запись помогает понять атмосферу «башни»: «Бердяев председательствовал, лежа на полу между свечей, со звонком, привязанным к ноге, и потом отлично говорил. С тем, что говорил Вяч<еслав> Ив<анович>, я не был согласен ни с чем. Ремизов ехидно и коварно шутовался, все говорили враз и потом долго отдельными группами с жаром и с интересом. Датчанка смотрела, будто готовая сойти с ума. Говорил и Городецкий, постепенно как-то по-новому освещающийся для меня. Потом остались одни гафисты и долго еще беседовали о поцелуе, было очень много словесности и мережковщины, и я был очень рад, когда Сомов сказал, что скорее всего согласен с моим мнением, которое было найдено циничным». Бердяев со звонком на ноге – образ, свободный от хрестоматийного глянца, подтверждающий, что чувствовал себя Николай Александрович в «башне» свободно, «среди своих». Так оно и было, хотя, описывая уже в преклонном возрасте «башенные» встречи, Бердяев, по-моему, видел отношение участников «сред» друг к другу в несколько розовом свете. Потому ли, что с возрастом мелкие размолвки действительно стали казаться ему незначительными, потому ли, что и тогда, в 1905–1906 годах, он не замечал постепенно появившегося отчуждения со стороны некоторых участников собраний – в том числе к собственной персоне.
Двусмысленная репутация «башни», самой личности Вячеслава Иванова, символистских собраний, эпатажа по отношению к буржуазной публике и морали – все это иногда мешает увидеть главную тему «башенных сред». Таким «главным» стала идея объединения искусств – философии, литературы, театра, музыки и конечно же живописи (ведь завсегдатаями салона были художники-мирискусники). На «башне» была создана, по словам Бердяева, «утонченная культурная лаборатория». Идея объединения искусств имела два взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, многие «башенные» завсегдатаи (и сам Иванов в их числе) были неоплатониками: существует вечное и неизменное совершенство, существует вечная красота. Это совершенство и эта красота дробятся, проявляются во множестве отдельных частей, осколков, моментов, некоторые из которых, ввиду своей оторванности от целого, являются некрасивыми и даже уродливыми. Поэтому преображение жизни, обращение к вечной красоте возможно лишь при воссоединении различных подходов. С другой – теоретики символизма видели в музыке, театре и прежде всего в живописи способ выражения их теоретической позиции. Как в Средние века живописные полотна заменяли неграмотным людям книги, так и на рубеже веков Вячеслав Иванов отводил живописи роль «пропагандиста» новых идей. План такого «цельного знания» носился в воздухе: выразителями идеи слияния искусств были композитор Скрябин, художник и музыкант Микалоюс Чюрленис, живописец, философ и театральный художник Николай Рерих, другие. К сожалению, постепенно достигнутые было на «башне» единство, «союз искусств» быстро начали распадаться. Судя по записям Зиновьевой-Аннибал и воспоминаниям других участников, в заседаниях постепенно выделились два крыла – художественное и философское, и общий язык находился не всегда. Разумеется, Бердяев ассоциировался именно с «философским» крылом, его выступления и председательство поэтому не всегда одобрительно встречались «художниками». Представление об этом дают выдержки из дневника хозяйки «башни». Ивановы тогда часто и тесно общались с Бердяевыми, но иногда в строках Лидии Дмитриевны прорывалось раздражение против философствующего Николая Александровича (сама Зиновьева-Аннибал, конечно, принадлежала к «художественному крылу» собраний): «И еще после концерта будет собрание "святош" у Бердяева. Это я называю так сей мало талантливый или выдохшийся талантами кружок Мережко-Бердяево-Булгаково-Волжско-Розановский. Там же будут показаны знаменитости: Петр Струве, Франк и С… Я их называю "серыми дьяволами серединности". Это кадеты, соцьалисты. Но на земле, как я и сказала Булгакову, может быть только крайнее, только оно делает, остальное квасится» [114]114
Литературное наследство. М., 1976. Т. 92. Кн. 3. С. 2.
[Закрыть]. Она же отмечала позднее, что ее и Вячеслава Иванова «относит от мелей Мережко-Бугае-Бердяе-Булгако– и пр. плоскословенства в свой изначальный океан». Тональность этих записей с очевидностью показывает, что художественное действие стало противопоставляться рассуждениям о нем даже вдохновительницей «башни». Программа «цельного знания» не удалась, но попытка стала одной из самых ярких страниц отечественной культуры начала XX века.
В формировании личности Бердяева «башенный» опыт сыграл важную роль: его миросозерцание не могло не измениться. Общение с художниками, поэтами, писателями не только приоткрыло для него новый мир, но и сказалось на характере, поведении. Культурную атмосферу начала прошлого века уже современники оценивали по-разному: и как декаданс, упадок, разложение (достаточно посмотреть на статьи известного публициста того времени М. О. Меньшикова), и как возрождение, ренессанс, расцвет. Чаще всего критики ставили в вину «декадентам» воспевание «цветов зла», отрицание общепринятой морали, культ эротизма. Слухи и сплетни о «декадентских сборищах» имели мало общего с реальностью. Теоретизирования об Эросе и поле, конечно, не были синонимичны инфернальному разврату (как зачастую представляли себе ситуацию законопослушные буржуа), но символизм, модернизм начала XX века, как уже отмечалось, выражался не только в произведениях, но и в стиле поведения их творцов. Как писал в одном из своих стихотворений Д. С. Мережковский:
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.
Андрей Белый вспоминал, что по Петербургу ходили слухи о том, что в «башне» у Иванова «совершается обобществление жен и снятие фиговых листиков» [115]115
Белый А. Между двух революций. С. 174.
[Закрыть]. Конечно, это не соответствовало действительности, но повод к таким суждениям подавала вся атмосфера салонов того времени – идея «любовных мистерий» Вяч. Иванова, проповедь «трын-травизма», нескрываемая гомосексуальность некоторых деятелей культурного ренессанса – «и „башня“ Иванова, в передаче сплетников, сходила в уличное хулиганство».
Николай Александрович, попав в непривычную для него среду, несомненно «раскрепостился». Впоследствии он даже стеснялся и не любил вспоминать некоторых своих поступков, поскольку они были несвойственны его обычному стилю поведения. В частности, он пытался объяснить в своей автобиографии десятилетия спустя случай, получивший не только широкую огласку, но и самые немыслимые интерпретации – обыватели говорили чуть ли не о «черной мессе». На квартире литератора Н. М. Минского (с которым Бердяев познакомился во время поездки в Европу) была устроена дионисическая мистерия. В ней участвовали, кроме Бердяева, Ф. Сологуб, В. Розанов, Вяч. Иванов, другие. Присутствовавшие, одетые в хитоны, пили вино, водили хороводы, пели песни, их лбы были украшены венками… Театральность действа не заключала в себе ничего безнравственного, тем не менее Бердяев с неприятным чувством вспоминал этот эпизод из своей жизни не только потому, что слухи об «оргии» проникли в правую печать, но и потому, что вождение хороводов, звонок, привязанный к ноге, античные хитоны не вписывались в его обычный, вполне размеренный стиль жизни до и после тех петербургских лет.
Поражает то, что время хороводов и хитонов было временем первой русской революции 1905–1907 годов. Конечно, революционные волнения, потрясавшие Россию в то время, частично затрагивали и обитателей «башни», хотя споры, протекавшие там, носили характер абстрактно-теоретический. Однажды во время собрания полиция по каким-то причинам устроила на «башне» обыск, по словам Н. Бердяева, «произведший сенсацию» [116]116
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 146.
[Закрыть]. Об этом случае вспоминал и Добужинский: «Однажды… когда в „башне“ было одно из самых многолюдных собраний и был в самом разгаре „чай“, внезапно открылись двери передней… и театральнейшим образом… появился полицейский офицер с целым отрядом городовых. Всем было велено оставаться на своих местах, и немедленно у всех дверей были поставлены часовые. Забавно, что никакого переполоха не произошло и чаепитие продолжалось как ни в чем не бывало. Однако по очереди все должны были удаляться в одну из комнат, где после краткого допроса, к всеобщему уже возмущению, началась чрезвычайно оскорбительная операция личного обыска. Сначала допрашиваемые старались шутить и дерзить, но, когда руки городовых стали шарить в карманах, сделалось уже не до шуток» [117]117
Добужинский М. Встречи с писателями и поэтами // Воспоминания о серебряном веке. С. 356–357.
[Закрыть]. В участок в результате забрали совершенно безобидную пожилую даму, мать Максимилиана Волошина, приехавшую из Парижа, – полиции, видимо, не понравилась ее внешность: стриженая, в коротких шароварах, она показалась им подозрительной… Утром ее освободили, и происшествие на этом закончилось.
Но в целом «культурная элита была на "башне" изолирована»; революция бушевала где-то внизу, у основания, до «башенных» обитателей доносились лишь слабые ее отзвуки и подземный гул. Это тем более удивительно, что некоторые из участников символистских собраний и «дионисических мистерий», «сред» и «воскресений», кружков и заседаний прошли через увлечение революционными идеями, марксизмом и народничеством. Даже Бердяев, в котором, по его собственному признанию, всегда был силен «социальный инстинкт», жил в эти годы в определенной изоляции от общественных процессов, происходивших в России. Он публиковал статьи на социальные темы («Социализм как религия», «Революция и культура» – о М. Горьком, «Русская Жиронда» – о партии кадетов, «К истории и психологии русского марксизма», «О путях политики» и др.), в которых виден был его отклик на происходившее, но отклик этот имел несколько отстраненный характер.
На «башне» и на улице говорили на разных языках. В зрелом возрасте Бердяев в этом увидел одно из объяснений будущей российской катастрофы: «Несчастье культурного ренессанса начала XX века было в том, что в нем культурная элита была изолирована в небольшом круге и оторвана от широких социальных течений того времени… Русские люди того времени жили в разных этажах и даже в разных веках. Культурный ренессанс не имел сколько-нибудь широкого социального излучения… Многие сторонники и выразители культурного ренессанса оставались левыми, сочувствовали революции, но было охлаждение к социальным вопросам, была поглощенность новыми проблемами философского, эстетического, религиозного, мистического характера, которые оставались чуждыми людям, активно участвовавшим в социальном движении… Творческие идеи начала XX века, которые связаны были с самыми даровитыми людьми того времени, не увлекали не только народные массы, но и более широкий круг интеллигенции. Революция нарастала под знаком миросозерцания, которое справедливо представлялось нам философски устаревшим и элементарным и которое привело к торжеству большевизма». Вывод Бердяева о «разрыве между высшим культурным слоем и низшим интеллигентским и народным слоем» вполне соответствовал действительности. Осмысление Бердяевым природы той революционной стихии, которая разыгралась в России в самом начале прошлого столетия, произошло несколькими годами позже.
9 января 1905 года, вошедшее в российскую историю под названием «Кровавого воскресенья», потрясло Бердяева и большинство его петербургских знакомых, разбудило их. Расстрел массового шествия рабочих к Зимнему дворцу никого не оставил равнодушным. Г. И. Чулков вспоминал о том, как всю ночь с 8 на 9 января он просидел в редакции «Сына отечества» вместе с Д. С. Мережковским, ожидая известий о посланной к Витте делегации (в состав ее входили М. Горький, публицист А. В. Пошехонов, историк В. А. Мякотин и др.). Все знали о петиции рабочих к царю, о готовящемся мирном шествии, о том, что в рабочих собираются стрелять, и пытались предотвратить кровопролитие. Этого сделать не удалось. Убийства мирных демонстрантов стали катализатором последующих революционных событий. Они потрясли людей, даже далеких от политики. Тот же Чулков описывает, как днем 9 января оказался в Тенишевском училище, где с утра собрались петербуржцы, главным образом литераторы, ожидая событий. Он писал, что, узнав о расстреле шествия, некоторые присутствовавшие рыдали.
Бердяев тяжело пережил Кровавое воскресенье, это событие стало отрезвляющим напоминанием о реальной жизни. «Вопросы жизни» сразу и однозначно заняли позицию против насильственного подавления народных выступлений. Наступила «эпоха забастовок и союзов» (так охарактеризовал это время Чулков), в журнале стали печатать списки произошедших стачек и демонстраций. «Вопросы жизни» в первый же день отмены цензуры сообщили своим читателям, что с № 10–11 выходят без дозволения цензора. Отмена предварительной цензуры поставила перед редакцией вопрос о формулировании некоторой политической (не только культурной) платформы. И в ноябре 1905 года редакция заявила, что журнал, преследующий общекультурные и религиозно-философские цели, предпочитает сохранить независимое, внепартийное положение, хотя, конечно, всецело присоединяется к общему освободительному и социалистическому движению во имя анархического идеала в его религиозном понимании. Но многие авторы и сотрудники «Вопросов жизни», объединяясь вокруг «общекультурных и религиозно-философских целей», были не согласны с такой формулировкой политических симпатий журнала. К тому же редакция столкнулась с финансовыми трудностями. Журнал умирал. Последний номер «Вопросов жизни» вышел совсем тоненьким: выпустили его лишь в связи с обязательствами перед авторами закончить печатание ряда статей.
Бердяев попытался вновь объединиться с Мережковскими для выпуска нового журнала – «Меч». Объявление о выходе нового журнала даже появилось в печати. Но этим планам не суждено было осуществиться. 14 марта 1906 года Мережковские вместе с Философовым отправились в длительную поездку по Европе. Мало кто знал об их отъезде, поэтому поздним вечером на петербургском вокзале их поезд на Париж провожали самые близкие – сестры Зинаиды Николаевны, Андрей Белый, А. В. Карташев (историк и богослов, участник Религиозно-философских собраний) и Бердяев. Уже через две недели после отъезда Гиппиус Бердяев послал ей очень теплое письмо, начинавшееся словами: «Дорогая, милая моя Зинаида Николаевна! Не писал Вам до сих пор не потому, что не помнил о Вас все время и не имел чего сказать, а потому только, что слишком многое хотелось разом сказать и трудно это» [118]118
Бердяев Н. А. – Гиппиус 3. Н. Петербург, 27 марта 1906 г. // Минувшее. Вып. 9. М.: Феникс, 1992. (Репринт парижского издания «Atheneum», 1990 г). С. 298.
[Закрыть]. С этого момента между Бердяевым и Гиппиус завязалась интенсивная переписка, причем бердяевские письма говорят о явном восхищении Зинаидой Николаевной, нежелании обидеть ее каким-либо неосторожным словом или замечанием. Бердяев был подчас исповедально откровенен в этой переписке, он писал очень близкому другу.
Из первого же письма Бердяева Зинаиде Николаевне видно, что Мережковские рассматривали Николая Александровича как потенциального члена их «новой церкви» – церкви «Третьего Завета». С самого начала среди сторонников «нового религиозного сознания» не было единства: они сходились в необходимости реформации церкви, но направление реформ видели совершенно по-разному. А. В. Карташев выступал за возврат к традициям «Святой Руси», В. В. Розанов обращался к ветхозаветным началам (и поэтому столь много внимания уделял иудаизму), Мережковские же пытались создать новую религию, соединявшую истины христианства и язычества. Бердяева эти попытки Мережковских отталкивали, хотя он и ощущал «мистическую связь» с Зинаидой Николаевной (по его словам). «Почему я не соединяюсь с Вами окончательно, не вхожу в Вашу общину, не живу с Вами общей религиозной жизнью?.. – пытался объяснить свою позицию Бердяев. – Думаю, что причина тут не только в раздвоении моей стихии и слабостях и недостатках моих, моем индивидуализме, антицерковности, боязни потерять свободу или разочароваться в соединенной жизни, не только в сомнениях моих, какому Богу поклоняться… Я, кажется, расхожусь с Вами в понимании церкви и не думаю, чтобы Вы уже знали, что такое церковь… Боюсь, что у Вас есть тенденция образовать секту, маленькую интимную религию, очень интересную, глубокую, завлекательную, но не вселенскую». Даже из этого отрывка очевидно, что, с одной стороны, до лета 1906 года религиозность Бердяева еще носила смутный и неопределенный характер (поэтому и с Розановым он не мог спорить тогда, как более последовательный христианин, чем Василий Васильевич!), а с другой – не менее ясно, что попытки кружка Мережковских «дополнить» и модернизировать христианство воспринимались им отрицательно. Такая разница позиций привела в конце концов к полному разрыву между Бердяевым и Мережковскими – Философовым в начале 1908 года, ведь «Мережковские всегда претендовали говорить от некоего "мы" и хотели вовлечь в это "мы" людей, которые с ними близко соприкасались» [119]119
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 133.
[Закрыть]. В своих письмах Зинаида Николаевна укоряла Бердяева в бездействии, на что он резонно ей возражал: «Но ради Христа скажите мне прямо и открыто, что делаете Вы, что реализуете, как преображаете жизнь? Я не признаю права ни за Вами, ни за каким бы то ни было человеком на свете ответить так: соединитесь окончательно с нами,тогда узнаете, что и как мы делаем, что и как вам реализовать… И не говорите, что нам нужно соединиться, это бессодержательно, мне нужно знать, в чем реализуется наше соединение, знать теперь же. По глубокому моему убеждению историческая христианская церковь была человеческой выдумкой, само христианство в истории в значительной степени человеческая выдумка и потому не имеет для меня никакого авторитета. И я не хотел бы новых человеческих изобретений, претендующих на авторитет» [120]120
Бердяев Н. А. – Гиппиус 3. Н. Петербург, 2 июня 1906 г. // Минувшее. Вып. 9. С. 302.
[Закрыть].
Несмотря на неприятие идеи Мережковских о создании новой церкви, Бердяев был близок с Зинаидой Гиппиус в то время. Он обсуждал с ней в письмах не только важные вопросы своих убеждений и верований, но и другие глубоко личные вещи. В одном из писем он писал о своей нежной любви к Лидии Юдифовне, закончив эту мысль фразой о том, что «роковая проблема пола» не разрешается браком. Означало ли это, что Николай Александрович осознал невозможность идеального и гармоничного любовного союза на грешной земле (а именно о таком совершенном союзе он мечтал перед приездом в Петербург), отразилась ли в письме мимолетно промелькнувшее и вскоре забытое разочарование из-за каких-то конкретных событий семейной жизни, или ему так и не удалось «разбудить пол» в своей жене, как он мечтал когда-то, – установить сегодня уже трудно. Но сама тональность бердяевских писем определенно свидетельствует, что Зинаида Николаевна чрезвычайно много значила для Бердяева в ту пору.
Глава седьмая. Религиозный переворот
Жизнь – бесконечное познанье…
Возьми свой посох и иди! —
И я иду… и впереди
Пустыня… ночь… и звезд мерцанье.
М. Волошин
В начале 1906 года Бердяев подготовил к изданию свою вторую книгу – «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные, литературные 1900–1906». Увидела свет она уже в 1907 году. Названием книги, куда вошли 23 статьи Бердяева за несколько лет, стало латинское изречение – «с точки зрения вечности». На непросвещенный взгляд, название не слишком скромное (впрочем, скромностью по отношению к своему творчеству Николай Александрович никогда не отличался). Но для читателя искушенного речь шла о высказывании Спинозы: в своей «Этике» голландский мыслитель писал, что разуму свойственно постигать окружающие нас вещи не как нечто текучее и изменчивое, а с точки зрения вечности. Выражение стало крылатым. Позднее Бердяев оценивал этот свой сборник как неровный и незрелый. Действительно, статьи, включенные в него, относились к разным годам его духовной эволюции, к разным этапам, но именно благодаря этому можно было увидеть те изменения, которые произошли с автором. Сборник также помогал понять, благодаря чьим влияниям складывалась собственная позиция Бердяева: в нем содержалась статья о замечательном мыслителе XIX века Константине Николаевиче Леонтьеве, которого Бердяев заново открыл для читающей публики; в другой статье – «О новом религиозном сознании» – автор вел речь о Мережковском, причем не скрывал, что многим ему обязан, в статье «Трагедия и обыденность» Николай Александрович писал о Шестове, чьи взгляды тоже были значимы для его собственного духовного становления и т. д.
Послесловие к сборнику своих статей Бердяев писал уже не в Петербурге, а в деревне – он и Лидия Юдифовна еще весной 1906 года уехали в Бабаки, планируя вернуться в Петербург только в сентябре. В деревне его настигла весть о том, что отец при смерти. Бердяев тут же отправился в Киев. Судя по всему, Александр Михайлович перенес инсульт, сопровождавшийся частичным параличом левой стороны тела и ухудшением мозговой деятельности. Родные не надеялись на его выздоровление. Приехав в киевскую квартиру, Бердяев застал больного старика, не всегда узнающего даже самых близких и заговаривающегося, беспомощно суетящуюся мать, брата в тяжелом депрессивном состоянии, но все-таки беспокоящегося о том, чтобы ему досталось какое-то наследство… Вопрос о наследстве был скорее риторическим: финансовые дела семьи находились в полном расстройстве («Наши денежные дела ужасны», – написал Николай Александрович из Киева жене), денег не было даже для самого ближайшего будущего. К счастью, мрачные ожидания не оправдались – Александр Михайлович поправился, но финансовые проблемы не исчезли. Старший сын Сергей настаивал тем не менее, чтобы завещание было составлено в его пользу (у семьи еще оставалась какая-то недвижимость). Николай Александрович повел себя в этом вопросе благородно: он тоже попросил отца составить завещание в пользу брата, так как понимал, что Сергей никогда не сможет зарабатывать систематически (в силу своего нервного нездоровья) и обеспечивать себя и жену. Бердяеву пришлось еще раз приехать из деревни в Киев в августе, чтобы решить вопрос с польским майоратом. Дело в том, что в имении Бердяевых обнаружили железную руду, что сулило материальное процветание и благополучное разрешение всех финансовых затруднений. Увы! Достаточно скоро стало ясно, что запасы руды незначительны, для промышленной разработки ее недостаточно и призрачные миллионы Бердяевым не грозят…
Из Киева Бердяев вернулся в Бабаки, которые полюбил всей душой («Жизнь в Бабаках представляется мне раем, о каждой минуте жизни в милых Бабаках вспоминаю как о счастье, живу мечтой о возвращении к тебе» [121]121
Цит. по: Вадимов А, Жизнь Бердяева: Россия. С. 90.
[Закрыть], – писал он Лидии Юдифовне). Но он не только отдыхал там от киевских семейных волнений и «двоящейся» петербургской жизни, но и много работал. В своих письмах к Философову он рассказывал, как ему хорошо пишется в деревне. Некоторые части книги, подготовленной им в Бабаках, он посылал Мережковским для предварительного прочтения. Продолжалась и его переписка с Гиппиус.
Выход бердяевского «Sub specie aeternitatis» приветствовал Сергей Николаевич Булгаков, хотя он и счел название сборника «слишком ответственным». Булгаков увидел в собранных автором статьях за шесть с лишним лет очевидную эволюцию – «духовное освобождение от философии позитивизма (в ее марксистской разновидности) и от религии социализма чрез философский идеализм… к религиозной философии, устанавливающей идеал христианской, общественности» [122]122
Книга. № 10. 11 января 1907. С. 14–15.
[Закрыть]. Причем Булгаков не скрывал, что его собственная духовная эволюция шла тем же путем, параллельно. Как уже говорилось, такова была логика развития и некоторых других творцов культурного ренессанса. Поэтому, как отмечал Булгаков, книга Бердяева была «ценным „человеческим документом“ начала XX века». Интересно, что Булгаков подметил и слабые стороны сборника, которые, по его мнению, были связаны с «небрежностью мысли» и невниманием к философской традиции. (Как писал Булгаков: «Несколько зашнуроваться в корсет школьной философии для широкой натуры автора, в интересах его читателей и строгости его мысли, было бы полезно».) Думаю, эти черты действительно присущи многим работам Бердяева, хотя оценивать их можно по-разному: кто-то видит в этом, как Булгаков, пренебрежение логикой и «школьной философией», а кто-то – оригинальный стиль философствования, когда автор не выводит свою философскую позицию с помощью рациональных схем и методов, а буквально «проживает» ее. Краткая рецензия Булгакова была опубликована в журнале «Книга».
Откликнулся на книгу и другой приятель Бердяева по Киеву – Лев Шестов. Он тоже отметил, что философские взгляды Бердяева изменились и сборник статей показывает эти изменения, более того, он прямо сопоставил эти изменения с духовной эволюцией Булгакова. С одной стороны, Шестов начал свою рецензию с утверждения, что идейные изменения – нормальный процесс для любого мыслящего человека, поэтому эволюция, пережитая Бердяевым, объяснима и естественна. С другой – Шестов довольно критично оценил ход и скорость этой эволюции, не аккумулирующей различные периоды развития, а отрицающей все пройденное: «Обращу внимание читателя на другую особенность идейного развития Бердяева (то же и Булгакова). Как только он покидает какой-либо строй идей ради нового, он уже в своем прежнем идейном богатстве не находит ничего достойного внимания. Все – старье, ветошь, ни к чему не нужное. Например, экономический материализм. Когда-то (в своей первой книге) Бердяев восторгался им, правда, не в его чистом виде, а в соединении с кантианством, и считал, что в нем все истины. Теперь он уже в нем не видит ни одной истины. Я и ставлю вопрос: разрешается ли философу такая безумная расточительность? Ведь, того и гляди, у материалистов были хоть крупицы истины?! Неужели пренебрегать ими? Или впоследствии, когда пришлось снова сниматься с места и покидать старика Канта, Бердяев все бросил, ничего не подобрал, словно бы его тяготила всякая поклажа, и налегке помчался к метафизике, заранее уверенный, что он найдет у нее и тучные стада, и огромные поля, – словом, все, что нужно человеку для пропитания. Потом бросил метафизику и ринулся в глубину религиозных откровений» [123]123
Шестов Л. И. Похвала глупости. По поводу книги Николая Бердяева «Sub specie aeternitatis». // Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 200.
[Закрыть]. Для Шестова, мучительно и трудно вырабатывавшего свою философскую позицию, углублявшего ее в течение всей жизни, довольно странным был быстрый переход Бердяева и Булгакова к новой философской вере, он подсмеивался над его скоростью: «Я даже не вижу никаких оснований для человека, который хорошо знает несколько философских систем, непременно эволюционировать от одной к другой. Дозволительно, смотря по обстоятельствам, верить то в одну, то в другую. Даже в течение дня переменить две-три. Утром быть убежденным гегелианцем, днем держаться прочно Платона, а вечером… бывают такие вечера, что и в Спинозу уверуешь: такой неизменной покажется наша natura naturata».
Шестов отметил, что и религиозная философия Бердяева еще не может считаться таковой; скорее это интенция, стремление автора, чем свершившийся факт. Лев Исаакиевич едко писал о Бердяеве, что «он стал христианином, прежде чем выучился четко выговаривать все слова Символа веры», поэтому в статьях, посвященных религиозному сознанию, богочеловечеству, христианской общественности и т. п., он попадал «в чуждую и незнакомую ему область, где приходится двигаться наугад и ощупью». Возможно, Шестов был здесь не совсем прав: весной 1907 года Бердяев писал Философову, что летом прошлого года он пережил духовный перелом [124]124
В своем письме от 3/16 октября 1918 года Э. Ф. Голлербаху Бердяев указал, что «окончательно сделался христианином» в 1905 году. Тем не менее анализ многих свидетельств знавших Бердяева людей, его собственных писем заставляет признать, что в этом письме Голлербаху он ошибся, указав более раннее время. См.: Письма Н. А. Бердяева к Э. Ф. Голлер-баху. В кн.: Минувшее. Вып. 14. М.: Феникс, 1993. С. 407.
[Закрыть]. Суть его Бердяев выразил так: «…я поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренне освободился от демонизма, полюбил Бога, ко мне вернулся тот внутренний религиозный пафос, который был у меня некогда, а потом затерялся. Переворот произошел не в моих „идеях“, а в „жизни“, в опыте, в клетках моего существа, связан с фактами, выстрадан мною. С того времени я сделался благочестивым человеком, я каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все значительное, что способен, и прежде всего писать» [125]125
Бердяев Н. А. – Философову Д. В. 22 апреля 1907 г. // Минувшее. Вып. 9. С. 307.
[Закрыть]. В этом же письме Николай Александрович признавался, что, хотя его религиозная жизнь и после свершившегося перелома еще «бедна и элементарна», он уже отошел оттого «двоящегося» сознания, которое было ему присуще один-два года назад. Бердяев был убежден, что религиозный перелом произошел с ним во многом благодаря Лидии, не раз повторял, что она – человек гораздо более религиозный, чем он сам. И хотя религиозность Бердяева еще не была по-настоящему глубока (недаром он сам подчеркивал свою религиозную «бедность»), тем не менее он действительно изменился. Выразилось это в том числе в его отношении к своему недавнему кругу общения и тем идеям, что были в нем приняты: он обвинял Зиновьеву-Аннибал, Белого, Кузмина в «литературщине» и «декадентстве», высказывал недоверие к искусственным, механическим, вымученным религиозным схемам (имея в виду Мережковских?), противопоставлял им опыт Православной церкви (которую все-таки еще называл «старой»).
Душевное отталкивание от «декадентства» привело к тому, что Бердяев не раз называл Петербург «отравленным». Уехав из него в деревню, он в этот город уже не вернулся. В том числе из соображений экономии (жизнь в деревне была дешевле, поэтому Бердяев с Лидией Юдифовной решили задержаться здесь до октября). Сэкономленные деньги Бердяев предложил потратить на поездку в Париж – похоже, что это предложение было вызвано и его желанием выяснить спорные вопросы с Мережковскими – Философовым, поговорить с Зинаидой Николаевной, наметить планы дальнейшего совместного сотрудничества. Поездка состоялась. Правда, результаты ее оказались иными.