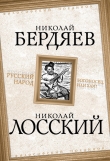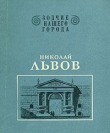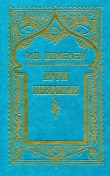Текст книги "Бердяев"
Автор книги: Ольга Волкогонова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В это время Бердяев пишет свою первую книгу «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском». Она выйдет в свет в Петербурге уже в 1901 году с большим предисловием Петра Бернгардовича Струве (1870–1944). Со Струве Бердяев познакомился будучи под следствием, во время своей краткой поездки в Петербург. Сын пермского губернатора, Струве, отдав дань увлечению славянофильством, стал западником, а затем увлекся марксизмом, был одним из лидеров социалистического движения. Аресты, ссылки, подпольная деятельность, участие во II Интернационале… Именно он написал к I съезду РСДРП «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии». Их многое объединяло с Бердяевым: дворянское происхождение, сильные семейные традиции (Струве был внуком известного астронома, основателя Пулковской обсерватории, в семье был своеобразный культ науки и интеллектуализма), первоначальный интерес к естествознанию, – Струве тоже поступил на естественный факультет Петербургского университета, а потом перевелся на юридический, искреннее увлечение марксизмом, проинтерпретированным с нравственной точки зрения, заметная роль в марксистском движении и постепенный отход от марксистских позиций. Струве, как и Бердяеву, импонировало, что марксизм противостоял традиционно широко представленным в отечественной литературе убеждениям о специфическом национальном характере и духе русского народа и его особенных исторических судьбах. Марксизм предложил предельный исторический схематизм – движение истории объяснялось как прогрессивная смена общественно-экономических формаций, и национальные особенности не могли изменить этой объективной, с точки зрения сторонников учения, логики развития. Сводя исторический процесс к смене экономических форм и рассматривая капитализм как неизбежную ступень этого развития, Струве утверждал, что эту фазу должна пережить и Россия. Одну из своих ранних работ Струве даже закончил призывом: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму!» Но прошло совсем немного времени, и размышления привели Струве к выводу, что в марксизме немало противоречий, что не все его положения теоретически и философски обоснованы. В результате взгляды Струве эволюционировали: он не только отказался (и попытался это обосновать) от идеи о фатальной необходимости падения капитализма и перехода к социализму и коммунизму в силу «естественных» законов экономики, но и в философии начал двигаться к идеализму. Похожую духовную эволюцию от марксизма к идеализму переживал тогда и Бердяев, это их сблизило.
Первая бердяевская книга содержала попытку осуществить своеобразный синтез марксистской философии (ее социальной критической части) и переработанной им немецкой классической философии (прежде всего позиций Канта и Фихте), недаром его взгляды в данный период подчас называют «неокантианским марксизмом». Струве тоже увидел в книге попытку соединения социологических выводов марксизма с идеализмом в философии: «Важный шаг в деле критической перестройки марксизма на основе идеалистической философии делает книга Бердяева» [19]19
Струве П. Б, Предисловие к книге Н. А. Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» // Н. А. Бердяев: Pro et contra. С. 101.
[Закрыть]. Бердяев критиковал субъективный метод Михайловского в социологии, считая, что он явно проигрывает в споре с марксистской картиной общества, но он критически оценил и многие положения марксизма – прежде всего те, которые принижали значение личности в истории общества. До того, как книга вышла в свет, Бердяев выступил с публичным докладом, где изложил ее основные идеи. Доклад был настолько хорошо принят слушателями, что они устроили выступавшему настоящую овацию (на теплый прием повлияло и то, что слушатели знали о высылке докладчика в ближайшем будущем).
Тональность книги была марксистской. Бердяев критиковал социологию Михайловского именно с марксистской точки зрения. Он даже защищал позицию, что классовая точка зрения (то есть точка зрения материалистического понимания истории – марксизма) не противоречит научности: истина, писал Бердяев действительно не может быть классовой – «она логическивсегда возвышается над классами и одинаково обязательна для всех,но исторически, как известная теория, принимает классовый характер и может сделаться даже как бы монополией какого-нибудь класса. Вот почему мы смело можем сказать, что исторический материализм… логически обязателен для всякого разумного существа, но психологически доступен только одному классу» [20]20
Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. СПб., 1901. С. 53.
[Закрыть]– пролетариату. Вполне по-марксистски Бердяев признает в своей первой книге и наличие общественного прогресса в истории, направленного социального развития. В этом вопросе особенно ярко видно отличие взглядов молодого Бердяева от позиции зрелого мыслителя.
Вопрос о том, существует ли прогресс в человеческой истории, насчитывает не один век дискуссий. Можно ли считать современное общество более передовым, чем, скажем, древнегреческое? В конечном счете ответ на этот вопрос зависит от того, какие критерии прогресса мы предложим. Если таким критерием сделать, например, грамотность или среднюю продолжительность жизни, то очевидно, что наше общество выиграет спор. Если же в качестве критерия мы возьмем гармонию с природой, мораль или, например, развитие искусств, – ответ будет не столь очевиден и прост. Многие философы и историки, сторонники идеи прогресса, старались найти некий общезначимый критерий, благодаря которому можно было бы бесспорно показать поступательное развитие человечества. В качестве таких критериев французские просветители XVIII века предлагали, например, развитие человеческого разума, не поясняя, впрочем, как это развитие можно измерить и оценить, а также – какой разум имеется в виду: при сопоставлении разумных способностей Аристотеля, например, с умственным потенциалом современного «человека толпы» вряд ли выиграет последний. Марксисты за основу предлагали брать объективный момент – рост производительных сил, но и этот критерий не бесспорен: переход к новой организации общества почти всегда сопровождался в истории частичным разрушением производительных сил. К примеру, при складывании средневекового уклада хозяйства новое общество долгое время отставало от античного по производительности труда, технике, но, согласно прогрессистской теории, средневековое общество было более передовым. Таким образом, марксистский подход опять не помогал решить задачу. Современные авторы иногда пишут о степени свободы человека как критерии прогресса, но и здесь есть свои «подводные камни»: как быть с переходом от первобытного строя к рабству? Прогрессивен ли был такой переход или нет? Да и современное общество – освобождает оно человека или закрепощает по сравнению с прошлыми веками? Над решением сложной задачи продолжают размышлять и сегодня, потому что априорная уверенность в том, что прогресс существует, закладывается в человеческие головы как нечто само собой разумеющееся.
Зрелый Бердяев совсем иначе посмотрел на проблему прогресса. Прогресс? Это когда настоящее всегда приносят в жертву будущему и история пишется с точки зрения превосходства последующего поколения над предшествующим? Когда все страдания, лишения, усилия прошлых поколений рассматриваются как удобрение, как средство для достижения в будущем совершенного идеального состояния человечества? Такая позиция была моральнонедопустима для Бердяева в конце жизни. Будущее не должно пожирать настоящее и прошедшее, человек не может быть средством для своего потомка, нельзя соединить безграничный оптимизм в отношении будущего с бесконечным пессимизмом в отношении прошлого. Да и доказательств у теорий прогресса нет никаких, одни нерешенные (и неразрешимые?) вопросы. Значит, теория прогресса ложна и безнравственна, убеждал своих читателей Бердяев. «В истории нет прогресса счастья человеческого, – есть лишь трагическое, все большее и большее раскрытие внутренних начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, так и темных, как божественных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал зла. В раскрытии этих противоречий и выявлении их и заключается величайший внутренний смысл исторической судьбы человечества» [21]21
Философское миросозерцание Н. А. Бердяева (Автоизложение) / Публикация проф. А. П. Оболенского // Записки Русской Академической группы в США. Т. 29. Нью-Йорк, 1998. С. 230–231.
[Закрыть]– таков был вывод философа. Его взглядам была присуща апокалипсическая окраска: «Апокалипсис есть не только откровение о конце мира, о Страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличение неудачи истории. В нашем греховном, злом мире оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы разложения» [22]22
Бердяев Н. А, Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 107.
[Закрыть]. Двадцатипятилетний Бердяев-марксист видел проблему совсем иначе. «Все наше мировоззрение покоится на одной идее, – на идее прогресса» [23]23
Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. С. 70.
[Закрыть], – уверенно писал он. Но здесь же появились и принципиальные расхождения молодого Бердяева с догматическим марксизмом. Для ортодоксов марксистского учения очевидно, что даже нравственные оценки можно давать только с классовой точки зрения. Бердяев, для которого само участие в революционном движении имело личное нравственное обоснование, обладал в этом вопросе особой чуткостью. «Один общественный идеал выше и нравственно предпочтительнее другого, потому что за него стоит исторический процесс, потому что он прогрессивнее, он приспособленнее к требованиям социального развития; нравственность одного класса лучше и справедливее нравственности другого, потому что она жизнеспособнее, потому что ей принадлежит будущее», – излагал он марксистский подход, но соглашался с ним лишь отчасти: «…все это совершенно верно и заслуги исторического материализма в этом отношении неоценимы… Из представленной нами аргументации узнано, что данный идеал, например, идеал демократический, не только субъективно-желателен, но также объективно-необходим, что социальное развитие неизбежно приведет к его торжеству. Мне, конечно, очень важно это знать, но от этого нисколько не увеличивается этическая ценность моего идеала. Отсюда еще не следует, что он лучше, справедливее, нравственнее всякого другого идеала». Он рассматривает такой гипотетический случай: представим, что логика социального развития ведет к отвратительным для меня результатам, например, к новым, более утонченным формам эксплуатации. Согласиться с этим я не могу, даже понимая, что за этим идеалом – будущее и борьба моя против него обречена на поражение. Получается, что объективная необходимость, даже зафиксированная наукой, не может придавать бесспорной нравственной ценности всему, что ей соответствует.
Еще сильнее отличие бердяевской позиции от ортодоксального марксизма ощущалось в философских вопросах. Он попытался дать обоснование активности человека в истории, опираясь на кантовский категорический императив. Позднее он сам характеризовал свою позицию как «этизацию» марксизма. Бердяев показывал, что различие между худшим и лучшим, нравственным и безнравственным изначально, a prioriдано человеческому сознанию (то есть нравственное чувство врождено человеку), поэтому люди вносят в исторический процесс идею цели и оценивают историческое движение с этих позиций – как прогресс или регресс. Он доказывал в книге, что, хотя социальный процесс закономерен и в этом смысле непреодолим, в саму эту закономерность входит активность человека, его волевые устремления. «Социальное развитие проникнуто принципом социально-психической, а не материально-механической причинности», – замечал Бердяев, и это уже звучало не совсем по-марксистски. Человек для него выступал самоцелью, он пытался сочетать социальные выводы с философским идеалистическим их обоснованием: «этический идеализм» сочетался с революционно-демократическими положениями.
Сама манера ведения теоретической дискуссии в книге все еще была марксистской. Конечно, в отличие от Ленина Бердяев не опускался до уничижительных характеристик своего оппонента и обосновывал свое несогласие с ним в тех или иных пунктах. Тем не менее вынесение оценок «свысока» – с позиций единственно возможной объективной истины, совпадающей с интересами прогресса, с интересами пролетариата, отнесение других позиций к прошлому этапу общественной мысли, когда эта истина была недоступна, столь характерные для работ марксистов того времени, буквально сквозят в строках книги. Он признавал значение работ Михайловского для пробуждения сознания, но рассматривал их как пройденный этап. Михайловский, которому тогда не было и шестидесяти, на эту манеру обиделся и ответил: «Изо всех видов смерти самым ужасным всегда казалось мне быть заживо погребенным, умереть в гробу, в заколоченном гвоздями гробу, под толстым слоем земли, и я часто просил своих друзей каким-нибудь, хотя бы самым жестоким способом убедиться, что я действительно умер. А! Все мы там будем, в заколоченном гвоздями гробу, под толстым слоем земли, но почувствовать себя заживо погребенным и хотя бы самое короткое время тщетно биться и задыхаться, и ни для кого не слышно кричать, и с отчаянием и злобою кусать себе руки и рвать ногтями лицо – какой ужас! В такую страшную минуту не утешишься лестною мыслью о былой роли превосходного будильника мысли или предтечи таких умов, как г. Бердяев, г. Струве и другие… А г. Бердяев предоставляет мне нечто в этом роде. Правда, он полагает, что мои писания "действуют и до сих пор возбуждающим образом на мысль", но вместе с тем заживо заколачивает меня в гроб, покрытый позолотой и блестящим покровом "исторического значения". Хороша эта позолота, роскошен этот покров, завидна вся эта помпа исторического значения, гарантирующая человеку "вечную память"… когда человек действительно умер; но я согласен и на гораздо более бедные похороны… когда действительно умру. Г. Бердяев говорит обо мне в разных местах своей книги как о человеке, который не способен или не может понять то-то или то-то не по недостатку умственных способностей (их он за мной в известной мере признает), а просто потому, что он покойник, труп, равно свободный и от понимания, и от непонимания» [24]24
Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 105–106.
[Закрыть]. Надо сказать, что, когда Михайловский действительно умер, Бердяев откликнулся на его смерть статьей, в которой связал с его именем и работами «целую эпоху в истории нашей интеллигенции»: думаю, в статье была признательность человека, который испытал на себе влияние идей Михайловского и, возможно, раскаивался в некоторых оценках и фразах из своей ранней книги, которые обидели заслуженного человека. Впрочем, в 1900 году Бердяев еще не видел в своей книге ничего обидного для Михайловского, в письме к отцу он писал: «Мне кажется, что моя критика Михайловского очень объективна, беспристрастна и корректна по тону» [25]25
Письмо Н. А. Бердяева отцу, Вологда, 24 июня 1900 // Письма молодого Бердяева / Публикация Д. Барас // Память. Исторический сборник. Вып. 4. Париж: YMCA-Press, 1981. С. 216.
[Закрыть].
Позднее, уже в 1907 году, Лев Шестов справедливо отмечал, что, несмотря на критику взглядов Михайловского, бердяевская позиция в чем-то близка и родственна позиции мэтра либерального народничества: «Михайловский не знал немецкой философии и смешивал трансцендентное с трансцендентальным. Михайловский не любил метафизики. Это, конечно, так. Но ведь это, право, дело вкуса… И, пожалуй, слова "мы переросли его" менее всего подходят» [26]26
Шестов Л. И. Похвала глупости. По поводу книги Николая Бердяева // Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 209.
[Закрыть]. И Михайловского, и Бердяева роднил поиск не просто истины, а правды,стремление к изменению мира, понимание идеала не как отвлеченной конструкции, а как плана действий. В этом смысле работы Михайловского были для Бердяева отправной точкой для формулирования собственной политической позиции.
Книга Бердяева была замечена, о ней говорили, ее обсуждали. Ленину, прочитавшему ее, она чрезвычайно не понравилась. По сути, Бердяев предпринял попытку реформирования марксизма. С самого начала он чувствовал всю недостаточность материализма как философской системы, для него было очевидно теоретическое превосходство Канта и Гегеля над Фейербахом и Энгельсом и, начав с поисков для социального учения Маркса иной философской основы, он постепенно отошел от марксизма, хотя и сохранил сочувствие к марксистской социальной программе. Книга была своеобразной критикой марксизма в кантовском духе: добро, истина, красота не зависят ни от каких социальных условий, они априорны, не определяются практикой, а являются достоянием этического сознания. В то же время Бердяев попытался обосновать идею исторического предназначения пролетариата и неизбежности социализма, опираясь именно на этические ценности. В этом смысле данная работа Бердяева стала «памятником переходного периода» [27]27
Так назвал книгу Бердяева В. Зеньковский в своей «Истории русской философии». (См.: Зеньковский В. История русской философии. Т. 2. 2-е изд. Paris: YMCA-Press, 1989. С. 299.)
[Закрыть]. Правда, к моменту выхода книги в свет Бердяев уже начал догадываться о невозможности «исправления» марксизма, вылитого, как совершенно верно сказал Ленин, «из одного куска стали» – ни прибавить, ни убавить.
К моменту, когда книга была закончена, разбирательство дела социал-демократического комитета было завершено. Жандармский генерал сказал Бердяеву, что из изъятых при обыске бумаг следует, что юноша стремился к низвержению государства, церкви, собственности и семьи. По высочайшему повелению Бердяев был выслан на три года в ссылку под гласный надзор полиции – в Вологодскую губернию, которую тогда часто называли «подстоличной Сибирью». Туда же было сослано большинство социал-демократов, арестованных вместе с Бердяевым. Впрочем, некоторые из них попали и в настоящую Сибирь.
Глава третья. Ссылка: «Мир освобожденной индивидуальности»
Кто смолоду не был социалистом, в старости будет мерзавцем.
Ж. Клемансо
«Один из старых северных русских городов, где все уже по-русскому: и речь русская старого уклада, и собор златоверхий белокаменный, и тротуары деревянные, и, хотя ты тресни, толку нигде никакого не добиться» [28]28
Куда мы идем? Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств. Сборник статей и ответов. М.: Заря, 1910. С. 109–111.
[Закрыть], – описывал Вологду А. М. Ремизов. Небольшой городок, ровесник Москвы, славящийся своими кружевами, маслом и кремлем XVI века стал типичным местом ссылки. Кого туда только не ссылали! Вологда даже дважды была местом ссылки Сталина. Всего до революции 1917 года там побывало около 10 тысяч ссыльных (не считая транзитных этапов на Север), так что в этом отношении Вологодская губерния уступала только Сибири. К началу 1901 года количество ссыльных в губернии достигло трех тысяч человек, значительная их часть оседала в городах: в самой Вологде было 170 ссыльных, в Великом Устюге и того больше – 237 [29]29
Осъминский Т. И., Озеринин М. В., Брусенский И. И. Очерки по истории края. Вологда, 1960. С. 215.
[Закрыть]. Ссылалась, как правило, политически неблагонадежная интеллигенция, «концентрация» которой была чрезвычайно велика для тихого провинциального городка.
Можно было бы ожидать, что в окружении других ссыльных революционеров марксизм Бердяева окрепнет. Этого не произошло. Наоборот, именно на время ссылки приходится его отход от марксистского движения. Это было неизбежно для такого индивидуалиста, как Бердяев: ссыльные жили замкнутой группой, вопросы поведения в тех или иных ситуациях решали, как правило, сообща – дисциплина среди них была вполне «партийная». В этой связи характерен забавный эпизод, связанный с приездом Бердяева в Вологду. Среди ссыльных возник спор о том, надо ли подавать руку при встрече полицмейстеру. Вопрос этот хотели решить коллективно, чтобы держаться общей для всех линии поведения. Бердяев, которому сам предмет спора показался довольно глупым, настоял тем не менее на том, что манера здороваться – это сугубо личное дело и никаким общим предписаниям он следовать не будет. Дело было не в том, что Бердяеву очень хотелось или, наоборот, не хотелось пожать руку полицмейстеру, просто он считал себя свободной личностью, не нуждающейся в опеке коллектива и способной принимать решения самостоятельно. Для российских же революционеров того времени (а возможно, всех времен и народов) была характерна буквально военная дисциплина, за что Бердяев не раз обвинял их в «авторитарности».
9 мая 1900 года Бердяев и еще одна ссыльная семья – Павел Лукич и Вера Григорьевна Тучапские (оба были членами Киевского Союза борьбы за освобождение рабочего класса) – прибыли на бревенчатый вологодский вокзал. Вначале Бердяев остановился в гостинице «Золотой якорь» – лучшей в городе. Четырехэтажная гостиница сохранилась в Вологде до нашего времени, хотя сегодня отсутствие в номерах душа и туалета («удобства на этаже») вряд ли компенсируются для постояльцев исторической атмосферой. Гостиничная жизнь была по карману отнюдь не всем ссыльным, но Бердяев мог ее себе позволить. В письмах родителям он, успокаивая их, описывал свой быт, хвалил гостиничную кухню, просил прислать ему некоторые книги из домашней библиотеки. Книги ему прислали, а также и любимое кресло, чтобы Николаю было удобнее работать. Сын писал о том, что ведет спокойную, размеренную жизнь, зарабатывает переводами, пишет статьи. В одном из его писем отцу есть удивительное для современного читателя место. Уговаривая родителей не беспокоиться о нем, Николай писал: «Нервно и физически чувствую себя хорошо, так как веду очень правильный образ жизни, очень спокойный, вытираюсь каждое утро свежей водой и принимаю мышьяк» [30]30
Письмо Н. А. Бердяева отцу, Вологда, 24 июня 1900 // Письма молодого Бердяева. С. 213.
[Закрыть]. Сегодня мышьяк воспринимается прежде всего как токсичное вещество, он фигурирует во множестве детективных романов как орудие преступления, с ним работают только с соблюдением правил предосторожности. А в то время малые дозы этого яда часто использовали для лечения малокровия. Видимо, именно поэтому принимал мышьяк и Бердяев. Сто с лишним лет спустя трудно сказать, как это повлияло на его здоровье, но вряд ли попадание мышьяка в организм способствовало его укреплению…
Несмотря на частые успокаивающие письма, родители все равно волновались: Александр Михайлович не выдержал и приехал на несколько дней в Вологду, чтобы своими глазами увидеть новую жизнь сына. Хотя увиденное успокоило его, хлопотать о переводе сына на юг родители все же не перестали. Их старания не были напрасными: благодаря заступничеству своего крестного отца, светлейшего князя Н. П. Лопухина-Демидова, ссыльный Бердяев спустя уже пару месяцев получил разрешение перебраться в какой-либо неуниверситетский город на юге России по своему выбору. Николай отказался от заманчивого предложения: он считал морально недопустимым пользоваться преимуществами своего происхождения и связями, которых не было у других ссыльных. К тому же, как он вспоминал позднее, ему даже понравилась Вологда. Были, видимо, у 26-летнего Николая и другие причины, на которые он намекал в письме отцу: «У меня есть своя личная жизнь и могут быть чисто личные основания, по которым я хочу быть теперь в Вологде, это может быть необходимо для моего личного счастья» [31]31
Письмо Н. А. Бердяева отцу, Вологда, 30 июня 1900 // Там же. С. 214.
[Закрыть].
Некоторое время спустя Бердяев переехал в дом Гусевой на улице Калашной (переименованной сейчас в улицу Гоголя). Это был красивый особняк с резными балконами на фасаде, к сожалению, сгоревший в 1993 году (хотя и имел статус памятника архитектуры республиканского значения). Его дом вскоре стал своеобразным культурным центром для других ссыльных. Большинство ссыльных довольствовались дешевыми съемными комнатами, поэтому комфортное и просторное жилье Николая, которое выгодно отличалось от их обиталищ, представлялось более удобным для совместных встреч. Вологодским губернатором был в то время дальний родственник Бердяева, что отчасти ставило его в привилегированное положение, хотя сам Бердяев не хотел пользоваться какими-либо льготами по сравнению с другими ссыльными. Тем не менее иногда это происходило даже помимо его воли. Широко известен случай, о котором вспоминал и сам Бердяев в своей автобиографии: однажды он побил палкой чиновника Губернского правления за то, что тот попробовал завести уличное знакомство с его приятельницей, причем Бердяев кричал ему при этом: «Завтра вы будете уволены!» Сам Бердяев приводил потом этот случай как комическую иллюстрацию того, как в нем может взыграть кавалергардская кровь аристократических предков. Но наказания за такой вопиющий проступок не последовало – думаю, сказались связи бердяевской семьи с генерал-губернатором.
В ссылке Бердяев купил велосипед и часто совершал на нем прогулки – к Спасо-Прилуцкому монастырю или в деревню Фрязиново, летом катался на лодке, ловил рыбу. Он любил читать книги в городском саду, стал завсегдатаем публичной городской библиотеки, не избегал женского общества. Сам он позднее писал, что «был особенно дружен с ссыльной В. Д., очень умной и образованной женщиной, настоящим философом» [32]32
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 120.
[Закрыть]. За этими инициалами скрывалась Вера Дениш, народница, член организации «Народное право», которая попала в Вологду после ссылки в Сольвычегодске и Великом Устюге. Но главным содержанием вологодского времени для Бердяева стали, конечно, не велосипедные прогулки, а выработка нового философского миросозерцания.
Именно во время вологодской ссылки первая книга Бердяева увидела свет. Вышла и его статья «Борьба за идеализм» в журнале «Мир Божий». Эти работы вызвали немало споров в кружке вологодских ссыльных. Бердяев показывал, что само по себе экономическое развитие не может привести к созданию того идеала, который наполняет человеческую жизнь смыслом. Он использовал в статье аллегорический образ башни из драмы любимого им Ибсена «Строитель Сольнес»: человеческий мир возможен лишь при наличии великой идеи построения жилищ с высокой башней наверху. Чтобы преодолеть «роковую раздвоенность» между абсолютной ценностью чело-сческой личности и относительной исторической обстановки, надо, по его мнению, сознательно соединить «теоретически обоснованный идеализм» с «прогрессивными социальными стремлениями» [33]33
Бердяев Н. А. Борьба за идеализм // Мир Божий. 1901. Июнь. С. 21.
[Закрыть].
Николай Александрович несколько раз выступал перед своими товарищами «с рефератами». Среди ссыльных были обычны горячие дискуссии на философские, социологические литературные темы, обсуждения и диспуты. «В 1900 году в Вологду хлынула большая волна ссыльных, – можно прочесть в воспоминаниях коренного вологжанина и марксиста И. Е. Ермолаева. – Началась эпоха докладов или, как это тогда чаще называлось, рефератов… Публика собиралась на эти доклады по 50–60 человек» [34]34
Ермолаев И. Е. Мои воспоминания. Вологда: Север, 1923. Кн. 3/4. С 4.
[Закрыть]. В Вологде в это время отбывали срок своей ссылки многие яркие и известные люди: А. А. Богданов – философ, экономист и врач, изобретатель «тектологии», организовавший позднее, в 1926 году, первый Институт переливания крови и погибший, проводя на себе опыт; упоминавшийся уже А. В. Луначарский; известный в будущем эсер-террорист и писатель, автор ненаписанного еще тогда «Коня бледного» В. Савинков; философ, социолог и правовед Б. А. Кистяковский, приехавший в Вологду вместе с женой; писатель А.М. Ремизов, имевший в то время репутацию «наследника Ф.М. Достоевского» и – о чем сегодня мало кто помнит – активный революционер, проведший в ссылках около шести лет своей жизни; известный в будущем советский историк и пушкинист П. Е. Щеголев; писатель и член боевой организации эсеров И. П. Каляев и другие ссыльнопоселенцы. В своих мемуарах Ремизов писал: «Все книги, выходившие в России, в первую голову посылались в Вологду, и не в книжный магазин Тарутина, а к тому же Щеголеву. И было известно все, что творится на белом свете: из Арзамаса писал Горький, из Полтавы – Короленко, из Петербурга – Д. В. Философов, он высылал Мир искусства", А. А. Шахматов, П. Б. Струве, Д. Е. Жуковский и из Москвы – В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис и Леонид Андреев. Между Парижем, Цюрихом, Женевой и Вологдой был подлинно „прямой провод“» [35]35
Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти // Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 17. Л. 101.
[Закрыть]. Щеголев, например, работал тогда над биографией Гоголя и нуждался в постоянном доступе к архивным документам, что было проблемой (ему нельзя было покидать Вологду). Говорят, друзья присылали ему копии архивных документов целыми тюками и ящиками, за что Щеголев заслужил прозвище «Архивный Фонд». В Вологде ссыльные устраивали не только обсуждения теоретических рефератов, но литературные и музыкальные вечера, лекции – интеллектуальная жизнь кипела! Это дало основание А. М. Ремизову назвать Вологду «Северными Афинами». Название прижилось, оно обыгрывалось ссыльными в повседневной жизни: например, городские Веденеевские бани назывались античными термами, простыни, обернутые вокруг тел парильщиков, выполняли роль хитонов, а в перерывах между заходами в парилку велись литературно-философские дебаты. После бани обычно шли на берег реки – там совершалось «торжественное омовение». Причем в холодную погоду купались только самые смелые – Павел Щеголев, который обладал богатырским телосложением и занимался спортом, и болезненный Николай Бердяев.
Среди ссыльных существовало и «тайное» литературно-философское общество, организованное Ремизовым. Оно было продолжением того общества, которое Алексей Михайлович организовал до Вологды в своей пензенской ссылке. В Вологде он преобразовал общество в «Ассоциацию», название которой скрывалось за неразгаданной современными исследователями аббревиатурой – С. С. А. Ассоциация эта носила шутливый характер. Например, ею выдавались «подорожия»: накануне отъезда те, чей срок ссылки истекал, устраивали прощальный вечер. Для этого вечера Ремизов заготавливал каждому напутствие, своеобразный «некролог» – «подорожие», который имел вид старинного свитка и писался с закорючками и завитушками, сопровождался рисунками и карикатурами (Ремизов прекрасно рисовал). Зачитывал свитки обычно Щеголев, обладавший артистическим даром. Позднее, в 1908 году, из С. С. А. родилась ремизовская Обезьянья Великая и Вольная Палата, просуществовавшая не одно десятилетие. Во главе Обезвелволпаластоял обезьяний царь Асыка, а сам Ремизов был при Асыке «забеглым политическим комиссаром» и «канцеляристом» и потому выдавал от лица царя своим друзьям и знакомым особые обезьяньи грамоты, титулы, ордена, разрисовывая их фантастическими закавыками и снабжая их «собственно-хвостными» подписями Асыки. Шутка, легкая мистификация со временем стала обществом единомышленников – ведь кавалером Обезвелволпала мог стать не каждый, обезьяньи грамоты вручались друзьям, родственным душам. Известный философ Иван Александрович Ильин писал, что «обезьяний миф» – это и литературный кружок, и сатира на нигилизм революционной интеллигенции, и игра взрослых людей в воображаемое и нисколько не осуществляющееся обновление мира в сторону «природы», «естественности» и «свободы» [36]36
Ильин И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев. Мюнхен, 1959. С. 103.
[Закрыть]. В орбиту этой игры были вовлечены в разное время десятки известных людей: Горький, Цветаева, Ахматова, Блок, Гумилев, Бунин, Зайцев, Шмелев, Шестов, Святополк-Мирский, Струве [37]37
См.: Обатнина Е. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.
[Закрыть]. Был «кавалером обезьяньего знака» и Николай Бердяев.
Бердяев не только многое почерпнул из общения с этими неординарными людьми, он прошел во время своей ссылки настоящую школу полемической борьбы. Ленин, внимательно следивший за полемическими схватками в вологодской ссылке, писал: «Из Вологды (где сидят Бердяев и Богданов) сообщают, что ссыльные там усердно спорят о философии, и Бердяев, как наиболее "знающий", побеждает, по-видимому, их». Богданов подтвердил это в 1927 году в своем ответе на запрос Института Ленина о его вологодской ссылке: «Я приехал туда в начале 1901 года и нашел там несколько десятков ссыльных, в числе их группу киевлян с Бердяевым, как теоретиком, во главе (В. Г. Крыжановская [38]38
По мужу – В. Г. Тучапская.
[Закрыть], П. Л. Тучапский, Б. Э. Шен, позже Н. К. Мукалов [39]39
Друг детства, Николай Константинович Мукалов, похлопотать о котором Бердяев не раз просил своих родителей в письмах из ссылки, тоже был сослан на три года в Вологодскую губернию, в город Яренск. Благодаря заботам семьи Бердяевых он был переведен в Вологду в 1901 году и работал там по специальности – штурманом на пароходе.
[Закрыть]и др.)…Затем я сделал ряд докладов об историческом материализме… Бердяев обычно оппонировал; он был тогда хороший оратор (лучше нас), но по научным знаниям стоял не высоко, а в философии хорошо знал лишь неокантианские школы (лучше нас), отнюдь не позитивные (попадал в неловкое положение по поводу Авенариуса и Maxa)… В 1902 году приехал Луначарский и стал сразу резко полемически выступать против Бердяева, которого уже тогда превосходил как оратор. К Бердяеву же присоединился союзник, гораздо более ученый, но мало талантливый, Богдан А. Кистяковский. Полемика перешла и в журналы…» [40]40
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 259. Оп. 1, Д. 4. Л. 1–4. Автограф.
[Закрыть]Оценка Богданова, хоть и даваемая в определенной идеологической атмосфере, а потому не совсем объективная, все же ценна тем, что подтверждает наличие различных «лагерей» среди ссыльных и горячие споры между ними.