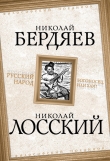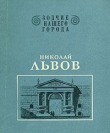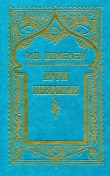Текст книги "Бердяев"
Автор книги: Ольга Волкогонова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Критику интеллигенции продолжил Семен Людвигович Франк. Их можно было бы назвать с Бердяевым друзьями, но, как в конце жизни писал сам Бердяев, это слово не совсем подходило к его кругу общения: Бердяев всегда держал некоторую дистанцию по отношению к тем, с кем его сталкивала жизнь. Если у него и были друзья, то это были женщины, а не мужчины (Вера Дениш, Зинаида Гиппиус, Евгения Рапп, Евгения Герцык, другие) – возможно, в силу их большей эмоциональности, которая была присуща и Бердяеву. Тем не менее именно Франк и Булгаков были людьми, с которыми связаны многие события в жизни Бердяева. Семен Людвигович тоже эволюционировал от марксизма к либерализму и православию, тоже прошел через преследования как царских властей, так и большевиков. Эмигрантская судьба Франка началась с «философского парохода», на котором они оказались вместе с Бердяевым. Не только в России, но и в эмиграции их жизни шли рядом, они общались, переписывались, иногда остро и непримиримо спорили. В последней размолвке – когда Бердяев в конце Второй мировой войны поверил, что советская власть изменилась, и поддержал движение за возвращение эмигрантов домой, а Франк твердил, что тирания в России жива, – Франк был прав… В «Вехах» эти две яркие фигуры русской культуры прошлого века оказались рядом.
Как будто развивая мысль Булгакова, Франк в своей статье «Этика нигилизма» показал противоречие между религиозно-абсолютистским характером интеллигентской веры и общепринятым в интеллигентской среде нигилизмом и атеизмом. «Символ веры русского интеллигента есть благо народа,удовлетворение нужд «большинства». Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того – то от лукавого. Именно потому, – утверждал Франк, – он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей – он даже прямо боится и ненавидит их» [148]148
Франк С. Л. Этика нигилизма // Там же. С. 183.
[Закрыть]. Отсюда, как показал Франк, вытекало отрицание абсолютной морали и подчинение нравственности безнравственной идее «коллективной пользы». Очевидно, что от этой идеи – всего один шаг к принесению в жертву «коллективу» личной свободы и независимости. Вывод статьи звучал в унисон с выводами других авторов: надо заменить «нигилистический морализм» религиозным гуманизмом. Статья Франка не случайно была последней в сборнике: она как будто подводила его итог. Семен Людвигович дал обобщенную формулу интеллигента, определив его как «воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия». Именно поэтому историческую миссию русской интеллигенции он сформулировал как построение новой системы духовных ценностей.
Таким образом, авторы сборника были едины в том, что корень многих бед русской интеллигенции – в ее отрыве от религии и замене абсолютных моральных ценностей культом абстрактного «народа-страдальца». Они выступали против радикалистского революционизма интеллигенции, а вместе с тем и против всей старой традиционной системы ее ценностей. Совпадение тональности статей можно считать явным доказательством того, что позиция авторов выражала определенное течение в русской мысли того времени. Подтверждал это и сенсационный успех сборника. Веховцы предложили новую модель политической культуры российской интеллигенции, при которой собственно политика отодвигалась на второе место, а важнейшей миссией интеллигенции становилось творческое созидание, духовное развитие человека.
Вместе с тем, как уже говорилось выше, «Вехи» вызвали волну острой критики, что означало отсутствие единомыслия в интеллигентской среде. Сборник критиковали не только явные противники, которые могли узнать свой портрет в веховских статьях, но и «соратники»: резким критиком сборника стал, например, Дмитрий Сергеевич Мережковский. Отчуждение между Бердяевым и четой Мережковских становилось все более явным. Показателем вектора развития их отношений является тот факт, что, живя в эмиграции в одном городе – Париже, – Мережковские и Бердяевы не общались. Николай Александрович писал: «После сравнительно короткого периода очень интенсивного общения, а с 3. Н. Гиппиус и настоящей дружбы, мы большую часть жизни враждовали и, в конце концов, потеряли возможность встречаться и разговаривать. Это печально» [149]149
Бердяев Н. А. Самопознание.
[Закрыть].
Мережковский обвинял авторов «Вех» в антиреволюционности. В годы революции 1905 года позиция Мережковских (в отличие от позиции того же Бердяева) была достаточно радикальной. Этим объяснялось и присутствие в их салоне эсеров и «неонародников», – они считали, что революция не только не противоречит христианству и религиозным взглядам, но, напротив, вытекает из них. С точки зрения Гиппиус и Мережковского, существует два основных подхода к интерпретации исторических событий – эволюционный(научный), когда утверждается бесконечность и непрерывность развития, ненарушимость закона причинности, и революционный(прерывистый), когда налицо преодоление внешнего закона причинности внутренней свободой, а история предстает как цепь катастроф и потрясений [150]150
См.: Мережковский Д. С. Семь смиренных // Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. 15. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1914.
[Закрыть]. Библия, по их мнению, дает именно катастрофическую картину человеческой истории (изгнание из Эдема, великий потоп, разрушение вавилонской башни, апокалипсис и т. д.). Значит, делали они вывод, религия и революция – неразделимые понятия. Здесь их позиция принципиально отличалась от позиции авторов «Вех». Мережковский был зареволюцию, а не против нее. Более того, он пытался доказать, что революция и религия – понятия чуть ли не синонимичные, что нельзя быть верующим человеком и не мечтать о революционном изменении мира. Правда, здесь надо сделать одну чрезвычайно важную оговорку: речь шла о революции духовной, но не политической. Разница огромная! Получалось, что Мережковский и «веховцы» говорили о разных вещах – «революционер» Мережковский мечтал о духовном перевороте, а авторы сборника отмежевывались от политического насилия. 21 апреля 1909 года в Петербургском Религиозно-философском обществе состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению сборника. Заседание прошло при полном аншлаге: «Небольшой зал был, конечно, переполнен, стояли в проходах, сгрудились на эстраде, толпились во всех соседних комнатах. На эстраде до того тесно, что Петр Струве и свящ. Аггеев, держась друг за друга, сидят на одном стуле» [151]151
Цит. по: Коростылев Р. А., Ермишин О. Г. Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): Вехи истории, тематика заседаний, дискуссии // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907–1917. Т. 1. С. 7.
[Закрыть]. Доклад «Опять об интеллигенции и народе» делал Мережковский. Он обвинил авторов сборника в ненависти к русской интеллигенции, сам же безоговорочно встал на защиту ее революционных чаяний.
– Тяжело говорить горькую правду о близких людях. Между участниками «Вех» есть люди мне близкие, – так он начал свое выступление. Закончил же вполне в духе публичных митингов:
– Да здравствует русская интеллигенция, да здравствует русское освобождение!
Прения были жаркими. Позицию веховцев защищали Струве и Франк. Струве спорил с Мережковским, находил противоречия в его построениях, обвинял в том, что идея «Вех» была понята им превратно, но главным тезисом его выступления стало признание того факта, что отнюдь не презрением и ненавистью к интеллигенции был продиктован сборник, наоборот, искреннее уважение к этому явлению российской жизни заставило авторов выступить с критикой, не скрывать и не прятать своих взглядов. Франк тоже довольно резко возражал Мережковскому. Он попытался показать (и, думаю, его замечания были вполне справедливы), что взгляды Мережковского и взгляды «веховцев» имеют много общего, – прежде всего речь шла о необходимости отказа от «ходячего атеистического мировоззрения». Показательно, что Мережковский не захотел увидеть того, что объединяло его с авторами сборника, но встал на позицию наиболее резкого их критика. Думаю, свою роль здесь сыграл и разрыв в отношениях с Бердяевым.
Большинство участников заседания РФО 21 апреля не поддержали авторов «Вех». Тем не менее сборник и сегодня читается, комментируется, интерпретируется. Думаю, можно говорить по меньшей мере о двух моментах, обусловливающих вековую популярность «Вех». Во-первых, предупреждения «Вех» гораздо понятнее для нас сегодняшних, чем для живших в предзакатной императорской России. Пережившее XX век человечество уже не понаслышке знает о многочисленных социальных «экспериментах» по воплощению утопических идей и их страшных результатах. Тогда же, накануне потрясений и изменений, революционный романтизм был чем-то самим собою разумеющимся. Поэтому позиция авторов сборника требовала не только пророческого дара, но и интеллектуального мужества – противостоять общепринятой в интеллигентской среде позиции было тяжело. Впрочем, не менее важно для сегодняшнего дня то, что в «Вехах» изменилась сама направленность критики. Мы до сих пор в своих общественных взглядах привычным образом отталкиваемся от критики наличной социальной действительности. «Вехи» – редкий пример того, как критика «среды» в России перестала быть ведущим настроением, но стала самокритикой. «Вехи» пытались показать, что интеллигентское сознание требует радикальной реформы. Без критического отношения к своим идеям и поступкам, без любви к истине самой по себе, независимо от того, «на руку» она политическим требованиям дня или нет, без поисков этой истины невозможно культурное творчество.
Во-вторых, в «Вехах» самоанализ интеллигенции стал политической философией. Сборник – не только самокритика, но и наброски позитивной программы. Программа эта имеет имя: либеральный консерватизм, причем она до сих пор не реализована в России.
Само словосочетание «либеральный консерватизм» многим кажется оксюмороном – чем-то вроде «горячего льда». Разумеется, исторически консерватизм и либерализм развивались как очень разные типы идеологии, но с течением времени они эволюционировали. Взаимодополнительность консерватизма и либерализма объясняется не столько заимствованиями, «подправлением» нетипичного для русского общества либерализма традиционным консерватизмом, сколько природой этих политических и интеллектуальных явлений. Пафос дистанции между либерализмом и консерватизмом с ходом истории постепенно теряется прежде всего потому, что сам консерватизм меняется: в связи с тем, что в развитых странах господствует индивидуализм (вполне соответствующий рыночным отношениям), происходит своеобразное приспособление консерватизма к либеральным принципам. «Охранительный» консерватизм status quo,представленный в XVIII веке Гегелем, Берком, Новалисом, в XIX и тем более в XX и XXI столетиях, не может не впитать в себя определенные либеральные принципы, если он выполняет функции консервации существующих общественных форм. К таким принципам можно отнести примат правовых средств над насильственными для решения социальных вопросов, признание неотъемлемых прав личности и т. п. Неоконсерватизм – не только критик, но и наследник классического либерализма. На смену консерватизму сегодня пришел неоконсерватизм, на смену классическому (прежде всего экономическому) либерализму – неолиберализм социальной направленности, разница между ними уже не столь очевидна, и либеральный консерватизм стал одним из мостов между ними.
После распада СССР интеллигенция на постсоветском пространстве увлеклась радикальным либерализмом. В России, где инерционное по своей природе массовое сознание отнюдь не стало в одночасье либеральным, это привело к повторению ситуации интеллигентской замкнутости, о которой говорилось еще в «Вехах». В таких условиях, сочетающих верхушечный либерализм элит и мощнейшие архаичные консервативные почвенные пласты, общество решилось на радикальный революционный прорыв 90-х годов, обернувшийся, как известно, вовсе не тем, о чем мечтали либералы. В результате либерализм оказался дискредитированным в глазах общества. (Впрочем, в России слово «консерватор» всегда звучало более благородно и почтенно.) Поэтому либеральный консерватизм, как соответствующий нелиберальности, консерватизму широких слоев, но ослабленный, смягченный либеральными элементами, – наверное, единственный тип массовой либеральной идеологии, который по-прежнему стоит на повестке дня в России XXI века.
Часть третья. «Твори, не то погибнешь!»
Глава девятая. «Верующий вольнодумец»
Философ неверующий есть существо с очень суженным опытом и горизонтом, сознание его закрыто для целых миров.
Н. Бердяев
В московскую жизнь Бердяева прочно вошла Евгения Казимировна Герцык (1878–1944). Сестры Герцык оставили свой след в эпохе духовного ренессанса рубежа веков. И речь идет не только о публикации их переводов (обе сестры, в частности, переводили работы Ницше) и статей, не только о стихах Аделаиды Казимировны, о дружбе со многими выдающимися людьми того времени (одно перечисление имен впечатляет – Лев Шестов, Сергей Булгаков, Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал, Максимилиан Волошин, Маргарита Сабашникова, Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Валерий Брюсов, Софья Парнок, Михаил Гершензон, Иван Ильин, Алексей Ремизов, Федор Степун и многие другие!), но и о книге воспоминаний, оставленной Евгенией Герцык, где она нарисовала живые портреты близких ей людей, об их многочисленных письмах, публикация которых помогла по-новому понять атмосферу начала прошлого века. Старшая из сестер, Аделаида, вышла в 1909 году замуж за издателя Дмитрия Евгеньевича Жуковского – того самого, который издавал журнал «Вопросы жизни», поэтому Бердяев с этой семьей был связан несколькими «ниточками», а сестер знал еще по своей петербургской жизни.
Евгения Герцык стала частым гостем сначала в снятых Бердяевыми меблированных комнатах, затем – в квартире в Арбатских переулках. Она вспоминала Бердяева, в то время: «…Всегда острое безденежье – но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг – тонкий дух сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина» [152]152
Герцык Е. К Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973. С. 120. (См. также: Герцык Е. К. Лики и образы. М.: Мол. гвардия, 2007.)
[Закрыть]. Совсем иначе описывал обстановку в московской квартире Бердяева Андрей Белый: «У себя на дому он (Бердяев. – О. В.)всегда отступал перед собраньем возбужденных и экстатических дам, предводительствуемых двумя особами, совершенно несносными; супруга, Лидия Юдифовна, черная и востроносая, с бестактным нахрапом кричавшая и ваш вопрос, обращенный к Бердяеву, перехватывавшая; Лидия Юдифовна порой не позволяла вымолвить ни слова: «Подожди, Ни, я отвечу!» Если вам удавалось избежать одной фурии, вы попадали к другой, цепко-несносной (у Бердяевых жила и сестра Лидии, Евгения Юдифовна Рапп. – О. В.):«Подождите же, Ни! Дело в том, Ни, что ему следует рассказать…» – и начинались потоки дотошных словечек, напоминавших падение дождевых капелек: «Т-т-т-т-т-т»; оставалось вздохнуть, схватить шляпу и – прочь из этого суматошного, дотошного, переполненного дамским экстазом дома, потому что вслед за двумя неудобными хозяйками поднималась толпа их подруг, родственниц, чтительниц… благотворительниц, патронесс… Бердяев же… с грустной улыбкой томно отмахивался, подергивая головою и пальцами, пытаясь что-то противопоставить свое: «Ну, это вы слишком… В сущности, это совсем и не так…» – и беспомощно он помахивал лишь рукою» [153]153
Белый А. Между двух революций. С. 415.
[Закрыть].
Есть и другое свидетельство Белого, тональность которого такая же, но Лидия Юдифовна и Евгения Юдифовна названы уже не «несносными», а «интересными» и «талантливыми» (попробуй тут разберись, какими они были на самом деле!): «Грустно-приветливый и очень хлебосольный, являлся воссиживать милым каким-то сатрапом на красное кресло из тихого кабинета, где только что быстро скрипевшим пером он (Бердяев. – О. В.)прокалывал Д. Мережковского в бойком своем фельетоне для «Утра России»',после боя чернильного с нами он ужинал, тихий, усталый, предоставляя всегда интересным, словоохотливым и талантливым Л. Ю. Бердяевой и сестре ее всю монополию мира идей; и внимал нам с сигарой во рту.
В его доме было много народу; особенно много стекалось сюда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от разговора с хозяином; скажешь словечко ему, ждешь ответа его, но уж мчится стремительно громкая стая словесности дамской, раскрамсывая все слова, не давая возможности Н. А. Бердяеву планомерно ответить; да, да: было много идейных вакханок вокруг «бердяизма»ты, скажешь, бывало, – то, это: «бердяинки»же поднимают ужаснейший гвалт:
– Что сказали Вы?
– Да!
– Нет!
– То – это!
– Неправда же: это есть то.
И – прикусишь язык; и Бердяев прикусит язык; и останется: встать и уйти. Так слова разбивались словами «бердяинок»;тело живой сочной мысли, кроваво разъятое оргией мысли, рубилось на мелкие части; и далее: приготовлялись «котлеты'»бердяевских мнений; и дамы кормились «котлетами» этими, потчуя всех посетителей ими; от этих «котлет» уходил; и бывали периоды даже, когда я подолгу не шел на квартиру Бердяева, зная беспрокость общения с ним» [154]154
Белый А. Центральная станция // Н. А. Бердяев: pro et contra. С. 62–63.
[Закрыть]. Белый писал, что сам Бердяев ему был симпатичен, но «бердяинки» раздражали.
В Москве Николай Александрович переживал период церковного «обращения»: «Совсем недавний христианин, в Москве Бердяев искал сближения с… подлинной и народной жизнью Церкви, – вспоминала Герцык. – Помню его в долгие великопостные службы в какой-то церкви в Зарядье, где умный и суровый священник сумел привлечь необычных прихожан – фабричных рабочих. Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости. Стоя крепко на том, что умаление в чем бы то ни было не может быть истиной, быть во славу Божию, он утверждает мощь и бытийственность мысли, борется за нее… Душно, лампадно с ним никогда не было» [155]155
Герцык Е. К. Воспоминания. С. 120.
[Закрыть].
Действительно, «лампадно» быть не могло – христианство Бердяева было трагично и мучительно. («Моя внутренняя религиозная жизнь складывалась мучительно, и моменты незамутненной радости были сравнительно редки. Не только оставался непреодоленным трагический элемент, но трагическое я переживал как религиозный феномен по преимуществу» [156]156
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 170.
[Закрыть].) Он остро ощущал свою греховность, не раз задавал себе непростые допросы о человеческой (значит, и своей) судьбе до и после смерти. В одном из писем Шестову начала 1924 года он писал: «…Напрасно вы думаете, что состояние верующего не трагично, а трагично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий бблыиим рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, а неверующий рискует только проиграть несколько десятилетий, что не так уж трагично и страшно» [157]157
Н. Бердяев и Л. Шестов. Переписка и воспоминания / Публ. Н. Барановой-Шестовой // Континент. № 30. Париж, 1981. С. 300.
[Закрыть]. Его душа порой была «истерзана… религиозной жизнью», хотя в печатных работах Бердяев редко обнаруживал противоречия своего личного опыта.
К тому же Бердяев так и не смог слиться с православным другом, «воцерковиться». Он и сам это признавал, поэтому попытки сделать из него проповедника православия, которые встречаются подчас в «бердяеведении», вряд ли оправданны. Отдать свою волю под чье бы то ни было руководство, водительство было для него невозможно. Сам он писал: «Я вполне готов каяться в своих многочисленных грехах и в этом согласен был смириться. Но я не мог смирить своих исканий нового духа, своего познания, своего свободолюбия. Одно время я довольно много читал аскетических духовных книг типа "Добротолюбия". В них можно найти, конечно, некоторые элементарные и бесспорные истины. Но у меня всегда оставалось чувство унижения человека, отрицания всякого творческого порыва и подъема» [158]158
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 176.
[Закрыть]. Как раньше Бердяеву было «душно» в среде революционеров, сузивших свои жизни до одной цели и подчиняющихся строгой партийной дисциплине, так и сейчас его движение в сторону православных кругов было недолгим, через несколько лет сменилось отталкиванием – Бердяеву стало «душно». В конце жизни он писал о себе: «Я не верю в существование единой, целостной ортодоксии, в которую можно было бы обратиться. Я не богослов, моя постановка проблем, мое решение этих проблем совсем не богословские. Я представитель свободной религиозной философии». Уже в 1909 году Евгения Герцык в одном из своих писем Вяч. Иванову писала о сложностях Бердяева: «Он говорил и о своих колебаниях, о безысходности, к которой подходит, и с болью признавался, что не знает, не видит иного пути, как маленькая церковь в большой церкви, мистическое братство, общение, и только умильно как бы просил подождать, дать ему „побыть некоторое время просто хорошим христианином“. Ему очень нелегко это признание при его инстинктивной ненависти ко всему, что может иметь уклон к сектантству, и при его жажде вселенскости» [159]159
Сестры Герцык. Письма С. 572.
[Закрыть]. Идея «маленькой церкви», возмущавшая Бердяева у Мережковских, все же засела у него в голове… «Братства» тоже еще встретятся в его жизни – он, Булгаков, другие попробуют воплотить такое «братство» в своей эмигрантской жизни, хотя и без особого успеха.
В феврале 1909 года Бердяев вместе с Лидией Юдифовной приехал в Петербург. Остановились в квартире Вячеслава Иванова – на «башне». Зима была холодной, Николай Александрович простыл, чувствовал себя неважно, но все же прочел очередной доклад в Петербургском религиозно-философском обществе 24 февраля. Свое выступление он озаглавил: «Опыт философского оправдания христианства». На эту же тему он уже выступал в конце 1908 года в Киевском РФО, повторное выступление свидетельствовало о том, что доклад в Киеве имел успех (зал долго аплодировал земляку) и что тему он считал важной. Доклад был посвящен антропологии В. И. Несмелова, русского богослова, философа, профессора Казанской духовной академии. В работах Несмелова Бердяев увидел «новый способ обнаружения бытия Бога – психологический, или, вернее, антропологический» [160]160
Бердяев Н. А. Опыт философского оправдания христианства // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907–1917. Т. 1. С. 499.
[Закрыть]. Рациональные доказательства бытия Бога многие века занимали людей, не менее долго их критиковали, искали в них логические ошибки. Бердяев нашел убедительное для себя обоснование тезиса о существовании Бога в человеческой природе, – это было вполне в соответствии с его философскими взглядами: личность для него всегда имела абсолютное значение. Поэтому доклад, который он сделал в РФО, стал закономерной вехой в его религиозном развитии. Показателен и выбор текста: религиозная академическая философия, богословский трактат соответствовали его тогдашнему стремлению сблизиться с православной средой, «прилепиться» к Церкви.
Незадолго до этого доклада Бердяева Петербургское религиозно-философское общество пережило своеобразный кризис: в результате разногласий с Мережковским и большинством членов общества из Совета РФО вышел В. В. Розанов. Он заявил, что Религиозно-философское общество превращается в литературное объединение «без всякого общественного значения».Василий Васильевич связал эти перемены с усиливающимся влиянием Мережковского, назвав его – «вещь, постоянно говорящая». Среди людей, не согласных с новым направлением общества, считавших, что РФО должно основное внимание уделять рассмотрению религиозных вопросов, Розанов назвал и Бердяева. Действительно, начало московского периода жизни было связано у Николая Александровича со стремлением принять Церковь в свое сердце, ощутить себя по-настоящему православным человеком. Под стать были и знакомства этого времени.
В 1910 году было создано издательство «Путь». Вокруг издательства сложился определенный крут философов, которых объединяла православная ориентация. К этому кругу принадлежали С. Н. Булгаков, князь Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский, Г. А. Рачинский и др. «Главные силы религиозно-философской мысли были сосредоточены вокруг издательства "Путь"» [161]161
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 229.
[Закрыть], – вспоминал позже Бердяев. Почти сразу развернулось идейное противостояние между «путейцами» и философами, группировавшимися вокруг журнала «Логос». Спор велся между «религиозной» и «научной» философией, он касался нескольких фундаментальных тем, одной из которых являлся вопрос о соотношении знания и веры. «Путейцы» упрекали «логосовцев» в том, что они, ориентируясь главным образом на немецкую философию, резко отделяют «знание» от «веры». Бердяев, естественно, примыкал к позиции «Пути», считая, что вера и знание не исключают, а взаимно дополняют друг друга, но его позиция не была крайней, его зачастую относили к «колеблющимся». «Путейцы» стали «пружиной» деятельности московского Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, в жизни этого общества Бердяев тоже активно участвовал после переезда в Москву. Финансирование общества и издательства взяла на себя миллионерша и красавица Маргарита Кирилловна Морозова, вдова «ситцевого короля» Михаила Морозова, которая не была чужда философии. Это обстоятельство поставило московское общество в более выгодное положение по сравнению с подобными же петербургским и киевским объединениями.
В московском РФО и в философском кружке в салоне Морозовой часто бывал Андрей Белый, которому «философские шахматы» (так он называл разгоравшиеся между участниками споры) помогали пережить трудности и боль его непростой влюбленности в Любовь Менделееву. Белый часто бывал у Бердяевых («…ел, пил и даже иногда спал у нас», – писал Николай Александрович), они были близки в это время. Бердяев позднее характеризовал Белого как человека чрезвычайно одаренного и талантливого, с проблесками гениальности, но обладающего «тяжелобольной душой», одинокого, со «склонностью к предательству» по отношению к своим знакомым. Наверное, эти качества натуры сказывались в тех подчас злых характеристиках, которые Белый давал близким людям. В то же время его свидетельства очень интересны как раз в силу их субъективности, «неприглаженности».
Андрей Белый вспоминал, что в то политизированное время даже среди философов выделились «партии» в соответствии с их пристрастиями: роль «китов» старшего поколения и «правого крыла философского фронта» играли Евгений Николаевич Трубецкой («он был удивительно косолап и внутренне добр»), Лев Михайлович Лопатин (сосед Бердяева по арбатским переулкам, профессор Московского университета, спиритуалист) и Вениамин Михайлович Хвостов (специалист в философии права, тоже университетский профессор). «Е. Н. Трубецкой, метафизик, был очень отсталым философом; но он был человечен в сношеньях с людьми, гарантируя возможность обмена мнений» [162]162
Белый А. Между двух революций. С. 271.
[Закрыть], – такова была оценка «передового» Андрея Белого. К Трубецкому благоволила хозяйка дома, где чаще всего проходили заседания московского РФО, Маргарита Кирилловна, о красоте которой дают некоторое представление ее портреты кисти В. А. Серова. Трубецкой и Лопатин пытались на собраниях противостоять модному тогда неокантианству и символизму и потому рассматривались более молодыми философами как «обломки доисторической эры». Самым «передовым» и «левым» среди философов Белому казался недавно переехавший в Москву из Киева Густав Густавич Шпет, чьи лекции на Педагогических женских курсах пользовались тогда огромной популярностью. Надо сказать, что Густав Шпет недолюбливал Бердяева и Булгакова. Позицию первого он называл «ницшеанизированным православием» и даже ввел в оборот колкий термин «белибердяевщина», а второго упрекал в смешении «поповского духа» и «воспоминаний о марксизме». Появился на философских собраниях и приехавший из Германии Сергей Иосифович Гессен, рефераты которого были написаны в духе и с использованием сложной терминологии фрайбургской школы неокантианства, что не раз ставило в тупик «китов», слыхом не слыхивавших о таких новомодных философских штучках. Хвостов привел в РФО гегельянца – «молодого, одержимого, бледного, как скелет, Ивана Александровича Ильина», – известного в последующем философа, написавшего не одну книгу о России и русском патриотизме. На заседания захаживали и соавторы Бердяева по «Вехам» – Кистяковский, Гершензон, Булгаков. Бердяев был завсегдатаем РФО, не раз выступал в нем с докладами, участвовал в обсуждениях. Религиозная проблематика постоянно присутствовала на этих собраниях, что совпадало со склонностью Николая Александровича в то время.
Интерес к православной жизни привел Бердяева на Покровку (несколько раз его сопровождали и жена с Евгенией Герцык), где в трактире «Яма» по воскресеньям устраивались религиозные народные собеседования – собирались баптисты, раскольники, сектанты разного толка, толстовцы, были и представители официальной церкви, миссионеры. За столиками стояли пузатые чайники: водку открыто пить не разрешалось, но запрет обходили, наливая ее в один из таких чайников. В такой обстановке велись разговоры и споры удивительные, «по Достоевскому»: о смерти, об аде (где он – реален или в человеческой душе?), о грехе… «Та же страсть к игре мысли у этих трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета, а может быть, и более подлинная» [163]163
Герцык Е. К. Воспоминания. С. 121.
[Закрыть], – писала Герцык. Ей вторил и Бердяев: «…беседа стояла на довольно высоком уровне, была мистическая напряженность, сложная и углубленная религиозная мысль, было страстное искание правды» [164]164
Бердяев Н. А. Самопознание. С. 185.
[Закрыть]. Николай Александрович засиживался в трактире допоздна, он любил эти беседы, они не только помогали ему понять страну, в которой он жил (он не хотел оставаться «барином»), но и приоткрывали что-то в собственной душе. Особенно его заинтересовала секта «бессмертников»: они проповедовали буквальное эмпирическое бессмертие уверовавшего человека. Если «бессмертник» умирал, – то только потому, что терял веру.
Однажды один из участников споров в «Яме», Никита Пустосвят из левого раскола, подошел к Бердяеву и сказал:
– Если хочешь знать истину, то пригласи меня к себе.
Бердяеву стало любопытно, он привел его домой, в арбатскую квартиру. Там Никита сел посередине комнаты и развил перед слушателями целую гностическую систему, поразившую всех своей сложностью. Но ни на какие вопросы и возражения Никита отвечать не хотел – он вещал, как абсолютно уверенный в своей правоте человек, мнения остальных его нисколько не интересовали. Это был монолог, а не диалог. Именно эта сторона сектантства неприятно поразила Бердяева: сам он был человеком открытым для новых мыслей и идей, и такая полная замкнутость и отношение ко всему, что не совпадает с собственной позицией, как ко лжи, ему претила. Вскоре эти народные собеседования были запрещены властями, о чем Бердяев очень сожалел.
Лето Бердяевы по обыкновению провели в Бабаках (Евгения Герцык приезжала к ним в гости). Здесь тема народного богоискательства была неожиданным образом продолжена. Владелец соседней усадьбы, Вл. Шеерман, оказался толстовцем по своим убеждениям, он организовал у себя коммуну, общину. Там были не только толстовцы, но и другие искатели праведной жизни по Божьему закону, были и странники, которые останавливались у Шеермана по дороге на Кавказ (Кавказ воспринимался как место, где можно стать ближе к Богу, зажить духовной жизнью, туда отправлялись многие богоискатели). Бердяев познакомился и с самим Шеерманом, и со многими членами коммуны, некоторые приходили к нему для «духовных бесед». Позже он вспоминал эти беседы как одни из самых интересных в его жизни, говорил, что встретился с замечательными по своим душевным качествам людьми. Любопытно, что, по мнению Бердяева, многие «народные философы» излагали системы и взгляды, которые были родственны системам германских средневековых мистиков – Якоба Бёме и Мейстера Экхарта. Правда, не исключено, что такое впечатление у Николая Александровича сложилось потому, что и он сам, и некоторые его знакомые увлекались в то время их творчеством. Маргарита Сабашникова сделала перевод «Духовных проповедей и рассуждений» Мейстера Экхарта; немецких мистиков для издательства «Путь» переводила Евгения Герцык – это была интеллектуальная мода начала века, а Бердяев бессознательно всегда следовал интеллектуальной моде (искренне веря и уверяя, что он одинок и непохож на других в своих исканиях).