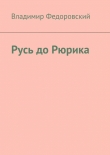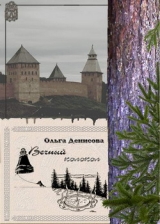
Текст книги "Вечный колокол"
Автор книги: Ольга Денисова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
2. Зимние вечера
Через грудь, от левого плеча к правой подмышке, лег безобразный рубец – сизый и выпуклый, словно не от ожога вовсе, а от удара мечом. Млад часто задумывался, насколько связаны между собой две реальности, насколько его путешествия наверх имеют отношение к тому, что происходит с ним наяву. Сначала он считал их порождением себя, способом говорить с богами так, чтобы быть уверенным в том, что они его слышат. Всего лишь убедиться: он говорит именно с богами, а не с самим собой. Боги – могущественные существа, они подпускают к себе смертных, но кто сказал, что смертные при этом не обманываются, и мир нави предстает перед ними таким, какой он есть? Да, для него самого эти путешествия были столь же реальны, сколь и явь: он осязал мир нави, он слышал его звуки, чувствовал его запахи и ощущал гораздо более тонкие эманации, излучаемые существами, населяющими тот мир.
Да, Млад поднимался наверх, чтоб изменить явь, но менял он ее не сам, опосредовано, он всего лишь убеждал богов в своей правоте, в своем праве требовать изменения яви. И боги признавали за ним это право. Они сами наделили его этой способностью, сами позвали его когда-то и испытали его. Но кто сказал, что они показали ему мир нави таким, какой он есть? Кто сказал, что его путешествия наверх не есть всего лишь его собственная выдумка, данная ему богами? Смертный не в силах постичь существования трех миров, многогранность мироздания раздавит его мозг, расплющит своей сложностью, своей кажущейся противоречивостью здравому смыслу.
Но шли годы, и с каждым подъемом наверх Млад убеждался: он неправ. Он слишком много рассуждает об этом, вместо того, чтоб положиться на свои чувства. Ведь сотни шаманов не ставят под сомнение реальность своих путешествий, они просто не задумываются об этом, они не мыслят категориями Платона, Плутарха, Эпикура, Пифагора, не противопоставляют вещество и сознание, не рассуждают о себе в мире и о мире в себе. Разве что Ширяй забивает голову подобными умопостроениями.
А бубен, упавший в сугроб в двух саженях от костра, разлетелся в щепки и обгорел. Уж бубен-то точно не способен к самовнушению и не поддается внушению извне.
Смертный не способен постичь сложности трех миров, но что мешает ему принять их существование?
У Млада было время подумать, поспорить с Ширяем и отцом, рассказать о своих соображениях Дане. Впрочем, Дана слушала его с легкой, снисходительной улыбкой на губах, отчего он терялся, старался говорить еще более убедительно, но только путался в мыслях и чувствовал себя непонятым.
И все же эти уютные зимние вечера не только скрасили время мучительной болезни, но и превратили его в светлые воспоминания: Млад чувствовал, как время утекает сквозь пальцы, убегает, тает, и на смену уютным вечерам в кругу близких людей скоро придет другое время – жесткое и холодное.
Весть о начале войны принес Ширяй, и тут же загорелся идеей своим ходом добираться до Нижнего Новгорода, чтоб вступить в ополчение: в его семнадцатилетней голове было перепутано столько противоречащих друг другу мыслей и чувств, что Млад не брался с ним спорить. Добробой, конечно, не отставал от товарища, однако смотрел на поход немного трезвей: укладывал вещи, взвешивая их в руках, и надеялся предусмотреть все случаи, которые произойдут с ними на войне.
Словно назло, отец пустился в воспоминания о том, как в пятнадцать лет Млад убежал вслед за ним на войну: эту героическую страницу своей жизни Млад хотел бы забыть навсегда, настолько бесславно она для него закончилась. Отец же, напротив, весьма гордился сыном, хотя в то время орал на него и при каждом удобном случае отправлял с оказией домой. Только Млад от оказий быстро избавлялся и догонял отца снова и снова.
В устах отца эта история выглядела намного красивей, чем на самом деле. Он только начал свой рассказ, когда к ним заглянула Дана – она появлялась почти каждый вечер, хотя Млад давно начал вставать и даже ходил на занятия – до экзаменов оставались не так много времени.
– Ну-ка, ну-ка, – тут же ухватилась она за последние слова отца, – я давно хотела послушать, как Младик ходил на войну.
Млад потупился и закусил угол рта от смущения: меньше всего ему хотелось, чтоб эту историю услышала Дана. А отец, как назло, был хорошим рассказчиком, расцвечивая повествование подробностями, которых никогда не видел и помнить не мог.
– В то время князь Борис был очень молод, раздробленная Русь ему не подчинялась, а татары, бывало, доходили до самой Коломны: налетами – короткими, быстрыми и разрушительными. За ними оставались черные полосы пожарищ: хлеб горел, лес горел, деревни горели, города горели… Говорят, старые московские князья посмеялись над Борисом, который пообещал до осенней распутицы загнать крымчан обратно в их Крымское ханство. И, смеясь, поклялись, что если выйдет все по его словам, Москва признает его своим князем и воеводой. Это, конечно, легенда, но и в легендах есть доля правды.
Отец отхлебнул чаю и посмотрел на Добробоя, замершего с раздутой котомкой в руках. Дана успела раздеться и присесть за стол, и тоже внимательно слушала отца, подперев рукой щеку.
У Млада о том времени были другие воспоминания: он давно поднимался наверх самостоятельно и мнил себя взрослым и в некотором роде всемогущим, хотя выглядел моложе своих лет, отличался редкой щуплостью и в военном деле не смыслил ровным счетом ничего. Но жаждал подвигов, несмотря на то, что и без них занимал среди сверстников прочное положение волхва и шамана. Ему тогда нравилась рыженькая Олюша, отдававшая предпочтение крепкому и высокому сыну бывшего дружинника, хваставшегося военными походами отца. Собственно, в ее славу Млад и затеял этот поход.
Отец уехал на войну, забрав молодого, сильного коня и телегу; Младу досталась старая костлявая кобыла с незатейливым именем Рыжка. На ней он и крался за отцом до самого Новгорода, вместо проезжей дороги прячась в лесу, застревая в буреломе и увязая в болотцах по самое кобылье брюхо. В первый раз отец поймал его, когда их небольшой отряд встал на ночлег на берегу Волхова. Млад так устал, что, едва свалившись с лошади, задремал под раскидистыми кустами ольхи, не обращая внимания на комаров, на холод сырой еще земли, на обильную росу, вымочившую всю его одежду. Отец, услышав жалобное ржание некормленой Рыжки, выволок Млада к костру: жалкого, дрожащего от холода и усталости, голодного, с опухшим от комариных укусов лицом. Над ним хохотал весь отряд. Отец же нисколько не смеялся, напротив, ругался долго и обидно, говорил о том, что хомут на шее в походе ему не нужен, что, вместо того чтобы помогать деду, Млад суется не в свое дело, что никто не намерен кормить его задарма, а пользы от него на войне все равно не будет, и много чего еще – не менее правильного и неприятного.
Конечно, Млада накормили, искупали и насыпали овса несчастной Рыжке, дали им переночевать у теплого костра, а наутро отправили домой. И если, выезжая из дома, Млад всего лишь действовал по своему усмотрению, просто не спрашивая об этом никого из старших, то теперь повернуть за отрядом было прямым ослушанием отца. Разумеется, Младу случалось поступать по-своему, но скорей из озорства и по забывчивости, в целом же слова отца и деда были незыблемы, непререкаемы. Но на этот раз Млад усмотрел в них явное противоречие с тем, чему отец учил его с детства: мужчина, если он, конечно, мужчина, а не тряпка, без страха встает на защиту родной земли, и откликается на зов соседей, если к ним пришла беда. Именно такой ответ он и приготовил отцу, поворачивая Рыжку на Новгород: боги признали в нем мужчину еще два года назад, отец же продолжает видеть в нем ребенка. А он давно не ребенок, он прошел пересотворение, он говорит с богами сам, без помощи деда!
Готовый ответ – готовым ответом, а в Новгороде он отцу на глаза постарался не попасть.
– Я его ловил раз пять, – рассказывал отец, – и заворачивал домой с почтовыми, под охраной. Но моего сына так просто с пути не свернешь: дожидался ночи – и поминай, как звали! Так до самой Тулы и дошел, а шли мы туда недели три.
Млад глянул на отца, чуть усмехаясь: лучше бы он рассказал шаманятам, какими словами встретил своего сына в Туле. Тогда один из сотников даже вступился за Млада:
– Что ты орешь на парня? Он, чай, не на чужую пасеку за медом лезет. Хочет воевать – пусть воюет, к себе в сотню возьму, копейщиком. Только спуску не дам и домой, когда воевать надоест, не отпущу.
– Нет уж! – ответил сотнику отец, – нечего пятнадцатилетнего мальчишку под копыта татарских коней подставлять. Обрадовался, в сотню он его возьмет! Копейщиком! Из копейщиков твоих каждый второй из первого боя живым не выйдет! Ты погляди, он копье-то поднимет? А коня этим копьем остановит?
Млад очень хотел быть копейщиком, и не сомневался, что остановит копьем легкого татарского коня. Конечно, еще больше он мечтал попасть в дружину князя, и Рыжка тогда не казалась ему столь безнадежной в качестве боевого коня, хотя за время похода можно было убедиться в ее полной к бою непригодности: она шарахалась в сторону от каждого громкого звука. Запах же крови, пожары и грохот пушек, которым встретила их Тула, довели лошадку до полного срыва – Млад закрывал ей глаза, уши и ноздри, только тогда она переставала биться и рвать повод из рук.
К досаде Млада, отец оставил его при себе, помогать лечить раненых, отлично зная, что тот совершенно не приспособлен к лекарскому делу: с одной стороны, он совершенно не умел отстраняться от чужих страданий, не примерять их на себя, а с другой – боялся крови, больших ран, отрубленных конечностей, белых обломков костей, торчащих наружу. А в добавок ко всему, даже простую повязку на порезанную руку или ногу он лепил кособоко, отчего легкораненые бранили его и обзывали неумехой, хотя он очень старался и очень переживал.
Отец добился своего: через две недели, после нескольких победоносных боев князя Бориса, война надоела Младу настолько, что по ночам он едва не плакал – так ему хотелось домой. Ему снились кошмары: то отрубленные ноги в сапогах заходили к нему в палатку, чавкая кровью, то в куске пирога обнаруживались куски мертвой человеческой плоти, то он тонул в крови, то оскальзывался на выпавших из живота внутренностях.
А потом дала о себе знать шаманская болезнь: шаман не может так долго не подниматься наверх, боги зовут его – у Млада заныли и распухли суставы, а вскоре начались и судороги.
Да, он поднимался наверх один, без деда. Но дед всегда стоял внизу, готовый прийти ему на помощь. Он знал, зачем поднимается, его требования к богам поддерживали люди. И эти люди помогали ему наверху: их воля сливалась с его волей.
У Млада не было с собой ни рысьих шкур, ни маски, ни бубна, ни оберегов – он не подумал об этом, собираясь в поход. Отец долго искал в окрестностях другого белого шамана, который подстрахует его снизу, даст свое шаманское облачение, поможет преодолеть неуверенность. Искал, и снова ругал Млада за то, что тот потащился на войну. Тот бесславный подъем Млад переживал очень долго: старый шаман из рода волка дал ему все необходимое, и поддержал, и успокоил, но поднялся Млад невысоко – едва достигнув белого тумана, даже не дойдя до серебряного поля, он почувствовал, как непреодолимая сила тянет его вниз, поток, увлекающий его за собой, иссякает, восторг тает, истончается, как готовая порваться нитка… Если бы старый шаман не подхватил его и не опустил на землю, он бы упал и разбился от удара нави об явь.
Отец перестал ругаться, теперь он старался поддержать сына, расшевелить, вытащить из безучастной вялости, хотел заставить его снова поверить в себя. И нашел путь. К тому времени князь Борис от обороны перешел в наступление, понемногу овладев стратегией боя против юрких татар: загоняя в тупики, нападая неожиданно на их лагеря – и теснил, теснил их к югу. Млад дважды побывал в настоящем бою, и тогда впервые ощутил пыл наступления, о котором потом вспоминал всю жизнь: это пьянило. Но ему этого оказалось мало: он хотел подвига, настоящего подвига. Разочаровавшись в своих шаманских способностях, он стремился не столько к славе, сколько к самоутверждению, а в лагере посмеивались и над его худобой, и над его юностью, и над тем, что на войну он пришел с отцом – вроде как прячась за его спину.
И он придумал себе подвиг, ровно такой, какой может прийти в голову только пятнадцатилетнему мальчишке: пробраться ночью в татарский лагерь и взорвать бочонок с порохом возле палатки их хана; а Млад не сомневался, что татар в бой ведет не больше не меньше – сам крымский хан.
Рассказывая об этом, отец умолчал о его глупости.
– Сотник послал его в разведку, поскольку Млад тогда был ловким, быстрым и вертким, как любой мальчишка. И что вы думаете? Он пробрался в самое сердце татарского лагеря! Он рассмотрел его расположение, посчитал все горевшие костры и стоящие палатки, и даже подслушал их разговоры!
– Ага, только не понял ни слова, потому что сроду не слышал татарской речи… – усмехнулся Млад и снова глянул на отца со значением: ты ври, да не завирайся.
На самом деле, пробраться в татарский лагерь незамеченным, да с бочонком пороха на плечах, действительно было непросто, и ничем, кроме везения, Млад не мог объяснить, как ему это удалось. Да, он выбрал час перед рассветом, когда дозорных одолевал сон, когда лагерь татар храпел на разные голоса, когда костровые клевали носом, и в темноте никто не разобрал, что за щуплая фигура пробирается к самому высокому шатру в центре лагеря. Только кони похрапывали, чуя чужака. Везение окрылило его и лишило бдительности. И если до этого он не чувствовал волнения, то тут от предвкушения удачи вдруг затряслись руки и ноги. Главное, как бы трут не погас до того, как вспыхнет смола, в которой он вымазал бочонок.
Млад нетвердой рукой развернул огневицу – как назло, ладони намокли от пота. Удар металла о камень прозвучал в ночи неожиданно громко, но дрожащая рука сорвалась, и, прежде чем повторить попытку, Млад сосчитал до десяти, прислушиваясь к звукам спящего лагеря и надеясь унять волнение и дрожь. Он собирался ударить кресалом снова, как вдруг сверху на него с криком навалилось грузное потное тело. Этого Млад никак не ожидал – оказывается, татарские дозорные тоже умели бесшумно двигаться в темноте! Он рванулся из-под нападавшего, но тот перехватил его запястье еще во время прыжка, и с небывалой силой и ловкостью заломил руку Млада назад, практически прижав ее к затылку. Отчаянная боль хлестнула через край, Млад услышал хруст костей, в глазах вспыхнул золотой, слепящий свет и градом хлынули слезы. Он не сумел даже вскрикнуть, задыхаясь, захлебываясь этой болью. Кресало со стуком упало где-то рядом с ухом – лицо его плотно прижалось к вытоптанной, пахнущей конским навозом земле.
Лагерь тут же пришел в движение, вокруг вспыхивали факелы, раздавались удивленные крики, и вскоре Млада плотным кольцом окружили татары, а дозорный продолжал сжимать его запястье, и ослабил хватку только чтобы поднять Млада на ноги и как следует рассмотреть. На ноги Млад встать не смог – дозорный за волосы поднял его вверх и поставил на колени. Боль пульсировала в голове, от нее тошнило, но постепенно до Млада начал доходить смысл происшедшего: он попался. И сейчас татары его убьют.
Но вместо этого враги разразились дружным хохотом, когда факелы осветили его мокрое от слез лицо. Сначала Млад не понял, почему они смеются, наверное над тем, что он расплакался, как девчонка. Но вскоре ему стало понятно: они смеются над дозорным, которому удалось одержать столь блестящую победу над ребенком. От обиды дозорный выпустил из рук его запястье, и рука упала вниз: Млад слабо вскрикнул, слезы снова побежали из глаз, как он не старался их удержать. Кто-то крикнул ему по-русски, что у князя Бориса не осталось взрослых воинов, раз лазутчиком тот выбрал мальчишку. Млад постарался справиться с собой и закусил губы – он считал себя вполне взрослым, умным и смелым. Если бы он видел себя со стороны, то понял бы, в чем дело – каждый из воинов весил, наверное, раза в два больше него и мог свернуть ему шею одной рукой, как куренку. В темноте дозорный не разобрался, кто перед ним, поэтому и сломал ему руку, рассчитывая на сопротивление взрослого мужчины.
Однако, когда татары рассмотрели стоящий на земле бочонок с порохом, смех их немного поутих, передние ряды попятились назад, отодвигая факелы подальше, а дозорный поднял с земли огниво и показал остальным: преступление Млада ни у кого не вызывало сомнений.
И тогда из шатра вышел «хан» – на самом деле, простой сотник, чуть побогаче и посерьезней остальных: приземистый, кривоногий и рыжий татарин. Млад постарался выглядеть бесстрашным, но мысль о том, что перед смертью его начнут пытать, поколебала его уверенность в собственных силах – сломанная рука не оставила ему никаких заблуждений на этот счет. «Хан» смерил его презрительным взглядом сверху вниз: зареванного, перепуганного и дрожащего. Млад собрал в кулак все мужество, на которое был способен, и с вызовом посмотрел «хану» в глаза.
– Лазутчик князя Бориса столь же отважен, сколь юн, – изрек «хан» по-русски, – и заслужил быструю смерть. Спасибо князю за бочонок пороха – будем считать это гостинцем от вашего стола нашему столу.
Что-то по-татарски обижено ответил ему дозорный, все еще раздосадованный своей оплошностью, и татары заспорили вдруг: горячо, со смехом и подначками друг друга. Млад не понимал, о чем идет речь, но ему пришло в голову, что они готовы побиться об заклад. Глядя на его растерянное лицо, кто-то объяснил ему по-русски: дозорный берется убить его одним ударом кулака. Млад ни секунды не верил, что его можно убить одним ударом, пока кто-то из татар не показал пальцем на свой кадык. Но дозорный замотал головой, и даже затопал ногами, с презрением отвергая столь простой способ убийства – он собирался убить лазутчика ударом в лицо. Они действительно бились об заклад, доставая из кошелей серебряные монеты, подвески, цепочки, жемчужные ожерелья. Младу показалось, что все это происходит не с ним, потому что с ним такого произойти не может. И лучше бы ему на самом деле умереть по-настоящему, безо всяких споров – мертвые срама неймут. Быть убитым одним ударом кулака показалось ему унизительным…
– Я уже пообещал мальчику быструю смерть, – «хан» смеялся вместе со всеми и заговорил по-русски, – но так и быть: если он не будет убит одним ударом, мы подарим ему жизнь. Иначе это будет не быстрая смерть, ведь верно?
Они еще долго обсуждали условия спора, то забирая, то вытаскивая побрякушки назад, со всех сторон подтягивались проснувшиеся воины, и тоже включались в спор: им было весело. Млад же думал о том, как ему достойно встретить смерть, и не верил в нее.
Наконец, татары разошлись в широкий круг на открытом пространстве, дозорный схватил Млада повыше локтя и поднял на ноги: Млад прокусил губу, но жалобного крика сдержать не смог, что вызвало новый взрыв смеха. От боли закружилась голова и затошнило, он спотыкался и едва не падал, влекомый дозорным на середину круга, а когда тот выпустил его локоть, Млад не удержался на ногах и снова рухнул на колени. А когда дозорный встал перед ним и приподнял рукав, Млад представил себе, с какой силой эта рука может ударить, как хрустнут кости и вопьются в мозг. Да его голова разлетится на куски, как тыква! Страх судорогой пробежал по телу, губы стали разъезжаться, но Млад прикусил их покрепче – сейчас они снова начнут смеяться! Но татары уже не смеялись, напротив, смотрели на русского мальчика с любопытством, в ожидании.
Дозорный примерился – ему было неудобно. Если бы Млад стоял на ногах, ударом в подбородок тот бы снес ему голову. Теперь же ему пришлось искать другой способ выиграть спор. Млад вдохнул. Тело его дрожало, он неожиданно почувствовал, как ему холодно, и губы ехали в стороны все заметней, и зубы не помогали их удержать. Ему даже не пришло в голову уклониться от удара, и сосредоточился он только на том, чтобы до конца быть бесстрашным: не зажмуриться, не закрыть лицо руками, не показать им, как он боится.
В последний миг, когда широкий кулак уже летел ему навстречу, он не выдержал и попытался отвернуться, инстинктивно задирая лицо вверх. Это и спасло ему жизнь – прямой удар был направлен в переносицу, и наверняка убил бы его, но в результате пришелся на скулу: в голове что-то лопнуло с грохотом, Млад полетел на вытоптанную землю, как соломенное чучелко, врезаясь в нее правым плечом, боль в руке перекрыла боль от удара в лицо, и он потерял сознание.
– На рассвете татары перекинули Млада через седло и привезли в поле, на краю которого стоял наш лагерь, долго кричали, смеялись и махали нам руками, а мы не могли понять, чего им надо. Тогда они скинули его на землю, еще немного покричали, показывая на него пальцами, и ускакали, – отец вздохнул, – князь послал большой отряд, ожидая подвоха, но татар там не было – они не собирались нападать. Когда Млада принесли ко мне, он еще не пришел в себя.
Тут отец соврал снова: Млад пришел в себя еще на лошади, его рвало, перед глазами бешено кружилась земля и невыносимо болела рука. От удара об землю он потерял сознание лишь на миг, а потом его рвало снова, он полз по полю к своим, потому что из-за высокой травы не видел отряда, выехавшего навстречу; полз совершенно не в ту сторону, плакал и подвывал от боли. И к отцу его принесли в твердой памяти, только совсем измученного и сломленного: он цеплялся за рубаху отца левой рукой, трясся и прижимался к нему лицом, потому что никогда с такой силой не ощущал важности родства, и никогда настолько не нуждался в отцовской любви и защите. У него не осталось мужества даже на то, чтобы винить себя в провале.
– А почему они его отпустили, раз он успел все сосчитать, высмотреть и подслушать разговоры? – спросил Ширяй.
– Они же не знали, что он все сосчитал, – немедленно парировал отец.
– А могли бы догадаться… – протянул Ширяй презрительно, – я же говорю – татары еще и дураки при всем при этом.
– При чем это «при всем»? – спросил Млад недовольно.
– А при всем, – ответил Ширяй.
– Недооценка врага – серьезная и дорогая ошибка, – пожал плечами Млад.
– А переоценка – напрасная трата сил, времени и чужих жизней, – не сдался Ширяй.
– Я думаю, тебе чужими жизнями распоряжаться не доверят, – кивнула Ширяю Дана, – и я этому очень рада.
– А ты меня вообще ни во что не ставишь, – проворчал в ответ Ширяй.
– Не груби, – Млад легонько стукнул ладонью по столу, – не со мной разговариваешь!
– Я не грублю, я высказываю свое мнение. На это я хотя бы имею право?
– Чтоб тебя во что-то ставили, надо из себя что-то представлять. А ты пока ничем, кроме наглости, не выделяешься, – с полуулыбкой сказала Дана.
– И кто кому грубит? – Ширяй повернулся к Младу, – и я что, должен молчать?
– Дана, оставь его, – Млад накрыл ее руку своей, – он выделяется, выделяется. Он умный, только пока молодой, а это со временем пройдет.
– Насколько я поняла, он собирается геройски погибнуть на войне, так что это не тот случай, когда молодость пройдет с годами.
– Да ни на какой войне он не погибнет, – Млад махнул рукой и посмотрел на Добробоя, как наиболее здравомыслящего в этой паре, – потому что когда они через пару месяцев, голодные и оборванные, догонят ополчение, война уже давно закончится. Их задача – не замерзнуть в дороге, потому что ни тот, ни другой ночевать зимой в поле не умеют. Деньги у них кончатся еще в Новгороде, или, в лучшем случае, в Волочке, если они доберутся до Волочка живыми, ведь на Мсте им ни одного городка не встретится.
– Почему это через два месяца? – Ширяй мотнул головой, – мы за две недели доберемся, мы же налегке пойдем.
– Слишком много времени потратите на сдирание коры с деревьев, – улыбнулся Млад.
– Какой коры? – переспросил Добробой.
– Ну, вы же налегке пойдете. Охотники из вас никакие, а жрать-то что-то надо.
– Добробой, ты слышал? – Ширяй поднялся, – мы еще и никакие охотники! Эх, Млад Мстиславич, не ожидал я от тебя!
Он вдруг вышел в спальню, хлопнув дверью, хотя такого проявления обид Млад за ним пока не замечал. Но отец подмигнул ему, и через минуту Ширяй показался на пороге, разворачивая пятнистую шкуру в руках.
– Вот, смотри! Никакие охотники, конечно! Мы хотели тебе к выздоровлению отдать, перед тем как вместе подниматься.
– Да вы никак рысь взяли? – Млад от удивления захлопал глазами, хотя подумывал о том, где найдет шкуру взамен обгоревшей.
– Взяли! Сами, между прочим, выследили, – Ширяй презрительно скривился.
– Нам Мстислав Всеволодович только обработать ее помог, – подтвердил Добробой.
– Спасибо, ребята, – Млад едва не растрогался, – беру назад свои слова об охотниках.
Он отправил отца домой, к маме, за три дня до суда, убедив его в своем полном выздоровлении. Дана нисколько не переживала из-за суда, и старалась уверить Млада в том, что все это сделано нарочно, ему не в чем себя винить и не в чем сознаваться. То, что его признают виновным, не вызывало у нее сомнений, и, с ее точки зрения, не стоило расстраиваться. Млад смотрел на это немного по-другому. Профессором-убийцей, конечно, никто бы его не назвал, но учитель, который не уберег ученика – плохой учитель. Он и сам знал, что виноват, он и сам нескоро решился бы взять кого-то в обучение. Даже за год до пересотворения. Но одно дело – сам, а другое – чужие, недобрые люди, которые будут ковыряться в незажившей еще ране, бередить его боль, его совесть. Выставлять подлецом и самонадеянным профаном…
Млад знал, что через два дня после суда докладчиков пойдет на княжий суд – сам князь, не дождавшись его иска, обвинял Сову Осмолова в клевете. И Дана не сомневалась – князь признает Осмолова виновным. И вира его покроет виру за смерть Миши. Но это не имело ровно никакого значения. Ему казалось, что вира – надругательство над Мишиной матерью, над жизнью и смертью мальчика. Словно кто-то пытался перепродать, подороже перепродать его смерть.
Накануне суда, вечером, Млад сам отправился к Дане – шаманятам незачем было слушать их разговор. На дворе разыгралась метель, небо обложили низкие снежные тучи, и стемнело быстрей обычного. Вторуша еще не ушла в Сычевку – скребла горшки.
– Ой, Млад Мстиславич, здрасте! – заулыбалась она, стоило Младу войти в дверь, – ты, никак, поправился наконец? Мы с Даной Глебовной так переживали!
– А где Дана Глебовна? – Млад снял треух и повесил на гвоздь, стряхнув с него крупные намокшие снежинки.
– Да сегодня приехал Родомил Малыч, он теперь не каждый день здесь бывает, так она к нему пошла.
Младу почему-то показалось это неприятным: Родомил прожил в университете чуть больше полугода, и за это время Дана с ним очень сдружилась. Теперь же он снова вернулся в Городище, стал главным дознавателем княжьего суда, но в университете бывать не перестал. Он был человеком молчаливым и нелюдимым, Млад только несколько раз встречал его в университете, и никогда – вместе с Даной. Так получалось, что она не звала к себе Млада, если к ней заходил Родомил, и сама ходила в гости к Родомилу в одиночестве.
А Родомил выглядел мужчиной хоть куда, Млад рядом с ним ощущал свою нелепость, несерьезность, и в который раз удивлялся, почему Дана выбрала именно его, когда рядом есть такие, как Родомил: представительные, умные, весомые.
Но самым обидным Млад считал рост Родомила – тот был выше его почти на пядь.
Он уже хотел забрать треух и пойти домой, но Вторуша не позволила, пообещав пирогов к чаю.
– Да Дана Глебовна сейчас придет! – она чуть ли не загородила Младу дверь, – ты подожди, а то она меня ругать будет, что я тебя не оставила.
Млад пожал плечами и согласился. Нехорошо выйдет, если он вернется домой, и Дане придется идти к нему по такой погоде и в темноте. А наливая чай и слушая вой ветра за окном, подумал о том, что надо бы ее встретить. Но не топтаться же под окнами Родомила в ожидании, когда они наговорятся?
Однако ждать действительно долго не пришлось: Млад не успел отхлебнуть чаю из кружки, как на крыльце раздались голоса, и в дом, впуская ветер и снег, вошла Дана, а за ней, пригибаясь под притолоку и придерживая Дану под руку – Родомил. Млад поднялся им навстречу и хотел помочь Дане снять шубу, но главный дознаватель его опередил. И Младу показалось, что тот посмотрел на него как-то слишком пристально, слишком недовольно и свысока.
– Заходи, раздевайся, – кивнула Дана Родомилу, но тот покачал головой, продолжая смотреть на Млада. Млад же так и остался стоять возле стола и не знал, куда девать руки.
– Я пойду, пожалуй, – изрек, наконец, главный дознаватель и кашлянул в кулак.
– Как хочешь, конечно, – Дана повела плечом, – а могли бы попить чаю.
Рядом с Родомилом она выглядела особенно хрупкой и особенно красивой: его грубое лицо и большое нескладное тело оттеняли ее изящество, женственность и тонкость ее черт. И белый платок так небрежно упал ей на плечи… Младу никогда не приходило в голову ревновать ее: оказалось, что это больно.
Он растерянно ее поцеловал, когда Родомил закрыл за собой дверь.
– Что с тобой, чудушко? – спросила она, погладив его по голове, – ты плохо себя чувствуешь?
– Нет, – Млад пожал плечами.
Родомила она бы по голове гладить не стала. Млад десять лет хотел стать для нее опорой, защитой, надежным плечом, на которое она могла бы опереться. Он хотел носить ее на руках. Но, как назло, жизнь складывалась так, что именно Дана подставляла ему надежное плечо, поддерживала, жалела, гладила по голове. Вот и теперь… Родомил, как никто, производил впечатление той самой опоры и защиты, ему не требовались какие-то особенные жизненные обстоятельства, и без них было ясно – на него можно опереться.
– Я очень рада, что ты пришел, – Дана косо посмотрела на Вторушу.
– Я хотел поговорить…
Они долго пили чай, в ожидании, когда Вторуша закончит возиться с горшками и затопит печь. Та же, словно нарочно, не спешила. В конце концов, Дана прогнала ее, сказав, что печь затопит сама. Младу пришлось уверять Дану в том, что он совершенно здоров и у него ничего не болит, чтоб она позволила ему принести дров со двора.
И только когда еловые поленья затрещали в печке, щелкая смоляными каплями, Млад, отряхнув руки, решился сказать:
– Я не хочу никакого разбирательства завтра. Я просто признаюсь, что виноват. Надеюсь, этого будет достаточно, чтоб покончить с этим делом.
– Как это ты признаешься? Младик, ты с ума сошел? – она посмотрела на него из-за стола снизу вверх, – в чем это ты признаешься?
– Я не хочу, чтоб чужие люди перетирали это дело.