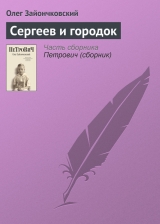
Текст книги "Сергеев и городок"
Автор книги: Олег Зайончковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вот пример: несколько уже назад отсюда во времени жили-были и работали в одном цеху два слесаря-сборщика– Попов и Савельев. Не бывало, казалось, на свете столь непохожих людей. Попов – мужчина полный, основательный, неторопливый. Савельев сухощавый, подвижный, характером горячий. Попов имел партбилет и, стараясь понравиться начальству, не пропускал ни одного собрания. Савельев, напротив, с начальством вечно ругался, а пустые заседания терпеть не мог. Он говорил, что его даже в детстве не приняли в пионеры, потому что батя его отдал Богу душу на каком-то канале. Совпадали они только местом работы, профессией, да еще возрастом: обоим уже перевалило на шестой десяток, что для русского мужика, притом работяги, считалось немало. Еще их объединяла общая для наших слесарей страстишка к дегустации некоторых спиртосодержащих смесей. Водка в те времена считалась напитком праздничным и, скорее, дамским, а в ежедневном ходу у трудящихся были заводские бесплатные побочные продукты химического производства. Назывались они по-разному, потому что разными были рецепты их приготовления: «Борис Федорович» («БФ»), «Сучок», «Ветродуй» и так далее. Но суррогаты пили все, а дружили так крепко, как Попов с Савельевым, немногие.
Вкалывали они, конечно, на пару – оба по шестому разряду, оба уважаемые люди. Шестой разряд в сетке для слесарей самый высокий, «старику» просто полагался. Но пока добирались до этой карьерной вершины, друзья, увы, подзабыли многую слесарную премудрость. Чертежи они всегда разбирали с трудом, больше полагаясь на память, а вот ее-то и повыветрило временем и «Ветродуем». Прикинут на глазок, где сверлить и как да что... ан, промахнулись! Выходил брак. Начиналось разбирательство: кто напортачил? Попов? Не может быть – он член партии, опора и надежа цехового начальства. И виновным назначали Савельева – вот тебе и КТУ2, вот тебе и премия... Мастак злорадно скалился: «Один ноль в твою пользу!» – и ставил ему минус ноль один на специальном стенде. Тогда-то Савельев и показывал свой характер: ругался, брызгал слюной и грозился все начальство вывести на чистую воду. Но его никто не боялся, разве что мастер держался временно подальше от его горячих кулаков. А на следующий день Савельев и сам уже не помнил обиды: хлопал мастака дружелюбно по спине и, нацепив очки с резинкой, старательно портил очередное изделие. Хитрован Попов, увиливая от ответственности, подводил базу, объясняя, что оплачивает свою неприкосновенность членскими взносами. Но Савельев и так никогда на него не обижался, потому что на друга обижаться нельзя.
Зато с бабой своей он ругался без устали: Савельевы вели промеж себя почитай уже тридцатилетнюю войну. Додирались они иногда прямо в цеху, потому что работала Райка тут же, кладовщицей в ИРЮ. К их скандалам привыкли, и никто на участке не удивлялся, встретив Райку с густым «бланшем» под глазом. Савельеву бы взять пример с Попова: там в семье царила тишь да гладь, ни драк, ни ревности – полное взаимопонимание. Поповская Валька работала в буфете и приносила в дом не меньше мужа. Все знали, что в интересах дела, особенно по молодости, она давала себя щупать нужным людям, однако никто бы не припомнил, чтобы Попов поднял на нее руку. Впрочем, оба друга баб своих любили и называли их за глаза ласково «наши кастрюли».
Материальное положение в их семьях тоже резко различалось, несмотря на одинаковую зарплату. У Попова имелись мотоцикл с коляской, огород, большой настенный ковер. Савельевы же вроде и суетились: то капусту квасили, то картошку запасали, а все у них были дыры в хозяйстве – вечно до получки занимали. Попов только с виду казался неповоротливым – он всегда знал, где что на заводе лежит не у дела: высмотрит, припрячет, да и шасть через забор. И ни разу не попался. А Савельев однажды только хотел ножовку вынести (на свою же рабочую карточку у Райки выпросил!), да поперся с ней через проходную и влип.
Такими они были разными, Попов и Савельев, но их объединяло настоящее таинство мужской дружбы. Не только в аванс или получку, а и в обычные дни часто находился у них повод прогуляться после смены в пионерскую рощу. Друзья завели такую специальную грелку, в которой выносили этот «повод» с завода. Роща начиналась вскоре за заводским забором – ее и высаживали в качестве санитарной зоны между химзаводом и городком. Вечерние косяки работяг процеживались сквозь зеленый фильтр, пьющие оседали, застревали в кустарнике, как рыбешка в китовом усе, и в результате их бесчувственные тела меньше потом засоряли улицы городка.
Наши друзья шли на собственное, давно ими облюбованное укромное место. Распитие грелки требовало сосредоточенности и не терпело посторонних глаз. Все разновидности заводского пойла чрезвычайно трудно усваивались организмом и только при помощи специального набора приемов, выработанного годами тренировки. Молодежь с третьим-четвертым разрядами просто раз за разом блевала, повторяя «заходы», прежде чем «приживется» очередная порция. «Старики» же, вы-учась искусно управлять своими внутренностями, могли даже обходиться почти без закуски, пользуясь разве что березовым побегом или сорванным здесь же в роще листиком щавеля. Пили Попов с Савельевым из «дежурного» стакана, который с собой не уносили, а оставляли в роще, вешая вверх дном на древесный сучок. Зимой и летом стакан неизменно встречал товарищей на привычном месте, вызывая у них приятное ощущение устойчивости бытия. В часы неторопливых попоек лишь этот рыжий стакан, давно утративший былую прозрачность, составлял им испытанное общество. А на полянах гомонили шумные компании: заводчане приходили в рощу порой целыми бригадами и оскверняли вечер производственными разборками, переходившими иногда в рукопашную. Часто и наших друзей зазывали на лихие сборища, но они отказывались: им уже милей были покой и тихая беседа. О чем? О жизни: о бабах, о детях, о старости и о многом таком, что можно доверить только рыжему стакану... Они разговаривали так тихо, что, наткнувшись в сумерках, их можно было принять за два шелестящих дерева, и однажды, собственно, так и случилось...
Шла как-то вечерней рощей собирательница Любка (по фамилии то ли Лапутина, толи Лазутина). В одной руке несла Любка авоську, а в другой – палку. Палкой она, что-то ища, шерудила в траве, а найденное складывала в авоську. Искала она, конечно, не грибы, не ягоды, а пустые бутылки – это и был ее промысел. Шла Любка, тыкая своей палкой, как слепая, и надвигалась прямо на Попова с Савельевым, которые, замолчав, с любопытством за ней наблюдали. Вдруг вместо дерева палка стукнула по мужской ноге.
– Ай! – вскрикнула Любка, отпрянув.
– Чего орешь? – строго спросил Попов.
– Очинно испугалась... – баба смущенно улыбнулась, показав немногочисленные зубы.
– Не бось, не укусим.
Любка уже оправилась. Чуток постояв, она сказала:
– Здрасьтё...
– Здорово, здорово.
Она еще помолчала, затем поинтересовалась:
– Мужчины, у вас «пушнины» нету?
– Чего?.. Нету. Видишь, из грелки пьем.
Но баба не уходила, а продолжала застенчиво переминаться. Наконец она отважилась:
– Ребята, а я вас знаю...
– Ну и что? – равнодушно отозвался Попов.
Любка я... И жену твою знаю...
– Ну и хуй с тобой.
Она боролась с застенчивостью:
– Вы мне это... двадцать капель не плеснете?
Друзья переглянулись:
– Из нашего стакана? Иди ты...
– Зачем из вашего, – заторопилась Любка, – у меня свой есть.
Они переглянулись опять.
– Ну что, плеснем ей? – предложил Савельев.
– Ладно, давай... – согласился Попов. – Только, ты слышь, у нас заводской, – предупредил он бабу.
– А мне ништяк! – просияла она. – Спасибо, мальчики!
В другой раз они бы ее отшили, но тут дали слабину: видно, были уже «втертые», Любке налили, потом еще, и завели с ней снисходительный разговор.
– И как же дошла ты до такой жизни? – спросил ее Савельев.
– До какой? – не поняла Любка.
– До такой... Бутылки собираешь... и зубов вон у тебя не осталось.
Она заморгала глазами, хрюкнула носом, да и заплакала:
– Ы-ы-ы... Много я горя видела...
– Какого еще горя? Небось, все по этому делу... – Попов, усмехнувшись, щелкнул себя по горлу.
– Ох, не знаете вы жисть мою... ы-ы... – скулила она, размазывая слезы.
Друзья выпили еще по полстакана, отдышались, помолчали. А баба все не унималась.
– Экая слезливая попалась... – Попов задумчиво посмотрел на Любку. – Что с ней делать?.. Слышь, Савельев, вроде не старая еще... Может, отдерем – что ей, за так наливали?
При слове «отдерем» Любка перешла на вой и в страхе поползла прочь.
– Эй, дура, ты куда? – удивились они.
– Чего я вам сделала? – заголосила баба. – Я вам что, не даю? Ебите, если хотите, а драть-то зачем?
– Э-э, да ты и правда дура! – засмеялись мужики. – Мы ж про то и говорим! Ползи обратно...
Алкоголь и потемки – лучшие гримеры: что-то они такое сделали с собирательницей бутылок, что даже Попов с Савельевым соблазнились на грех. Разложив безотказную Любку, они ласкали ее одновременно и каждый по-своему. В то время пока практичный Попов, задрав несвежий подол, направился прямиком в ее грешные недра, Савельев – кто б мог представить – целовал ее в беззубые уста!
Долго ли, коротко совершалась их оргия, но наконец угасла. Как угас и день – роща погрузилась во мрак. Попов, пошатнувшись, встал с лесной подстилки, помочился и бережно спрятал свое «хозяйство». Сделав дело, он склонился, вглядываясь в лежащие тела... Савельев с Любкой спали, обнявшись, будто юная пара, утомленная любовью где-нибудь на цветочном лугу. Попов хотел разбудить друга, но передумал; усмехнувшись, он отнял руку и выпрямился. Он постоял в задумчивости, потом вздохнул и побрел один, ощупью находя в темноте дорогу.
Савельев очнулся на рассвете; тело его свело от холода и сырости. Он с трудом сел и огляделся: Любки не было; рядом с ним валялись только рыжий стакан в росе и пустая грелка. Савельев нарочно задрожал, пытаясь согреться, и задвигал плечами. Из-за кустов неожиданно выбежала собака, гавкнула и скрылась. Он еще немного посидел и попробовал встать; голова его закружилась, и Савельеву пришлось прислониться к дереву. Стоя так, он увидел сквозь ветки медленно бредущую по роще женскую фигуру; вглядываясь в траву, женщина что-то искала...
– Люб!.. – хрипло позвал Савельев.
Женщина услышала и пошла на голос.
Когда она приблизилась, он понял свою ошибку: это была не Любка, а его жена Райка.
– Ты чего тут делаешь? – спросил он, протирая глаза.
Она ответила не сразу, а сделала паузу, глядя сурово в упор на перепачканного супруга.
– А ты как думаешь? – молвила она мрачно.
Райка еще постояла, потом круто повернулась и пошла прочь. Савельев отлепился от дерева и нетвердым еще шагом стал ее догонять. Они шли домой в молчании, хлюпая промокшей от росы обувью.
– Рая! – вдруг подал голос Савельев.
Она обернулась:
–Ну чего тебе?
– Ничего...
Он не стал говорить, а про себя решил, что больше никогда не будет с ней драться.
Напраслина
Весело начинается рабочий день в заводе. Если ты не с «бодуна», если не успел с утра полаяться со своей «коброй» – хорошо! Но и то не беда – пройдешь вахту и все с себя отрясешь: в заводе другой мир, и ты, как в сказке, обернешься здесь другим человеком. Сколько таких примеров: там, за забором, ты Иван-дурак, а тут у тебя другая ипостась – Иван Иваныч, знатный фрезеровщик. Вторая после проходной переправа – раздевалка: в ней окончательный раздел с зазаборьем; сбросив неуклюжую «гражданку», здесь ты облечешься в природную свою шкуру – робу, – повторяющую любовно все причуды твоей анатомии.
Раздевалка, «бытовка» наполняется с утра мужскими голосами. Раздаются приветствия, хлопают звонко ладони, спины гулко бухают. Залязгали железные шкафчики. Вот оголились первые торсы, запрыгали по войлочным коврикам лохматые ноги. Голоса весело перекликаются, густые и тонкие, хриплые и чистые, но трудно угадать, какой голос в каком устроен теле. Тел здесь тоже полный ассортимент: всех степеней атлетизма, полный набор конопушек и родинок, вся география волосатости. Шеи пока благоухают, но скоро, скоро трудовой пот вымоет из пор лосьоны... Ноги ныряют в промасленные «комбезы», тулова облекаются в рубахи, давно позабывшие свою расцветку. С притопом надеваются тяжелые ботинки-«говнодавы»; мало проветрившиеся за ночь, они с силой выдыхают хозяевам в нос... Готово? А вот и звонок к началу смены.
И пошла лавина по коридорам, по переходу в цех – можно даже испугаться. Эй, кто там в белом халате, посторонись, не то запачкаем, толкнем ненароком... Прошла лавина, и вдруг – как последний камушек: топ-топ-топ... Догоняй, не опаздывай, не отрывайся от коллектива!
Ждет тебя твой зеленый друг – токарный, фрезерный, зубонарезной – только что не ржет приветственно. Обметен, прохладен, слегка попахивает железом со сна... Сейчас, дружок, уже скоро... Мастер, что у нас на сегодня?.. Лягут сами ладони на отполированные рукоятки – пуск! И он запоет, и душа твоя запоет! Звонко зашелестев, брызнет стружка; нежная, чистая покажется обнаженная сталь – как головка ребенка между ног роженицы, как залупа в бережной мужской руке. Вы вдвоем сделали третьего; его увезут на тележке, куда – неизвестно, где проведет он жизнь – незнамо... но сейчас это ваше дитя, и ты любовно принимаешь на руки его теплое тельце.
Хорошо начинался день в цеху. Колокольно звенели болванки; трогался кран и выл, набирая ход; там и сям подавали голоса станки и люди... Баулин любил это время. В чистой спецовке, в неизменном берете он степенно проходил станочным междурядьем, кому кивая, кому пожимая шершавую руку. Минуя «птичник» (загон-возвышение посреди цеха), он солидно «ручковался» с начальством. Задания Баулин получал персональные, ибо токарь был классный, мастера перед ним заискивали:
– Вот, Степаныч, смотри, что инженера удумали... Как – сделаем такую хреновину?.. А?
Степаныч, надев очки, склонялся над чертежом.
– Ну как?.. Смогём?..
Баулин отвечал не сразу. Сняв берет, он гладил ладонью лысину, чесал задумчиво за ухом... Потом усаживал берет обратно и тогда только, нахмурясь, цедил:
– Попробуем...
Его «попробуем» означало, что он сделает. Мастер облегченно вздыхал:
– Ну и слава те... Ты только не спеши, это тебе на всю смену задание.
На последние слова Баулин хмурился и с достоинством возражал:
– Поучи дедушку кашлять!
Как среди деревьев дуб распускается последним, так и Степаныч едва ли не последним в цеху запускал свой станок. Но уже когда приступал он к работе, ничто не могло его отвлечь, разве обесточка завода. Рабочее место и инструмент свой Баулин содержал в исключительном порядке. Сама его железная тумбочка говорила за себя: всегда аккуратно выкрашенная, снабженная большим висячим замком. Дверца ее изнутри была оклеена не женскими задницами, а таблицами допусков и посадок. Станок Степаныча, такой же немолодой, как его хозяин, не знал чужой руки и никогда не ломался. Баулин не подпускал к нему ни сменщиков, ни наладчиков, и все в цеху знали: не хочешь скандала – не подходи к баулинскому станку.
За хороший труд и выслугу лет имел Степаныч орден – «Знак почета». Не раз профком награждал его грамотами и путевками. Но... будь ты хоть трижды орденоносцем, хоть членом парткома, не стоит забывать, что ходишь под Богом. В подтверждение этой мудрости, однажды и с Баулиным случилась оказия.
Работал он как обычно: творил какую-то замысловатую деталь. Вдруг в проходе между станками показалась Томочка-экономистка, выбранная недавно председателем цехкома. Она пробиралась, переступая туфельками через лежащие на полу заготовки и боязливо сторонясь гудящих машин. Рабочие весело посвистывали ей вслед, и только один Баулин не обращал на Тому внимания, хотя направлялась она именно к нему.
– Петр Степаныч! – голос ее за шумом станков показался писком.
Он не обернулся, а лишь махнул рукой: обожди, мол. Дамочка еще постояла и, набрав воздуха, опять закричала:
– Петр Степаныч, пожалуйста!
Баулин досадливо крутнул головой и выключил станок. «Концами» он не спеша вытер руки и, сдвинув очки на нос, строго поверх посмотрел на Тому.
– Ну? – недовольно буркнул он.
Под мышкой цехкомша зажимала папочку.
– Грамоту принесла? Давай...
– Нет, Петр Степаныч, не грамоту... – она оглянулась и понизила голос: – Тут неудобно... Бумага на вас... Вы поднимитесь, пожалуйста, в контору.
– Что еще за бумага? – посуровев, переспросил Баулин, но, покосившись на рабочих, быстро пообещал: – Ладно, приду.
Спустя полчаса он поднялся в ее кабинет. Вид у него был сердитый, и, не дав Томочке открыть рта, Степаныч с порога заругался:
– Вам что, ёшь вашу, делать нечего?! Бумажка, поди, прошлогодняя из вытрезвителя... Порвали б, и дело с концом!
Но цехкомша, слегка порозовев, возразила:
– Нет, Петр Степаныч, не из вытрезвителя... Вы сами почитайте...
И она, раскрыв свою папочку, подала ему несвежий тетрадный листок, отмеченный, однако, каким-то входящим номером. Степаныч, нацепив очки, принялся разбирать корявые строки. Писалась бумага, наверное, с не меньшим трудом, чем прочитывалась:
«Мы жители деревни бывшая Мутовки ныне относимся к горсовету Козлова М. М. и Курипанова М. К
ЗАЯВЛЯЕМ
Оградите молодую семью. Николаева Анна по улице 2-я Мутовская дом 3 пользуется что муж проводник развела притон. Ваш коммунист Баулин несмотря что на Городской Доске Почета ходит к этой Аньке. К ней пососедски пришли сказать что у ней корова съела нам капусту. А он сидит в трусах и мне сказал пошла вон. Примите немедленные меры к таким которые позорят Доску Почета а Витька у ней слабосильный и сам поучить не может».
Баулин побагровел и гневно засопел. Томочка смотрела испуганными глазами.
– Из парткома переслали, – сообщила она почти шепотом. – Говорят; разберите на профсоюзе...
Степаныч, удерживая злость, что-то соображал... Наконец до него дошло, и он взорвался;
Что они там уху ели?! Я им разберу, ёшь иху... И ты тоже хороша, «Тома из цехкома»... навыбирали вас!
Она чуть не заплакала;
– Я-то чем виновата?
– На какой это я Доске висю... вишу, по-твоему?
– Как, на какой – на нашей...
– От дура! То-то, что на нашей! А здесь написано: на городской! Ты читать умеешь? – он бросил бумажку на стол.
– Там же фамилия стоит: Баулин...
– Я что – один в городе Баулин? У нас Баулиных пол-улицы!
Действительно, в том году его не представили на городскую Доску, потому что там и так висели двое Баулиных – пропитчик из первого цеха и директор техникума. Степаныч велел Томочке впредь думать правильным местом и гордо покинул кабинетик, оставив цехкомшу одну, обескураженную и недоумевающую. Следствия проводить не стали, и мутовское заявление дальнейшего хода не имело...
Однако происшествие получило неожиданное продолжение. Неизвестно, каким образом, история с «заявой» добралась до ушей баулинской жены, Дарьи Гавриловны. Она не дослушала объяснения, на какой Доске висит ее супруг, а сразу избила его, чем пришлось под руку, именно – половой тряпкой. Тряпка оставляла на Степанычевой лысине грязные следы, а он только бормотал: «Даша... Даша...» – и тщетно прикрывался руками. Задав перцу Степанычу, Дарья Гавриловна не успокоилась и на следующее утро совершила карательную экспедицию в Мутовки. Найдя Аньку Николаеву в собственном доме, она сделала то, что не получалось у слабосильного Витьки: схватив Аньку за волосы, Дарья крепко била ее мордой о кухонный стол. Гавриловна хотела переколотить всю посуду, но Анька, пуская из носу кровавые пузыри, так убедительно открещивалась и верещала, что знать не знает ейного мужа, что кухня уцелела. Отдышавшись, бабы помирились и, уже вдвоем наведавшись к клеветнице Машке Козловой, от души ее отметелили, чтобы у нее вовек отпала охота к подметному творчеству. Соавторшу ее, Курипанову, не нашли (ее счастье!), потому что она, заслышав соседкины вопли, где-то спряталась и отсиделась.
Историю эту Сергееву рассказал в курилке сам Петр Степаныч. Закончил он ее печальным вздохом и словами:
– Вот, брат, какой вышел анекдот...
Сергеев помолчал, затянулся и, скосив глаза на зашкворчавшую сигарету, заметил:
– Но ведь дыма без огня не бывает... а, Степаныч?
– В каком смысле?
– Ну... признайся – небось, и правда ходил к этой Аньке?
– Ну и что? – удивился Баулин. – А кто к ней не ходил? Не на всех же кляузы строчат... Вон, Томочка наша у начальника со стола не слезает, и что? Мы ж не станем на них писать!
– Нет, конечно. На своих, как можно?
– Я и говорю... В коллективе все по-людски, а там... хоть не ходи за проходную, – и Баулин потер многострадальную лысину.
Переезд
Вечерело медленно и незаметно, безо всяких там зорь и закатов – у нас так бывает. Как в кино – механик убирает диафрагму: убирает, убирает, и все – до завтра. Вуаль, муар... как это называется? Словом, на городок нисходили сумерки. Дали становились неясными, расплывались, будто зрители, расчувствовавшись, прослезились к концу сеанса.
Финальную сцену дня и впрямь наблюдало у переезда довольно много людей: водители скопившихся автомашин, их пассажиры и, конечно, сам машинист маневрового тепловоза, второй час уже загораживавшего дорогу. Высунувшись по пояс из кабины и мужественно нахмурясь, машинист напряженно вглядывался куда-то по ходу состава, словно вел его на большой скорости. Наконец, получив таинственный знак, он скрывался в кабине; тепловоз давал энергичный свисток, трогался, и прицепленные к нему три вагона принимались возбужденно лязгать. Шоферы бросались к машинам; вспыхивали фары, дорога окутывалась дымами заговоривших моторов... Увы – шлагбаум не хотел открываться, и через минуту из леса показывались знакомые вагончики, толкаемые все тем же проклятым тепловозом; машинист, не меняя мужественной осанки, смотрел теперь в обратную сторону... Канитель эта началась еще засветло, а сейчас уже и машинист, и тепловоз его были почти неразличимы в густых сумерках.
Городок привык к своему переезду, но неудобства от него нельзя было не замечать. Переезд служил всегдашним поводом для местного злословия. В самом деле: самосвалам приходилось вываливать раствор, чтобы не «закозлился» в кузове; «Скорая помощь» часто бывала совсем не «скорой», а иногда уже и не «помощью». Даже похоронные процессии попадали из-за переезда в нелепое положение: скорбящие от нечего делать разбредались по обочинам, а покойники оставались одни, и хоть им-то спешить было уже некуда, лежали, казалось, с выраженьем скуки. Конечно, пешие жители и беззаконные мотоциклисты пересекали «железку» когда хотели, на свой риск, однако все же городок платил немалую ежедневную дань переезду, а стало быть, каждому, кого проносили мимо скорые и дальние поезда.
Сидя в остывающем автобусе, Никишин изнывал не столько от ожидания, сколько от неумолчного трепа своего соседа. «Вот повезло... – с тоской думал Василич. – Навязался, перец...» Фамилия «перца» была Зачёс; когда-то они с Никишиным вместе работали, но уже лет двадцать не попадались друг другу на глаза. Теперь Зачёс восполнял пробел в ники-шинских знаниях об его, Зачесовых, обстоятельствах. Изо рта его дурно пахло, и вонь эта гармонировала сего речами: «Сеструха – сука... невестка – блядь... смерти моей ждут...» – доносилось до Василича. Он отвернулся к окну, но Зачёс, навалившись, приник и продолжал смердеть ему в лицо: «Ждут, чтобы я дом им подписал... А вот им! Что они вложили?» – «Тебе-то на том свете дом не нужен будет... – пробормотал Никишин.– Пусти-ка, я выйду...» Зачёс с сожалением его выпустил. Качнув автобус, грузный Василич выбрался на воздух. Беззвездное небо совсем уже погасло. Шофера, собравшись в кучку, что-то, смеясь, травили и даже не взглядывали в сторону переезда. «Сколько же еще простоим? – с досадой прикинул Никишин. – Нет, надо домой возвращаться, все равно Катьку уже спать положили...» Он постоял еще немного, потом сплюнул под ноги и побрел восвояси.
По улицам городка тянуло приятным запахом дровяного дыма. Во всех домах уже затеплились окна, и по цвету их можно было сообразить, мимо чьего дома ты идешь: занавески горожане не меняли по многу лет. Люди собирались под крыши, а собаки, отпущенные на ночь, выходили на улицы и церемонно здоровались друг с другом. Их взбрехи там и сям, обрывки людского говора, миганье разноцветных окошек – все показывало, что городок одушевлен, наполнен тихой, но повсеместной жизнью. Лишь громада собора, тяжко поправшая монастырский холм, нависала немо и слепо, едва пропечатываясь на темном небе. На его уступах и на месте порушенного купола вместо крестов росли целые березы, мощную кладку изъязвило лихолетье. Собор и присные церкви стояли заколоченные, мрачно и даже величественно пережидая стрясшуюся с ними беду.
Туда, в сторону старого монастыря, держал путь Никишин. Как ни странно, жизнь не вся покинула это место: там, в бывших монашеских кельях, в здании бывшего странноприимного дома, в стенах и даже в бывшей Надвратной церкви обитали люди. Подобно насекомым, мышам либо иным паразитам, заселяющим безнадзорные и погибающие строения, они, впрочем, с благословения властей, обжились тут давно. Когда это случилось, то есть когда советская власть закрыла монастырь и первые поселенцы из числа приезжих пролетариев поместились в теплых еще кельях, в далекой стране Испании шла гражданская война. Видимо, поэтому место, принявшее людей, так похожих на беженцев, жители прозвали Мадридом. Парии среди горожан, мадридцы всегда жили обособленно. Из больших городов пришельцы занесли в Мадрид дурную привычку решать все споры кулаками, а то и при помощи ножей или кастетов. Поэтому район этот быстро приобрел дурную славу, так что даже теперь, спустя четыре десятилетия, горожане старались без нужды в Мадрид не наведываться.
Однако Никишин не боялся мадридского жиганья. Он был свой человек в этих трущобах, знал тут каждого, и все знали его. К тому же, несмотря на пожилой возраст и развившуюся с годами тучность, он еще вполне мог постоять за себя: кулак его способен был свалить если не быка, то уж хорошего теленка без сомнения. Страх не страх, но какую-то робость внушали ему вовсе не хулиганы, а, стыдно признаться, человеческие кости на «куликовом поле», миновать которое ему предстояло. Это место когда-то было монастырским кладбищем; потом про него забыли; а недавно бульдозерист, ровнявший тут для чего-то площадку, обнаружил, что из-под ножа у него полезли черепа и части скелетов. Бульдозерист смекнул неладное и пошел к начальству, прихватив с собой для доказательства один череп.
– Давай, вызывай милицию или там кого хочешь, – заявил он своему прорабу, – а я так работать не буду. Мне на том свете неохота из-за них сковородки лизать! – и он постучал пальцем по желтому черепу.
Начальство, однако, не было столь суеверно – кладбище все же перекопали. Какое-то время кости вперемешку лежали на земле, и тогда народ прозвал это место «куликовым полем». Потом кости собрали в кучу, подогнали самосвал, погрузили и увезли в неизвестном направлении. Но собирали безвестные прахи неаккуратно, как у нас собирают колхозную картошку: там и сям вновь и вновь из земли показывались то чьи-то ребра, то берцовая кость. Люди боялись ходить нехорошим пустырем, и даже Никишин, как было сказано, шел через бывшее кладбище с неприятным чувством.
Солидный возраст и полнота – не подспорье для пешехода. К тому же Василич сделал глупость, решив обойти пустырь по краю. Он попал ногой в какую-то яму, потерял равновесие и неуклюже упал на землю. Из сумки его выкатилась, заголосив, «неваляшка», купленная для внучки. «Неваляшка» поднялась, уставясь на Никишина круглыми глазами, а он продолжал лежать, соображая, сильно ли повредился. Полежав с минуту, Василич потрогал свою ногу... и крякнул от боли:
– Ух, ё!..
Никишин отдышался и уже членораздельно выругался...
В это время Манефа тоже возвращалась домой. Она гораздо лучше Василича ориентировалась в темноте, не страдала лишним весом и одышкой, а потому добралась без происшествий. Большая коммуналка, в которой они жили, устроена была в Надвратной церкви. Дверь, ведущая внутрь монастырской стены, никогда не закрывалась; Манефа легко и привычно взбежала по потертым шатким ступеням на второй этаж Попасть в квартиру тоже не составило труда: стоило ей громко объявить о своем приходе, как обтянутая драным дерматином дверь открылась, и ее впустили.
– А Василича нет дома, – сообщил Санька и, обернувшись, крикнул в глубь квартиры: – Мам, Манефа пришла – ее кормить?
– Не надо, у нее лежит, – отозвался равнодушный женский голос.
Манефа нежадно поужинала на кухне и принялась ждать Никишина. Она давно уже изменила кошачьему обычаю гулять по ночам, предпочитая мирный сон на животе у Василича или, если он слишком расхрапится, на шкафу... Но хозяин все не шел. Запертая дверь в их комнату была единственным препятствием, преодолеть которое самостоятельно Манефа не могла. Оставалось только сидеть и ждать, когда послышатся тяжелые шаги и знакомое сопение.
Между тем коммуналка, наполнившись почти всеми своими обитателями, начинала ежевечерний фестиваль: из-за каждой двери, закрытой, приоткрытой, а то и без стеснения распахнутой, доносилась своя «постановка». Вот Нинка грозится Саньке ремнем, если тот не выучит к завтрему «стих»... Вот Генриетта Мйрковна ругает своего Адика-студента за то, что запустил триппер... Вот баба Нюся расследует, откуда в ее борще взялся черный таракан... Манефа сидела, безучастно жмурясь, и только хвост ее порой укоризненно вздрагивал при слишком громких человечьих вскриках.
Хлопнула дверь дяди Они; благоухая, как всегда, лошадиным навозом и керосином, извозчик прошел по коридору, едва не наступив на кошку.
– Не сиди на проходе! – ругнул он ее.
Иона зашел в сортир и,, не успев еще закрыть дверь, громко пустил ветры. Керосином от него несло потому, что они вместе с мерином Щорсом работали на нефтебазе: развозил и но городку керосин. Ионе давно пора было на пенсию, а Щорсу – на живодерню, но, поскольку расставаться им не хотелось, приходилось таскать каждый день эту бочку с мало кому уже нужным нефтепродуктом.
Василич все не возвращался. Манефа легла на живот, подвернув передние лапы. Место дяди Они в сортире занял Адик-студент с газетой, которую коммунальная интеллигенция употребляла с двойной пользой. Мать его, Генриетта Марковна Шварц, преподавала в сельхозтехникуме немецкий язык, а двадцативосьмилетний Адик, хотя и работал грузчиком в овощном магазине, учился заочно в каком-то институте. Однажды Генриетта по нечаянности дала Адику в сортир газету, в которой принесла из хозмага поро-шок-«синьку*. Квартира не забудет, какой концерт закатил на кухне нервный студент, матеря мамашу и показывая присутствующим свою синюю задницу.







