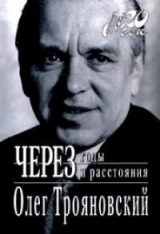
Текст книги "Через годы и расстояния (история одной семьи)"
Автор книги: Олег Трояновский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Помог потеплению в советско-американских отношениях беспосадочный полет из Москвы в США через Северный полюс В. П. Чкалова, Г. ф. Байдукова и А.В. Белякова летом 1937 года. Он произвел в США настоящий фурор. Отец специально полетел на западное побережье Соединенных Штатов, чтобы встретить там героический экипаж, который приземлился на военной базе близ города Ванкувера.
Пару дней они жили в доме командующего военным округом генерала Джорджа Маршалла, который впоследствии прославился во время войны на посту начальника Генерального штаба армии США, а затем – в качестве государственного секретаря и министра обороны. Не исключено, что Рузвельт впервые обратил внимание на малоизвестного генерала именно в связи с полетом чкаловской тройки. Будучи в Москве в 1947 году на совещании министров иностранных дел четырех держав, Маршалл выразил Молотову желание посетить вдову Чкалова. Никакого ответа на эту просьбу он почему-то не получил.
Из Ванкувера летчики в сопровождении посла отправились поездом в небольшое турне по Америке: Сан-Франциско – Чикаго – Вашингтон – Нью-Йорк. По пути на всех станциях состоялись торжественные встречи, а в больших городах – многолюдные митинги и банкеты.
Любопытный случай, характерный для поведения сотрудников Госдепа, произошел в Вашингтоне. Считая, что подвиг советских летчиков заслуживает того, чтобы они были приняты президентом, посол обратился с соответствующей просьбой в Госдепартамент. Вскоре поступил ответ: президент очень занят, да и случай не такой уж выдающийся, чтобы отрывать его от дел. Получив такой не очень вежливый ответ, отец позвонил Маргарите Леханд, личному секретарю Рузвельта, и повторил свою просьбу. Она ответила, что постарается что-нибудь сделать. Через час позвонили из Госдепартамента и сообщили, что они еще раз подумали, связались с Белым домом и могут сообщить, что президент будет рад принять советских летчиков.
Рузвельт оказал Чкалову и его товарищам очень теплый прием, высоко оценил их подвиг, сказал, что они как бы приблизили Советский Союз к Соединенным Штатам. В столице их принял также Хэлл и некоторые другие высокопоставленные лица.
Через несколько дней после отъезда летчиков из Нью-Йорка наша семья отправилась в отпуск. Мы присоединились к ним в Париже и дальше до Москвы ехали вместе. Когда поезд пересек границу, на каждой остановке толпы людей приветствовали героев, «покоривших пространство и время», как тогда пели. Энтузиазм был неподдельный. Пожалуй, то, что происходило тогда, Можно сравнить только со встречей Гагарина после его полета в космос. На каждой остановке Чкалову, Байдукову и Белякову приходилось выступать с речами. Наконец они настолько обессилили, что в некоторых случаях просили отца выступить вместо них. В Москве толпы заполнили площадь перед Белорусским вокзалом всю улицу Горького до Кремля. Летчики и отец вместе с ними отправились прямо на прием в Георгиевский зал, а мы с матерью поехали к себе домой на Малую Бронную. Вскоре после нашего приезда туда нам позвонила жена Молотова Полина Семеновна Жемчужина которая сказала, что посылает за нами машину. Когда мы приехали в Кремль, прием был в полном разгаре Роль тамады исполнял Молотов. Среди прочих был такой тост: «За наших выдающихся дипломатов – Литвинова и Трояновского!»
Через несколько дней отца принял Сталин. Он был очень доволен приемом, оказанным летчикам в Соединенных Штатах, и считал это хорошим признаком, так как был убежден, что такое не могло произойти без одобрения и поощрения Белого дома. Отец не стал отрицать этого, но, вернувшись домой, сказал, что Сталин все-таки плохо представляет себе, как функционирует американское общество.
Хотя в своих письмах и телеграммах в Москву отец сам постоянно подчеркивал, что на данном этапе советско-американских отношений и в обозримом будущем решающую роль играет фигура Франклина Рузвельта «Нам надо считаться с фактом, что судьба наших отношений с США в известной мере связана с судьбой самого Рузвельта. Если он потеряет свое влияние, отношения ухудшатся, и договориться будет труднее. Если он укрепится, отношения улучшатся, и можно будет достигнуть договоренности…» В письме от 21 октября 1936 года, то есть накануне президентских выборов, отец вновь писал о важности победы Рузвельта. Победа эта состоялась, причем с таким подавляющим преимуществом, какого не было в истории США ни до того, ни после.
Отец был шокирован, когда в письме Литвинова от 26 марта 1938 года прочитал: «Рузвельт и Хэлл продолжают дарить мир своими проповедями, но в то же время палец о палец не ударяют в пользу мира. На фоне сохранения закона о нейтралитете и неограниченного снабжения Японии оружием означенные проповеди становятся тошнотворными».
В Москве, видимо, действительно до конца не понимали ситуацию в США, где изоляционистские, нейтралистские и пацифистские Настроения все еще были весьма сильны, и ими пользовались реакционные силы, заинтересованные в сохранении дружественных отношений со странами-агрессорами. Тактика Рузвельта заключалась в том, чтобы, не забегая вперед, постепенно подводить страну к пониманию того, что и сами Штаты не гарантированы от агрессии, а потому не должны стоять в стороне от борьбы против сил, развязывавших войну.
И нужно сказать, что, несмотря на конфликтные ситуации, возникавшие в советско-американских отношениях в 30-е годы, отцу удалось сохранить хорошие личные отношения с президентом. В нескольких его беседах с Рузвельтом возникал вопрос и о Японии, о чем я уже говорил, и о гитлеровской Германии, хотя и реже. Можно было понять, что на том этапе Рузвельта больше беспокоила угроза со стороны Японии. Тем не менее 24 декабря 1936 года на банкете, который традиционно устраивался журналистами в честь президента в Гридайрон-клубе, где советский посол сидел рядом с Рузвельтом, последний ему сказал, что предвидит возникновение большой войны в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и Советский Союз будут союзниками в этой войне и победят, а после победы перед ними возникнет сложная задача реконструировать мир на новой основе.
Там же, в Гридайрон-клубе, Рузвельт расспрашивал отца о Сталине и Ленине как об ораторах. Он говорил, что сам стремится к простоте и общедоступности своих выступлений, вплоть до того, что старается реже использовать слова романского происхождения, а чаще – с англо-саксонскими корнями. Обращал он внимание также на то, что в своих предвыборных выступлениях никогда не упоминает фамилию оппонента. «Зачем, – сказал он, – создавать ему лишнюю рекламу». Затем он высказался о Троцком как о краснобае. Отец выразил надежду, что краснобайство Троцкого не будет слышно на территории США. Рузвельт подтвердил это и добавил, что мексиканское правительство, на его взгляд, совершило ошибку, дав Троцкому убежище на территории своей страны.
Было бы наивно идеализировать Рузвельта, изображать дело так, будто он все видел, все понимал и прежде всего заботился об укреплении отношений с Советским Союзом. Это был умный и гибкий политик, который порою шел к своей цели не напрямик, а обходными путями. Многое в его действиях определялось внутриполитическими соображениями и, конечно же, национальными интересами США, как он их понимал.
Однажды – это было примерно в мае 1936 года – отец показал мне письмо, полученное им дипломатической почтой. Он закрыл рукой основную часть письма и показал мне только концовку. Насколько я помню, там от руки было написано: «Прошу сделать это лично для меня. И. Сталин».
Как я узнал много лет спустя, в письме содержалось поручение договориться с американцами о строительстве в Соединенных Штатах двух сверхтяжелых линейных кораблей с 16-дюймовыми орудиями. Начались затяжные переговоры. По указанию из Москвы к ним был подключен американский бизнесмен Сэм Карп, который в сентябре 1936 года создал в Нью-Йорке фирму с единственной целью добиться строительства для Советского Союза одного или двух самых мощных для того времени военных кораблей. Это был родной брат уже упомянутой мной Полины Семеновны Жемчужиной, жены председателя Совнаркома В. М. Молотова, девичья фамилия которой была Карповская (отсюда и Карп). Осенью 1936 года в Нью-Йорк прибыла и сама П. С. Жемчужина. С какой целью, для меня осталось загадкой. Отец ничего мне об этом не говорил, так что я могу только догадываться.
Решение поставить Сэма Карпа во главу переговоров о военных кораблях было далеко не лучшим вариантом. Он был мелким бизнесменом, и, хотя располагал значительными средствами, полученными от советской стороны, такой крупный проект, как строительство двух огромных линейных кораблей, был ему просто не по плечу. К тому же американцы отнеслись к нему с большой долей скепсиса и открыто говорили, что было бы гораздо солидней, если бы этим проектом занимался советский Амторг или какая-нибудь известная американская фирма.
Посольство занималось указанным проектом в тех случаях, когда необходимо было подключить к нему государственные учреждения США. Это была сложная работа. Сначала против сделки с линкорами выступил Государственный департамент. Когда же он снял свои возражения, уперся министр военно-морских сил Клод Суансон. После того как удалось преодолеть и его сомнения, продолжали вставлять палки в колеса высшие офицеры его министерства.
Когда проект стал приобретать реальные очертания, Государственный департамент доложил состояние дел президенту Рузвельту. 3 апреля состоялось заседание кабинета министров, где рассматривался этот вопрос. Согласно записям в дневнике министра внутренних дел Гарольда Икеса, министр Суансон на этом заседании фактически не сказал ни да ни нет. Сам же президент не имел возражений против того, чтобы линкор или линкоры были построены в США. Он поручил Суансону найти частную судостроительную компанию, которая взялась бы за постройку кораблей.
Однако высшие чины военно-морского ведомства и особенно руководство разведки военно-морского флота по-прежнему относились к этой затее негативно. Не без их участия в газетах стали появляться весьма тенденциозные сообщения, направленные против сделки с Советским Союзом. Под влиянием этих сообщений подрядчик, которым стала фирма Бетлехем, отказался подписать контракт с финансовой группой, возглавляемой Карпом.
Пытаясь позитивно решить дело, отец на одном из приемов сказал адмиралу Леги, который занимал пост начальника штаба военно-морских сил, что если линейный корабль удастся построить, то он, вероятнее всего, будет базироваться на Дальнем Востоке, а следовательно, сможет в случае военного конфликта противостоять вместе с кораблями США японскому флоту. Однако даже этот заход не получил положительной реакции.
В конце августа 1937 года президент Рузвельт, может быть, под впечатлением того, что японская агрессия распространилась уже на значительную часть китайской территории, заявил адмиралу Леги, что он «был бы доволен, если бы контракт, находившийся в стадии обсуждения, был осуществлен».
Но даже и после этого флотское руководство продолжало саботировать проект. Некоторые офицеры министерства военно-морского флота фактически шантажировали представителей различных частных фирм. Поскольку распределение американских заказов частным фирмам в значительной степени зависело от военно-морского министерства, давление со стороны его представителей имело значительный эффект.
В конце концов переход к практическим шагам в деле со строительством линкора или линкоров произошел в результате событий, происшедших не в Вашингтоне, а в Москве. Американский посол Джозеф Дэвис, сменивший Буллита, готовился покинуть свой пост. 5 июля 1938 года он нанес прощальный визит Молотову. К удивлению посла, после нескольких минут разговора с Председателем Совета народных комиссаров в кабинет вошел Сталин. В состоявшейся беседе он главное внимание уделил вопросу о линкорах. По словам Дэвиса, он сказал, что ему трудно понять, почему этот вопрос остается без движения. Советское правительство готово заплатить за строительство линейного корабля, который будет строиться в Соединенных Штатах, а также за техническую помощь со стороны американских фирм в строительстве дубликата в Советском Союзе, от шестидесяти до ста миллионов долларов, причем наличными.
Личное вмешательство Сталина сыграло свою роль. 8 июня Рузвельт, собрав у себя высших офицеров военно-морского министерства и чиновников Государственного департамента, подтвердил, что он одобряет строительство в США линейного корабля водоизмещением в 45 000 тонн. Он не только заявил, что отсутствуют какие-либо возражения против этой сделки, но повторил ранее сказанные им слова, что он лично очень надеется на ее осуществление. Не ограничиваясь этим, на сей раз он приказал министерству военно-морского флота оказать содействие конструкторам, судостроителям и советским представителям, которые будут участвовать в осуществлении проекта. Когда президента предупредили, что некоторые руководящие работники военно-морского министерства все же могут уклониться от поддержки проекта, Рузвельт посоветовал назначить ответственным за все мероприятие офицера в ранге адмирала.
В тот же день Государственный департамент сообщил советскому послу о принятых решениях. Однако, к удивлению американцев, в конце 1938 года советское руководство по какой-то причине пересмотрело свои планы и решило строить линкоры в Советском Союзе, разместив в США заказ только на вооружение для них.
Впрочем, это произошло уже после возвращения нашей семьи в Советский Союз летом 1938 года.
Можно ли считать работу отца в Вашингтоне успешной? Если судить о ней по конкретным результатам, ответ, пожалуй, должен быть отрицательным. Ему не удалось урегулировать ни вопрос о долгах и кредитах, ни выполнить личное поручение Сталина о строительстве в США линейных кораблей для советского флота. Но быть может, контакты, которые он установил во врем пребывания в США, особенно откровенные беседы президентом Рузвельтом, его многочисленные публичные выступления, интервью и пресс-конференции помогли заложить основы для более продуктивного советско-американского диалога в последующие годы, а за тем и для союзнических отношений во время войны.
К тому же отец неоднократно подчеркивал в своих письмах и телеграммах из Вашингтона, что в предстоящей мировой войне – а он не сомневался, что такая война вскоре будет развязана – роль США в поддержке антифашистских сил может оказаться неоценимой. Поэтому Советскому Союзу уже в предвоенные годы надлежит исходить из этого и строить свою внешнюю политику соответствующим образом.
Иван Майский в своих воспоминаниях пишет: «… Между Лондоном и Вашингтоном всегда существовали постоянные политические связи, и я из разных источников – английских, американских и всяких иных – часто получал сведения о работе Трояновского за океаном. Все эти сведения, как правило, были положительного характера. Быть может, ярче всего и вернее всего о нем сказал в разговоре со мной Гарри Гопкинс, когда мы встретились с ним летом 1941 года в Лондоне. Рассказывая о трудностях, с которыми было связано создание антигитлеровской коалиции, Гопкинс упомянул об Александре Антоновиче, который в это время уже не являлся советским послом в США.
– Это был хороший русский посол, – заметил Гопкинс. – Самое главное, он понимал американцев и американцы понимали его. Всегда была возможность договориться».
В годы репрессий
Известие об убийстве Кирова – Синдром патриотизма – Реакция американцев – На даче у Молотова – Сдержанность Микояна – Скепсис Литвинова – Хлопоты отца – Ночной звонок – Японцы из унитазов – Учеба в ИФЛИ – Да здравствует Пастернак! – Мысли о КГБ
В начале декабря 1934 года моя мать, военный атташе Клайн-Бурзин, его жена и я ехали на машине из Вашингтона в Филадельфию, где должен был состояться традиционный матч по американскому футболу между военной и военно-морской академиями. На заправочной станции я купил газету и на одной из последних страниц обнаружил небольшую заметку о том, что в Ленинграде убит местный партийный босс Сергей Киров. Я поведал об этом своим спутникам и был удивлен прямо-таки панической реакцией, которую это сообщение вызвало у военного атташе. Я тогда еще не мог себе представить, какие страшные последствия будет иметь это событие. То, что началось двумя-тремя годами позже, сегодня кто-то называет сталинским террором, кто-то – годами репрессий. Это была действительно полоса тяжелейших испытаний, в особенности для той категории людей – партийных, военных, дипломатических работников, – в среде которых вращалась наша семья.
Для меня первым сигналом надвигавшейся, а по существу, уже бушевавшей в Советском Союзе бури послужил разговор где-то в первой половине 1937 года с тогдашним корреспондентом «Известий» в Вашингтоне Владимиром Роммом. В прошлом он числился среди троцкистов. В тот день мы случайно встретились у входа в посольство. Не знаю, что побудило Ромма сказать те несколько фраз мне, семнадцатилетнему юноше. Наверное, у него было тяжко на душе, и его мучили нехорошие предчувствия, а потому и возникло непреодолимое желание с кем-нибудь поделиться своими опасениями. Так или иначе, но он промолвил тогда: «Знаешь, меня вызывают в Москву. И я чувствую, что это означает, но иначе не могу, не могу не вернуться».
Позднее стало известно, что по приезде в Москву Ромм был сразу арестован. Затем он выступал в качестве свидетеля на одном из крупных тогдашних процессов и «признавался», что выполнял чуть ли не роль связного между высланным за рубеж Троцким и его сторонниками в СССР. Можно не сомневаться, что Ромм был вместе с другими отправлен на тот свет. А нынче наверняка реабилитирован.
Возникает вопрос: что побудило его возвратиться в Советский Союз и тем самым обречь себя почти на верную смерть. Не было ли это проявлением того синдрома, который казался столь загадочным для многих, готовности пожертвовать собой, лишь бы не выглядеть в глазах друзей предателем дела, в которое человек верил и которому честно посвятил большую часть своей жизни. А это так бы и выглядело, если бы Ромм остался в США.
Но мучит и другой вопрос: почему многие поверили в то, что нарастающие изо дня на день репрессии справедливы? Конечно, тут сыграла свою роль массированная пропаганда. Но было и одно серьезное объективное обстоятельство. Это резко возросшая в те годы международная напряженность, вызванная агрессивность гитлеровской политики. Причем создавалось впечатление, что первой жертвой нападения Германии в блоке с Японией станет Советский Союз, слишком миролюбиво вели себя по отношению к Гитлеру политики Англии и Франции. Думаю, что это ожидание войны с Германией и служило в глазах многих определенным психологическим оправданием репрессий, направленных против немецких и японских «шпионов» и «агентов».
Такую же реакцию мы наблюдали и в Соединенных Штатах. Конечно, традиционно антисоветская пресса изобличала эту охоту на ведьм. Но многие американцы считали, что сообщения об арестах и судилищах – плод преувеличений и выдумок. Главная опасность для них исходила из Берлина. Думаю, что именно к этой части американцев относился и сам президент Рузвельт. Полагаю, что определенную роль играла и информация, которую он получал, от тогдашнего посла Соединенных Штатов в Советском Союзе Джозефа Дэвиса, который впоследствии в своих воспоминаниях о пребывании в Москве писал, что воспринимал как абсолютную правду все то, что он услышал на процессе Бухарина, Радека и других, где ему довелось присутствовать.
Воздерживались от резкой критики тогдашних порядков в Советском Союзе и многие американцы еврейского происхождения, если не большинство, уже тогда понимавшие, что Гитлер несет евреям гибель. Основатель и президент крупнейшей компании по производству электроники и радиотрансляционной техники Сарнов полушутя-полусерьезно говорил отцу, что, если Германия нападет на Советский Союз, он готов пойти добровольцем в Красную Армию. В это же время в США был создан Американский комитет по переселению евреев в Биробиджан, чтобы спасти их от преследований в других европейских странах.
Вообще в те годы в США под влиянием Большой Депрессии и Нового курса Рузвельта получили довольно широкое распространение левые настроения. Носители этих настроений склонны были смотреть на происходящее в Советском Союзе через розовые очки и рассматривать сообщения о массовых репрессиях как клевету на социалистический строй. Помнится, что, когда в сентябре 1937 года я впервые вошел в общежитие Суортморского колледжа, где мне предстояло провести один учебный год, я был удивлен, увидев на стенах студенческого общежития советские плакаты с карикатурным изображением троцкистов, которых красноармейцы пригвоздили к позорному столбу. Троцкий с его теорией «перманентной революции» имел репутацию ультралевого бунтаря, готового разжечь пожар в любой точке земного шара. На этом фоне Сталин выглядел как умеренный политик националистического толка, сосредоточивший внимание на построении социализма в одной стране. Поэтому в широких кругах американского общества Троцкий симпатий не вызывал.
Приехав в Москву в отпуск летом 1937 года, мы окунулись в атмосферу тревоги, подозрительности и какой-то непредсказуемости. По Москве ходила мрачная шутка: на вопрос: «Как живете?» – ответ: «Как в автобусе: половина сидит, половина трясется». Это был самый разгар репрессий, которые особенно больно отразились на том круге людей, с которыми общалась наша семья. Некоторые, если не большинство, наших знакомых к тому времени уже исчезли, другие не скрывали опасений за свою судьбу.
Было заметно, что чувства замешательства и настороженности проникли и в высшие сферы политики-Наш первый визит по прибытии в Москву был к Полине Семеновне Жемчужиной. Мы навестили ее в здании нынешнего ГУМа, где находился парфюмерный трест ТЭЖЭ, которым она руководила. После своей поездки в США в 1936 году Полина Семеновна прониклась какой-то особой симпатией к нашей семье. «Что же это творится, что же это творится! – восклицала она. – Вот теперь и Межлаука арестовали. Кто бы мог подумать!» (Межлаук был Председателем Госплана СССР.) И хотя она вроде бы прямо не подвергала сомнению закономерность арестов, все же в этих восклицаниях сквозили определенные сомнения. Впоследствии была арестована и сослана сама Полина Семеновна, ее освободила только смерть Сталина.
Жемчужина пригласила нас поехать послушать генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, который выступал где-то неподалеку с докладом перед общественностью. Речь Вышинского была полна победных реляций и гневного осуждения «врагов народа». Когда мы вернулись домой, отец спросил, обратил ли я внимание на высказывание Вышинского о том, что карательные органы обезвредили не только тех, кто совершил преступления, но и тех, кто мог бы их совершить. И с усмешкой добавил, что это нечто новое в юриспруденции.
В Москве мы побывали в нескольких домах высокопоставленных деятелей. Невольно обращали на себя внимание определенные нюансы в их высказываниях по поводу происходящих репрессий. Из всего, что пришлось слышать, наиболее непримиримо прозвучали слова В. М. Молотова, когда мы были у него на даче. В ходе беседы отец, который уже тогда хотел уйти с поста посла в Вашингтоне, упомянул о бывшем председателе Амторга Богданове в качестве своего возможного преемника. В ответ Молотов тоном, не терпящим возражений, заявил, что Богданов совершенно разложившийся тип и что давно пора разделаться со всей этой публикой. После такой реплики дальнейший разговор на эту тему становился бессмысленным. Позднее, во время моей работы в МИДе, мне не раз приходилось слышать Молотова, переходящего на этот жесткий тон, когда он хотел выразить свое недовольство поведением того или иного сотрудника. В этих случаях его голос приобретал какой-то металлический, чрезвычайно неприятный, отталкивающий оттенок.
Несколько раз мы побывали в гостях у Микоянов. Анастас Иванович и его супруга Ашхен Лазаревна незадолго до этого посетили США, где провели несколько недель, путешествуя по стране. Анастас Иванович по заданию Сталина знакомился с американскими предприятиями пищевой промышленности. Кое-что он потом внедрил в нашей стране, главным образом в Москве: Появилось фабричное мороженое, маленькие котлетки, получившие в народе шутливое название «микоянчики», сосиски в булках по типу американских хот догс. К сожалению, многое из этого потом ушло в прошлое.
Микоян был в хороших отношениях с отцом с давних времен, начиная с двадцатых годов. В тех случаях, когда мы бывали в гостях у Микоянов, Анастас Иванович воздерживался от каких-либо комментариев по поводу бушевавшей в стране арестной стихии. Зато с пафосом, в духе времени превозносил коллективизацию как победу над самым многочисленным эксплуататорским классом – кулачеством. Приходилось слышать много лестных слов о только что опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» и особенно о четвертой теоретической главе, написанной, как подчеркивалось лично товарищем Сталиным. Кстати говоря, когда садились за стол во всех этих высокопоставленных домах существовал ритуал – первый тост всегда провозглашался за товарища Сталина.
Несколько иной дух витал в доме Литвинова, в то время он еще оставался народным комиссаром иностранных дел. Там даже не пытались скрывать своего скептического, а то и саркастического отношения к царившему в стране беспределу. Когда отец упомянул о ком-то из общих знакомых, кого окрестили шпионом, Максим Максимович заметил: «А что же тут удивляться, теперь все шпионы, а если кто-то еще не шпион, то в любой день может им стать».
Время от времени, хотя все реже и реже, к нам домой наведывались сослуживцы отца по Госторгу, Токио или Вашингтону. Запомнился разговор отца с пришедшим к нам домой В. Н. Кочетовым – он был торговым представителем в Японии в бытность моего отца послом. Кочетов рассказал, что почти всех торгпредов вызвали в Москву, и практически каждый день кого-то из них не досчитывались. «Впрочем, – с некоторой гордостью сказал Кочетов, – я чувствую себя довольно уверенно. Дело в том, что когда я работал в Германии, туда приезжал Николай Иванович Ежов, и между нами установились хорошие отношения. Пару дней назад я решил посетить Ежова и поговорить с ним. Он встретил меня очень дружелюбно, мы поговорили о старых временах, и в заключение он сказал, что мне, конечно, нечего беспокоиться, я могу спокойно работать». Не прошло и двух-трех дней, как мы узнали об аресте Кочетова.
Я знаю два случая, когда отец пытался заступиться за известных ему людей. Один из них был председатель Амторга Боев. Отец ходил пару раз на партийные собрания, где рассматривалось дело Боева, и выступал в его защиту. В каких грехах обвиняли Боева, я не знаю, но так или иначе дело кончилось арестом. Другой случай был связан с довольно видным инженером-нефтяником, мужем приятельницы моей матери, который был арестован по обвинению во вредительстве. Отец говорил по этому поводу с кем-то из Комиссии партийного контроля, и через некоторое время получил ответ, что человек, о котором он хлопочет, сознался не только в конкретных случаях вредительства, но и в заговоре против советской власти. Причем когда на допросе его спросили, как мог он договариваться с представителями иностранной державы о передаче ей части советской территории, он будто бы заявил, что не видит в этом ничего особенного – ведь передали же большевики немцам значительную часть российской земли по Брест-Литовскому договору.
Видимо, надо было обладать известной долей наивности или даже простодушия, чтобы полагать, что в обстановке тридцатых годов такого рода хлопоты могли кому-нибудь помочь. Результат был как раз противоположный – не облегчение участи арестованного, а стремление следователей любым путем выжать из подследственного дополнительные, еще более серьезные признания. Я не говорю уже о том, какому риску подергал себя сам ходатай, особенно если в прошлом он, как отец, был меньшевиком.
Особенно болезненно наша семья восприняла арест командующего Черноморским флотом, флагмана флота Ивана Кузьмича Кожанова, героя гражданской войны, у него был орден Красного Знамени. Иван Кузьмич, я его уже упоминал, был военно-морским атташе в Японии, и наши семьи подружились. Эта дружба сохранилась и после возвращения из Токио. К тому же у Кожановых не было детей, и они относились ко мне с особой теплотой. Приезжая в Москву, они обычно останавливались у нас на квартире. А в 1931 году по приглашению Ивана Кузьмича мы с отцом побывали на флагманском корабле Черноморского флота – линкоре «Парижская коммуна», присутствовали на маневрах. Это произвело на меня, одиннадцатилетнего мальчика, большое впечатление, хотя и не потянуло на морскую службу, на что надеялся Иван Кузьмич. Отец не раз говорил, что он считает Кожанова политически наиболее подготовленным работником из всех советских военных, работавших в то время в Японии.
И вот теперь, летом 1937 года, однажды вечером, вернувшись домой, мы узнали от родственницы, жившей в то время у нас, что звонил Иван Кузьмич и спрашивал отца, причем ей показалось, что он был пьян. Поскольку Кожанов практически никогда не пил, мы почувствовали, что произошло что-то из ряда вон выходящее. На следующий день выяснилось, что Ивана Кузьмича вызвал к себе Ворошилов и сообщил, что на него поступили серьезные компрометирующие материалы. Нарком выразил надежду, что все это вскоре прояснится, но заявил, что тем временем он вынужден отстранить Кожанова от командования Черноморским флотом.
Через несколько дней я должен был уезжать в Соединенные Штаты для продолжения учебы (родители уехали чуть позже). Перед отъездом я посетил Ивана Кузьмича, который жил в гостинице «Москва» и ждал peшения своей участи. Я нашел его, во всяком случае внешне, вполне спокойным или, может быть, лучше сказать, владеющим собой. Он читал «Хромого беса» Лесажа – французский плутовской роман XVII века. Мы поговорили немного, я пожелал, чтобы все обошлось благополучно, и ушел. Больше мы не виделись, его вскоре арестовали как врага народа.
В журнале «Вопросы истории» (№ 4 за 1995 г.) в статье О. Ф. Сувенирова «Военная коллегия Верховного суда СССР (1937–1939)» я с волнением прочел:
«Среди многих тысяч военных, судимых в 1937–1938 г.г. Военной коллегией, встречались и такие, у которых на всем протяжении предварительного и судебного следствия, несмотря на угрозы, провокации и истязания, не удалось вырвать ни единого признания в несовершенных ими преступлениях. Подлинными героями сопротивления произволу были флагман флота 2 ранга И. К. Кожанов… Несмотря на отсутствие объективных доказательств их участия в «заговоре», все они были осуждены Военной коллегией к смерти».








