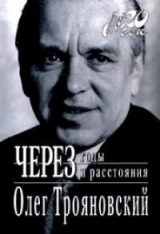
Текст книги "Через годы и расстояния (история одной семьи)"
Автор книги: Олег Трояновский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
На юге Сталин вел жизнь отшельника. В течение моего девятидневного пребывания на его даче только дважды я замечал у него гостей. Однажды это был человек интеллигентного вида, возможно, ученый. Я видел, что Сталин обедал с ним в саду рядом с дачей. В другой раз к нему приехали из Киева Каганович и Хрущев. Впоследствии я узнал, что они приезжали, чтобы уладить возникший между ними конфликт. Каганович был тогда первым секретарем ЦК компартии Украины, Хрущев там же – председателем Совета министров. Это были личности с разными характерами. Каганович имел склонность к крутым методам, он и послан был на Украину, чтобы выбивать хлеб из украинских крестьян. Хрущев же предпочитал применять более гибкие подходы. На состоявшемся разбирательстве я, разумеется, не присутствовал. Позднее стало известно, что решение Сталина свелось к тому, чтобы Каганович вернулся в Москву и снова занял пост заместителя Председателя Совета Министров СССР, а Хрущев стал совмещать обе должности – первого секретаря ЦК компартии Украины и председателя Совета министров.
Вечером того же дня Сталин предложил своим гостям посмотреть кинофильм. Пригласили и меня. Показывали фильм-концерт с участием грузинских артистов. Помню, что по окончании сеанса Каганович сказал: «Вот украинцы хвастаются своей культурой, а разве ее можно сравнить с древней грузинской культурой». Это было сказано, явно чтобы польстить Сталину. Хрущев не поддержал разговор на эту тему. Промолчал и Сталин.
Сталин много читал. Насколько я мог судить, это в основном были толстые литературные журналы. Один или два таких журнала всегда лежали в гостиной, открытые на том месте, где он прервал свое чтение. Александр Фадеев, который в качестве генерального секретаря Союза писателей СССР часто общался со Сталиным по литературным делам, говорил (разумеется, после его смерти), что у Сталина был плохой вкус. Думаю, он имел в виду утилитарный подход Сталина к литературе и искусству. Ценным он считал только то, что, по его мнению, могло воздействовать на читателя в правильном направлении, то есть укрепить в нем мысли и эмоции, полезные для дела строительства социализма. Это приводило к весьма печальным результатам, о чем свидетельствует, например, известное постановление о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград».
Регулярно поступала на дачу фельдъегерская почта из Москвы; Поскребышев должен был разбирать всю эту массу бумаг и докладывать о них Сталину. Впрочем, надо полагать, что какая-то предварительная разборка производилась и в Москве. Наиболее важные документы Сталин читал от начала до конца, другие просматривал, о третьих докладывал ему Поскребышев.
Я слышал, как по поводу одной какой-то записки Поскребышев отчитывал по телефону Микояна: «Вам же уже было сказано, чтобы вы по этому вопросу не беспокоили товарища Сталина, а вы снова это делаете». Поскольку Микоян говорил какие-то слова в свое оправдание, Поскребышев закончил разговор на повышенных тонах.
Меня этот случай в какой-то степени шокировал. Я не представлял себе, что Поскребышев, даже если он был помощником самого Сталина, мог так разговаривать 0членом Политбюро. Безусловно, он злоупотреблял своим положением, и недаром от него постарались отделаться сразу после смерти хозяина.
Моим единственным заданием за все время пребывания на юге была лишь запись беседы Сталина с английскими парламентариями. К тому времени, работая в секретариате Молотова, я изрядно набил себе руку на записях бесед. И в этот раз все прошло на отлично: Сталин внес в текст лишь одну незначительную поправку и дал указание разослать ее членам Политбюро и кое-кому еще из руководства.
После этого у меня никаких дел не было. Сталин поручений мне не давал, и в принципе я должен был просто отдыхать. На самом деле общение любого человека со Сталиным вряд ли можно назвать отдыхом. Я дважды обедал с ним вместе с Поскребышевым. Два раза мы втроем играли на бильярде, и оба раза я проигрывал хотя играл вполне прилично, просто Сталин играл лучше, хотя он, казалось, мало целился и, подходя к шару, почти сразу бил. Два раза я присутствовал при читке вслух Поскребышевым информационных сообщений. Мое положение несколько облегчалось тем, что мне было всего 26 лет, и в какой-то степени с меня были взятки гладки. Я старался поменьше высказываться побольше слушать, отвечать только на прямые вопросы. Может быть, при такой тактике я производил впечатление несколько туповатого молодого человека, но, во всяком случае, это оберегало меня от прямых глупостей.
В то же время не могу сказать, что это было общение удава с кроликом. Сталин вел себя как гостеприимный хозяин, был весьма любезен, предлагал попробовать то или иное блюдо. Но во всем этом я чувствовал все ту же наигранность, позу. Да и общих тем для бесед у нас было немного. После встречи с англичанами он поинтересовался моим мнением об ее участниках, спросил, кто из них, на мой взгляд, является наиболее перспективным политиком.
Как-то он достаточно резко охарактеризовал американских руководителей, появившихся на авансцене после Рузвельта. По его словам, они были готовы сотрудничать с Советским Союзом и даже выражали готовность согласовывать послевоенные планы с ним до тех пор, пока русские были им нужны, поскольку они несли на себе основную тяжесть войны. Когда же победа была практически обеспечена, сразу забыли о всех своих обязательствах и повернулись спиной к своим союзникам.
Гораздо менее убедительными мне показались его замечания о французских политических деятелях. Он считал, что все крупные политики Франции исчезли со сцены после войны, поскольку примкнули к «Виши», и теперь там не видно ни одной крупной фигуры. Я хотел было спросить: «А как насчет де Голля?» Но решил, что лучше промолчать.
Однажды Сталин сказал о том, что любой человек, который имеет отношение к внешней политике или политике вообще, должен хорошо знать историю. При этом рекомендовал изучать произведения немецких историков, которые, как он выразился, пашут глубже, чем другие.
Пару раз Поскребышев при мне читал Сталину вслух полные тексты выступлений Черчилля и Гарримана. По поводу Черчилля он высказывался с некоторой долей иронии: «Ну что ж, давайте послушаем, что вещает товарищ Черчилль». О Гарримане отзывался более резко. Даже заявил, что «этот человек несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта».
Однако большей частью разговоры были посвящены воспоминаниям о 1913 годе, когда Сталин жил в квартире моего отца в Вене и писал там свою брошюру «Марксизм и национальный вопрос». Создавалось впечатление, что это было счастливое для него время и ему Доставляло удовольствие вспоминать о нем. Он спрашивал, как чувствует себя отец, вспоминал о его первой Жене Елене Розмирович, о ее дочери Гале, которая в те далекие годы была совсем маленькой девочкой.
Сталин рассказал несколько историй, относящихся к своему пребыванию в Вене. Он частенько водил Галю погулять в парк и каждый раз покупал ей сладости. Однажды, когда девочка достаточно к нему привыкла, он предложил ее матери пари – куда пойдет Галя, если её одновременно позовут она и он. Естественно, она пошла к Сталину, видимо рассчитывая, как обычно, получить очередную порцию сладостей. Может быть, сужу слишком строго, но мне показалось, что эта история отражает циничный взгляд Сталина на людей, каждого из которых нетрудно тем или иным способом подкупить. Когда, вернувшись в Москву, я рассказал отцу про эту историю с Галей, он отмахнулся несколько пренебрежительно со словами: «Он при мне рассказывал эту историю по крайней мере три раза. Может быть, это действительно было».
Сталин вспоминал также о том, что много лет спустя, в первой половине тридцатых годов, Галя стала женой Валериана Куйбышева. Спустя некоторое время она заболела какой-то кожной болезнью, и когда Куйбышев узнал об этом, он, как выразился Сталин, выгнал ее из дома. «Вообще, – добавил он, – к тому времени Куйбышев превратился в заядлого ловеласа и стал много пить. Если бы я знал об этом, то положил бы конец этому безобразию».
Между тем приближался день, когда я должен был вернуться в Москву: было назначено заседание райкома, на котором среди других вопросов значился прием в партию, и меня в том числе. Я подошел к Сталину и сказал, что мне, к сожалению, надо уезжать. Сначала он удивился, но, узнав о причине отъезда, сказал, что прием в партию – дело важное. И пожелал мне успеха. А потом вдруг сказал: «Вам здесь, вероятно, скучно. Я-то привык к одиночеству, привык, еще будучи в тюрьме». Это звучало вполне искренне, и я тогда подумал, что Сталин действительно одинокий человек. Вероятно, таковы издержки неограниченной власти. С этой мыслью я на следующее утро покинул берега Черного моря, получив в качестве прощального подарка большую корзину фруктов.
Впоследствии я не раз размышлял над тем, зачем Сталину понадобилось оставлять у себя на даче меня, молодого человека, который вряд ли мог представлять для него какой-либо интерес как собеседник. Может быть, являясь человеком расчетливым, он знал, что этот его жест станет широко известен, и, возможно, хотел продемонстрировать свою человечность, доброту, открытость. Может быть, но, будучи как-то по-особому расположен к моему отцу, он хотел поделиться со мной воспоминаниями о том приятном для него периоде, когда он гостил у отца в Вене. Не исключаю и того, что Сталин, будучи человеком двуязычным, высоко ценил значение квалифицированного перевода, и ему было небезынтересно разобраться, что представлял собой этот юноша, от которого зависело, насколько убедительно его, Сталина, высказывания будут звучать по-английски. Не случайно, позднее по его инициативе была награждена орденами небольшая группа переводчиков, в их числе и я. Передавали, что Сталин сказал тогда, что труд переводчиков тяжелый и важный.
Через несколько месяцев после моего пребывания на юге случилась история, которая могла закончиться для меня весьма плачевно. Это произошло в 1948 году, в начале кампании по выборам президента США. Тогда Генри Уоллес, который при Рузвельте был вице-президентом, образовал свою собственную партию и был выдвинут кандидатом в президенты. Кандидатом от демократов оставался Гарри Трумэн, а от республиканцев Томас Дьюи. Это породило у советского руководства надежды, а точнее, иллюзии, будто Уоллес сможет стать президентом и изменить направление внешней политики США в благоприятную для Советского Союза сторону.
Однажды со мной связались из секретариата Сталина и сказали, что следует позвонить ему по такому-то телефону. Я тут же сделал это. Сталин подошел к телефону сам и сказал, что он получил из нашего Министерства иностранных дел проект своих ответов на вопросы, присланные Генри Уоллесом. Проект вполне приемлем. Если и будут какие-то поправки, то самые минимальные. Поэтому мне необходимо сразу же начать переводить текст, чтобы можно было отправить его в тот же вечер. Я ответил: «Хорошо, товарищ Сталин, будет сделано» – или что-то подобное. На это последовая неожиданная реплика: «Имейте в виду – это приказ». Как будто любое поручение верховного правителя могло быть воспринято иначе!
Я сразу же приступил к работе, а поскольку текст был довольно большой, а времени мало, пригласил на помощь сотрудника Министерства иностранных дел, достаточно хорошо знавшего английский язык. Мы работали в течение нескольких часов, потом дали перевод перепечатать и уже в некоторой спешке вручили его старшему помощнику Молотова Борису Федоровичу Подцеробу для отправки в США и для опубликования в нашей печати. После этого я отправился домой на заслуженный, как я полагал, отдых.
Но когда утром пришел на работу, то обнаружил своих коллег в состоянии заметного возбуждения. «Вы знаете, что вы наделали!» – воскликнул Подцероб. Я увидел тревогу в его глазах и понял, что со вчерашним переводом, по-видимому, произошла какая-то беда «Да, – продолжал Борис Федорович, – вы умудрились пропустить целый абзац в тексте ответов товарища Сталина Уоллесу». После некоторой паузы, убедившись, что его слова произвели на меня соответствующее впечатление, он продолжил: «К счастью, сотрудники ТАССа поздно вечером заметили пропуск и позвонили мне. Я сказал, чтобы они восстановили пропущенный абзац, прежде чем отправлять текст. Тем не менее вы понимаете, конечно, что я должен доложить о случившемся Вячеславу Михайловичу».
К счастью для меня, Подцероб был человек на редкость порядочный. Докладывая Молотову, он, по-видимому, сделал упор на то, что ошибка исправлена и отправлен правильный текст. Так или иначе, Молотов никак не отреагировал на случившееся. Реакция Вышинского, который тогда был первым заместителем министра, была короткой, но доходчивой. «Ну и говнюки», —сказал он. В данном случае я готов был с ним согласиться.
Я до сих пор не могу понять, как могла произойти эта ошибка. Видимо, машинистка пропустила абзац при перепечатывании, а мы не заметили этого, когда считывали окончательный текст.
Несколько позднее, а точнее, в июле 1948 года, моя карьера в качестве переводчика Сталина неожиданно закончилась. Как-то утром Подцероб сообщил мне, что по указанию Молотова я назначаюсь первым секретарем во Второй европейский отдел, который ведал Великобританией и британскими доминионами. На мой вопрос о причинах перевода он ответил, что ему это неизвестно.
Я, естественно, был обеспокоен. Дело было даже не столько в том, что я уходил или, точнее, меня уходили из секретариата министра. Тревожили причины столь неожиданного решения.
Спустя лет десять Подцероб поведал мне, в чем было дело. Мой отец в то время периодически ходил играть в бридж к Литвинову, их напряженные отношения 30-х годов к тому времени отошли в прошлое. Бывали там и некоторые другие люди. Во время этих встреч дело не обходилось без критических замечаний по поводу политики советского руководства. Как мне рассказывал отец, Литвинов часто не стеснялся в выражениях, в частности по поводу Молотова и Громыко. Все это, разумеется, подслушивалось, записывалось и докладывалось руководству, в том числе и Молотову. К тому времени тучи появились и над головой самого Молотова в связи с арестом его жены. Таким образом, он счел за благо перевести меня из своего секретариата в один из так называемых территориальных отделов.
Примерно в это же время или чуть раньше советские войска перекрыли наземные пути, ведущие в Западный Берлин, что явилось своего рода ответным ходом на действия США, Англии и Франции, последовательно закладывавших основы западногерманского государства целью включения его в свой военно-политический блок. В ответ на советскую акцию западные державы организовали воздушный мост, по которому население Западного Берлина в течение почти целого года снабжалось по воздуху продовольствием и другими необходимыми продуктами. Это был один из кризисных моментов в «холодной войне» и крупный просчет советского руководства, которое, очевидно, не представляло себе, что такой крупный город, как Западный Берлин, может выжить в состоянии полной блокады. Думаю, что Сталин все еще мыслил категориями войны с гитлеровской Германией, когда, несмотря на заверения Геринга, немецкая авиация не смогла снабжать по воздуху 16-ю армию, окруженную в Сталинграде.
Во время этого кризиса Сталин и Молотов несколько! раз беседовали с тремя западными послами. Меня не привлекали переводить эти беседы, что мною воспринималось как отсутствие доверия по причинам, которые по-прежнему были для меня тогда не ясны. Впрочем, к моему великому удивлению, примерно в это время в составе группы людей, в то или иное время переводивших Сталину, я был награжден орденом Трудового Красного Знамени, о чем уже упоминал выше. Будь я верующим, наверное, сказал бы: «Неисповедимы твои пути, Господи».
Работа во Втором европейском отделе была значительно менее интересной, чем в секретариате министра. К тому же после замены Молотова Вышинским, который не был членом Политбюро, роль министерства в определении курса Советского Союза в международных делах заметно уменьшилась, превратилась чуть ли не в подсобную. Да и сама направленность внешней политики страны стала изобиловать просчетами и грубыми ошибками. Сталин, который в начале «холодной войны» проявлял выдержку и осмотрительность, теперь начал принимать явно необоснованные решения. Примеров было не мало: блокада Берлина, согласие или, во всяком случае, отсутствие возражений против развязывания войны в Корее, временный уход в самый неподходящий момент, когда эта война началась, из Совета Безопасности, бойкот конференции по мирному урегулированию с Японией. Возможно, Сталин пришел к ошибочному выводу, что победа в 1949 году революции в Китае коренным образом меняла соотношение сил в мире в пользу социалистического лагеря. Он явно утрачивал чувство реальности.
Продолжалось завинчивание гаек в восточноевропейских странах, новая волна репрессий набирала силу внутри страны. Был разогнан Еврейский антифашистский комитет, состряпано дело так называемых космополитов, а затем – врачей и многое другое. На Пленуме ЦК КПСС Сталин обрушился на своих самых близких соратников – Молотова и Микояна с обвинением в каком-то прозападном уклоне. Что могло быть нелепее!
На глазах шел распад неприкасаемой персоны, которая продолжала вершить все дела единолично. Распад закономерный, принимая во внимание и возраст, и тот груз ответственности, который нес этот человек в течение многих лет и в особенности в период страшной войны. Такое бремя могло надломить психику любого человека. Уже после смерти Сталина Молотов, который всегда воздерживался от каких-либо критических высказываний в его адрес, однажды все же сказал в узком кругу: «Нельзя управлять такой страной, как Советский Союз, когда тебе перевалило за 70, да к тому же когда все вопросы решаются за обеденным столом».
Но главная беда заключалась в том, что в Советском Союзе отсутствовала налаженная система разделения властей, которая могла бы ограничить беспредел авторитаризма.
После Сталина
В резерве Министерства иностранных дел – Снова в секретариате Молотова – Арест Берии – Инициатива Эйзенхауэра – Встреча в Берлине – Антони Иден – Конференция министров в Женеве – Чжоу Эньлай – Советские инициативы – Саммит 1955 года – Разногласия в верхах – Маршал Жуков – Визит в Англию – Победа Хрущева
В самом конце 40-х и особенно в начале 50-х годов, когда всенародная эйфория от победы над гитлеровской Германией несколько поугасла, многие начали задавать себе вопрос: а что же дальше? Явно усилились в обществе настроения пессимизма, чему не в малой степени способствовали многочисленные болячки, появившиеся у людей после войны, когда все держалось на нервах. И конечно же, новая полоса репрессий, больно ударившая по интеллигенции. На ум невольно приходили слова Гамлета о гниении в Королевстве Датском, которые, к сожалению, были применимы и к нашей действительности.
Это касалось всех областей жизни. Не избежало определенной деградации и положение дел в Министерстве иностранных дел, особенно после ухода с поста министра Молотова и назначения на его место Вышинского. Во всяком случае, у меня лично появилось огромное желание держаться подальше от коридоров власти.
В конце 1950 года я подал заявление о предоставлении мне длительного отпуска без сохранения содержания для завершения высшего образования, которое было прервано войной в 1941 году после трех лет обучения. Просьба эта была удовлетворена, и я был переведен в резерв МИДа. В начале 1951 года у кого-то, если не ошибаюсь, кажется, Молотова, появилась идея создать журнал на английском языке, который должен был играть роль якобы независимого, демократического издания на потребу зарубежного читателя. В апреле 1951 года меня пригласили в Управление кадров ЦК КПСС, где предложили занять должность члена редколлегии этого журнала в качестве ответственного редактора отдела переводов. Я согласился, поскольку это, как мне представлялось, помогало отдалиться от Министерства иностранных дел. И действительно, это были относительно спокойные два года.
Однако в апреле 1953 года, вскоре после смерти Сталина, меня пригласил к себе Молотов, который незадолго до этого был вновь назначен министром иностранных дел. Министерство теперь располагалось в высотном здании на Смоленской площади. Со временем кабинет министра станет мне очень знаком, я буду видеть в нем и Шепилова, и Громыко, и Шеварднадзе. Тогда его занимал Молотов, который встретил меня весьма приветливо, с улыбкой на лице, что случалось с ним не так-то часто. Видно было, что он находился в хорошем расположении духа. И было с чего. Ведь незадолго до своей смерти Сталин фактически отстранил его и Микояна от руководящей работы. И вот теперь он был снова на коне, снова на первых ролях в высшем руководстве. И снова после ссылки рядом с ним была его жена Полина Семеновна Жемчужина, к которой он искренне был привязан.
Молотов начал разговор на общие темы, задал несколько вопросов о моей работе в журнале, спросил о его редакторе Викторове, которого знал по выходившему в годы войны журналу «Война и рабочий класс». Узнав, что Викторов был арестован и только на днях освобожден, сказал с усмешкой, как о каком-то рутинном событии: «Значит, он тоже попал под колесо».
После этого Молотов сразу перешел к делу и без лишних слов предложил мне вернуться в МИД на должность его помощника. Было сказано, что начинается очень важный этап советской внешней политики, когда предстоит добиваться снятия напряженности с Западом. Вместе с тем из его высказываний следовало, что при этом требовалась определенная осторожность, дабы западные противники не восприняли наш новый курс как проявление слабости.
Не долго думая, я согласился. Мне тогда казалось что после смерти Сталина появились первые признаки начала новой эры как во внутренних, так и во внешних делах нашего государства. Для этого имелись веские основания. Появилась публикация о том, что «дело врачей» прекращается, что оно было сфабриковано на основе фальсифицированных данных. Молотов получал документы не только как министр иностранных дел, но и как член Президиума ЦК. Эти документы попадали на глаза и нам, работникам его мидовского аппарата. Поэтому мы время от времени узнавали нечто большее, чем другие работники внешнеполитического ведомства. Помнится, удручающее впечатление произвела покаянная записка в ЦК Игнатьева, председателя Комитета государственной безопасности в последний период жизни Сталина. Он рассказывал, как Сталин нажимал на него требуя поскорее добиться от врачей «признания» их преступлений. Приходилось видеть и другие документы раскрывавшие кухню КГБ.
Хотя непосредственно после смерти Сталина фигурой номер один считался Маленков как Председатель Совета Министров, фактически ведущую роль играл Берия. Я ним непосредственно никогда не соприкасался, но знал по рассказам очевидцев, что это был человек безнравственный, не брезговавший никакими средствами для достижения своих целей, но обладавший незаурядным умом и большими организаторскими способностями Опираясь на Маленкова, а иногда и на некоторых других членов Президиума ЦК, он последовательно вел дело укреплению своего лидерства. Вскоре мы, работники секретариата, стали понимать, что в верхних эшелонах власти далеко не все гладко. К такому выводу можно было прийти по отдельным репликам Молотова, по некоторым документам, приходившим из ЦК на его имя, и по тому, что приходилось слышать от заместителей министра, присутствовавших на заседаниях Президиума ЦК.
Молотов заметно нервничал, и эта нервозность распространялась на его окружение. Особенно доставалось В. С. Семенову, который в то время был Верховным комиссаром СССР в Германии и послом в ГДР. Он был вызван в Москву в связи с обсуждением германского вопроса и помогал нашему министру в подготовке различных предложений и выработке соответствующей аргументации. Помнится, однажды Семенов, видимо доведенный до ручки, начал жаловаться нам, помощникам Молотова: «Неужели нельзя даже важные проблемы обсуждать в более спокойной обстановке».
Но обстановка и в самом деле была взрывоопасной. Мы и представить себе не могли, что вскоре последует арест, а затем и расстрел всемогущего Берии и его приближенных. В одно прекрасное утро Иван Михайлович Лавров, который в то время был старшим помощником министра иностранных дел, обнаружил, что в разметке шифротелеграмм, рассылаемых членам Президиума ЦК, отсутствует фамилия Берии. Решив, что это произошло по недоразумению, а может быть, и для того, чтобы перепроверить возникшие у него подозрения, он обратил внимание Молотова на это обстоятельство. Поступил лаконичный ответ: «Он в отъезде». Однако уже во второй половине дня распространились слухи об аресте того, кто привык арестовывать других. Вечером члены Руководства (без Берии) появились в Большом театре, чтобы продемонстрировать, что в верхах все спокойно.
Через пару дней состоялся Пленум ЦК, на котором Берия, можно сказать, был разоблачен по всем статьям. И хотя вряд ли нашлась бы хоть горстка людей, которая симпатизировала бывшему главному кагебисту, все же пленум оставил известное чувство неудовлетворенности. Ибо выступал как своего рода Верховный суд, постановление которого предвосхищало и предрешало выводы и приговор настоящего суда, который состояли шестью месяцами позже. К тому же дело Берии рассматривалось на пленуме без участия самого подсудимого. Скептицизм, чтобы не сказать больше, вызвали и ничем не обоснованные обвинения в адрес Берии, будто он агент иностранных разведок. И наконец, пожалуй, самое главное – как мог Берия и иже с ним творить свои злодеяния без ведома Сталина? Какова была роль нашего, кормчего во всех этих делах? Хотя было ясно, что на том сложном этапе новое руководство еще не было готово сделать решающий шаг по разоблачению преступлений самого Сталина. Тем более что ряд его соратников разделял с ним немалую долю вины за них. Не был еще :готов к этому и народ.
В последнее время на свет появилось немало мифов о деле Берии, о том, например, что он был убит при аресте, а на суде якобы выступал его двойник. Могу со всей определенностью утверждать, что это чистейший вымысел. Ход процесса над Берией передавался по прямому проводу из помещения, где он проходил, в кабинеты членов руководства. Входя в кабинет Молотова в Кремле, я несколько раз заставал его слушающим показания подсудимых. Совершенно очевидно, что ни Молотов, ни другие руководители не стали бы терять время, слушая, что там говорило какое-то подставное лицо. К тому же впоследствии приходилось слышать от знакомого мне по Нюрнбергу Р. А. Руденко, который был обвинителем на процессе Берии, некоторые подробности о том, как вели себя подсудимые. Из его рассказов также со всей очевидностью вытекало, что это были не какие-то двойники, а реальные люди.
В связи с делом Берии мне запомнилась еще одна любопытная деталь. Вскоре после Пленума ЦК Молотов выступил на собрании партийного актива Министерства иностранных дел. В своем докладе он высказал мысль, которая, будучи обнародована закоренелым догматиком, каким он был, удивила многих. Он заявил, что однопартийная система при всех ее преимуществах имеет и существенные недостатки. Различного рода сомнительные элементы, подобные Берии, которые в ином случае оказались бы в других партиях, в карьеристских целях вступают в КПСС, засоряя и дискредитируя ее. Ни до, ни после я больше ничего подобного от него не слышал.
Несколько позже состоялось еще одно собрание актива с докладом начальника Управления кадров министерства С. П. Козырева. Его доклад, очень острый, произвел большое впечатление на аудиторию. Он был посвящен извращениям в работе с кадрами. Были приведены многочисленные случаи, когда работники МИДа увольнялись или лишались права выезда на работу за границу на основании ошибочных или заведомо клеветнических оговоров. Основное острие доклада было направлено против органов безопасности, что вызвало весьма положительную реакцию в зале.
Устранение Берии значительно укрепило позиции Хрущева. Именно он был главным инициатором разоблачений, которые привели к падению Берии. А вскоре он уже стал первым среди равных, primus inter pares, как говорили римляне, а еще через год-другой он уже был primus без всяких pares. Такая закономерность в те времена была правилом: после ухода очередного вождя объявлялось, что отныне и во веки веков в стране будет действовать коллективное руководство. Так было после Ленина, так было после Сталина, так было и после самого Хрущева. Между тем каждый раз дело оборачивалось новым авторитаризмом. Для людей думающих уже тогда было очевидным, что виной тому – не отдельная личность, а сама система государственного управления.
Новое руководство, пришедшее на смену Сталину, получило тяжелое внешнеполитическое наследство. «Холодная война» достигла своего апогея. Если бы уровень Международной напряженности можно было измерять подобно температуре человеческого организма, то к началу 50-х годов она, вероятно, перевалила бы за 41 градус. При такой температуре у человека часто появляются бред и галлюцинации. Именно в таком состоянии пребывали тогда и многие руководители, определявшие политику государств, будь то в Соединенных Штатах или Советском Союзе.
В Индокитае и Корее шла война. Генерал Макартур(командовавший американскими войсками на Дальнем Востоке, добивался от президента Трумэна разрешения применить атомное оружие против Китая. У нас отсутствовали дипломатические отношения с Западной Германией и Японией. Советский Союз фактически блокировал заключение договора с Австрией, где по-прежнему сохранялся оккупационный режим четырех держав. По инициативе Москвы были прерваны дипломатические отношения с Израилем. С братской в недавнем прошлом Югославией Сталин рассорился по причинам, которые оставались неясными для простых смертных. В результате предъявленных Турции территориальных претензий на Каре и Ардаган, а также требований предоставить Советскому Союзу особые права в районе проливов, наши отношения с этой страной, которые до войны были весьма дружественными, перешли в разряд напряженных. Казалось, в свои преклонные годы Сталин утратил ранее присущую ему осторожность и гибкость во внешней политике.
Вашингтон, со своей стороны, действовал настолько прямолинейно и, можно сказать, нахраписто, что это стало беспокоить даже его английских союзников. В начале 50-х годов сам Уинстон Черчилль, как об этом свидетельствуют лондонские архивы, был серьезно обеспокоен, как бы США не развязали атомную войну. Английский министр иностранных дел Эрнест Бевин в 1946 году заявил американскому дипломату и будущему послу в Москве: «Я знаю – все вы, американцы, хотите войны, но я не позволю вам развязать ее».








