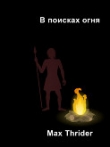Текст книги "Школьники"
Автор книги: Олег Павлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
4
Тогда всех не принятых в пионеры, человек восемь, повели в пионерскую комнату, как в баню... И было такое состояние духа, какое приходило до этого только в летнем пионерском лагере, когда наступал банный день: раздеваться вместе со всеми ребятами догола стыдно, но и волнующе; ново и обездоленно держишь в руках полотенце с мыльцем; переживаешь, как бы не разглядели в тебе какое-нибудь уродство, за которое начнут дразнить; предчувствуешь помывку как испытание, а уже после бани с ощущением вымытости ходишь до вечера чужой себе, сам не свой. Мы нестройно вошли в комнату, до этого дня запретную, куда разрешали входить только ребятам с красными галстуками... Вся ее обстановка вызывала в душе трепет, казалась таинственно-торжественной, – и это алое знамя с ликом Ленина, тяжелое своим золотым шитьем и бархатом, что дышало как живое и переливалось светом, хоть даже не колыхалось. Сладковато пахло от почетных грамот, развешенных на стенах – отчего-то они источали сладость. Сияли сталью замершие горны, будто священные сосуды. Там же – в шкафах, за стеклом, покоились безмолвные головы пионерских барабанов, обтянутые похожим на иссохшую кожу процарапанным пергаментом в темных разводах.
В младших классах моим любимым был урок музыки. Он начинался с прослушивания грампластинки.
Бывало, класс разучивал слова, мелодию – и новую песню исполняли под ее же аккомпанемент. Делать это было весело и легко. Но я помню потрясение, когда услышал Гимн. Даже слушали его стоя, и учитель музыки – долговязый мужчина, похожий на смычок, тоже встал у своего стола. Сначала несколько мгновений слышно было из проигрывателя мышиное шебуршание. И стоило грянуть первым же громким звукам – окутала дрожь. Волны ярости, страха, счастья хлынули одна за другой, и я, сам не понимая отчего, стал ощущать в себе это возвышенно-воинственное. Тяжелая толща звуков колыхала душонку, будто щепку, а когда эта волна, достигнув выси, вдруг падала, дух перехватывало. На следующий урок под курткой школьной, за поясом у меня спрятан был меч, как я это воображал: обструганная под клинок деревяшка, которую утащил с урока труда.
Пока разучивали слова, ничего со мной не происходило. Но зазвучала музыка – и что-то воинственное снова повелевало душой; я сжимал свой меч, готовый к неведомой битве, осознавая почему-то как величайшую тайну этот жест, скрытый ото всех. А когда запел, глаза вдруг тепло заволакивало влагой, и, слыша собственный голос, ощущал я такую силу и такой восторг, как будто погиб и воскрес.
Нужно было выучить клятву и сделать свой альбом об одном из пионеров-героев. Пионерский галстук обошел меня ранее только по болезни. Чтобы обладать им, вступил я тогда в соревнование, по-спортивному страстное, очутился в отличниках – но заболел. А не повязав его в числе первых, с год удрученно жевал в памяти эту клятву пионера, помнил ее как обиду на несправедливость; тогда вступить было отличием среди других, а теперь вступление стало уделом отстающих, кто плелся в хвосте класса по успеваемости и поведению. Но волнение явилось снова, а подумать, что в пионеры все равно примут каждого, никто даже из отстающих не смел.
Мы расселись за продолговатым столом, как одна большая семья, и пионервожатая достала стопу уже готовых альбомов, изданных в виде книжек, наподобие детских: больших, мягких, где главное всегда – это картинки, и обратилась с вопросом, а есть ли у кого-то из нас любимый герой и, может, кто-то сам ей скажет, о ком бы хотел делать альбом.
В одном порыве, будто отнимая друг у друга, все начали выпрашивать Павлика Морозова. Вожатая растерялась, а когда прекратила шум, стала сама раздавать альбомы по очереди с таким видом, как если бы назначала судьбу... Мне достался Леня Голиков. Я увидел его на картинке, и стало до слез обидно: ничего геройского, разве что автомат сжимает в руках, сам в тулупе деревенском и ушанке, какой же это герой!
Леня Голиков, казалось, одиноко и просяще глядел на меня с парадного своего портрета... Этого мальчика даже не мучили, как других пионеров-героев, – и отсутствие мучений делало его подвиг в моем сознании каким-то ненастоящим. Свой альбом я украшал, будто могилку. Все шло в ход. И цветная бумага, и даже елочный «дождик». На заседании совета дружины, где в полной тишине принимали наши знания, вожатая сделала мне выговор за пестроту, и о подвиге Лени Голикова рассказал я уже чуть не плача, так что ей пришлось меня утешать, чувствуя, наверное, свою вину. А когда повязывали пионерский галстук и я клялся не пожалеть жизни, чувствовал, что вру. Ко мне являлся много дней грустный убиенный мальчик и светом потухших глаз только о том и жаловался: я убит, я убит, я убит... Было страшно от мысли, что я мог бы не родиться, если бы мама погибла на войне. И я выспрашивал маму: а что ты ела, когда была война? Чем кормили детей? Ее ответ должен был сделаться моей верой, что голодной смертью люди не умирают даже во время войны. А став пионером, больше всего этого боялся: умереть.
Это ощущение, возвышающее да тошнящее, схоже было с голодом. Приготовлением к смерти казались пионерские линейки... В январе, когда умер Ленин, и уже в апреле, в день его рождения, все классы строились шеренгами в спортивном зале – это был такой огромный зал, с дощатыми, как в казарме, крашеными полами, высоченными потолками и зарешеченными наглухо окнами – чтобы стекла в них не разбили случайным отскоком спортивные мячи. Из потолка и стен торчали крючья гимнастических снарядов, похожие на дыбу. Ровнехонько за спинами нашими свисали канаты. И вся эта обстановка заставляла чего-то напряженно, мучительно ждать, чувствуя раздавливающую душу покорность.
Линейки пионерские начинались всегда рано утром, еще до уроков. Оттого, что не выспался, кружилась легонько голова. С утра мало кто успевал поесть, и поэтому стояли мы в шеренгах натощак; помню это голодное ощущение, когда рот затекал безвкусной слюной. По рядам рыскали учителя, проверяя, у всех ли есть галстуки. Голоса их звучали гулко, как приказы... Многие уже стыдились носить пионерские галстуки, считая себя куда взрослее, и без всякой радости повязывали мятые алые тряпицы, доставая их из карманов.
Нашей пионервожатой была девушка лет семнадцати с зардевшимся лицом, белой кожей. Мы звали ее Мариной, будто подружку, ведь у пионеров все были равны и дружны. Пионеры, кто повзрослей, стоя в безликих шеренгах, томились, поедая голодными пугливыми взглядами обтиснутую кукольной юбочкой и пионерской рубашкой девушку. И начиналась линейка. Трубил горн... Воспаряла барабанная дробь... Голоногая пионервожатая маршировала к директору, звонко докладывая о сборе дружины. Аллу Павловну злил ее нечаянный развратный плотский вид – а Марина чуть дышала, не понимая, чем провинилась перед ней. «Продолжайте...» – произносила директор в гробовой тишине. И тогда вносили знамя дружины... Алла Павловна следила за каждым. Если ей что-то не нравилось, то молча подходила к тому, кого приметила, и одергивала, стискивая по-женски губы от злости. Или если замечала, что у какой-нибудь девочки в ушах сережки или подкрашены ресницы, то рявкала на весь зал: «Беляева, ко мне! Вынимай из ушей побрякушки!», «Румянцева! Шагом марш в туалет смывать мазню!»
Бывало, на линейке кому-то делалось плохо, и падали в обморок прямо лицом об пол. Чаще всего случалось это с девочками. Но линейку не останавливали – и этот миг был самый торжественный, жуткий: к упавшей или к упавшему подбегала учительница, помогала подняться, давала платочек утереть разбитый нос и, прячась за шеренгами учеников от недовольного цепкого взгляда Аллы Павловны, бесшумно уводила в медпункт.
5
В ту же осень, когда распалась наша семья, а мама и мы со старшей сестрой после обмена, похожего на выселение, очутились в чужой сырой квартирке, и когда я снова пошел в первый класс в новую школу, произошло это событие: взрослый мальчик спас меня на перемене от пинков да тычков... Вдруг я увидел спокойного взрослого мальчика с красивым лицом, похожего на пионера, какими они и могли рисоваться в моем воображении – красивые, благородные. Увидел – и кинулся к нему за помощью, справедливостью, защитой... Я очень хотел, чтобы мальчишки, что клевали меня стайкой на переменах и с которыми в одиночку у меня не было сил справиться, вдруг увидели, что я дружу с таким мальчиком. И тут же соврал, чтобы он захотел со мною подружиться, что могу подарить ему жвачку. Как-то мама приносила мне с работы жвачку. И я верил, что она сможет сделать это еще раз, если попрошу. Мальчику понравилось, что я пообещал ему жвачку. Он пошел со мной в класс, и я показал его притихшим ребятам. Они начали просить у меня прощения, хоть он их даже не заставлял, а просто стоял за моей спиной и смотрел в их сторону.
На следующий день мальчик потребовал обещанное. А я снова соврал и пообещал, что принесу жвачку завтра – и на следующий день прятался от него по углам. Но мальчик хорошо помнил о должке и подстерег меня у класса на перемене, а я снова что-то отчаянно соврал, пообещав уже сразу две жвачки, если он подождет до завтра. Не помню, сколько еще он ждал и верил мне. Мальчик стал злым, когда понял, что нечего с меня взять. Затащил в туалет и стал бить так, как умели они, которые постарше: кулачонками да по лицу, в кровь. И я помню ясно, что это было не больно, а тоскливо. Скованный мыслью, что обманул его, я желал подспудно какого-то наказания, чтоб снова стало мне легко жить, как если бы прощенному. Но мы росли, мальчик помнил меня – и не прощал. А жвачек, чтобы отдать, у меня не было. Мама их больше не приносила.
Чем старше он становился, тем больнее бил. Подстерегал в школьном туалете – отнимал деньги, развлекался, принуждая пойманных ребят делать что-то унизительное. Он побаивался уважительно лишь директора школы, но Алла Павловна обходилась с ним так, как ему льстило. И если гневалась, то все же обязательно вылетало: «А ну-ка, красавец!» А он вальяжно подставлялся самцом под ее тумаки и посмеивался, отбегая, а она меняла тут же гнев на милость.
Он тоже рос без отца, но его мамаша работала горничной в гостинице «Космос», поэтому ему все завидовали. На переменах он уединялся с самой красивой девушкой в школе: со смуглой толстоватой армянкой, что обращала на себя восхищенное внимание школьников большой грудью. Уводил ее в глубь зала, где за спинами одноклассников, как за ширмой, они срастались в поцелуе и не разнимали губ до самого звонка, словно пили что-то друг у друга изо рта с показным наслаждением; один раз, чтобы все это видели, он даже срыгнул через плечо после поцелуя струю слюны. Что не успевали углядеть снующие по коридору учителя, было на виду у школьников, толкущихся в зале, человек шестидесяти из разных классов. По залу блуждал восхищенный и завистливый шепоток. Все ходили парочками, группками, но как будто боялись остановиться на месте и обратить внимание на то, что происходило у окна.
Всякий раз, видя ее отдающейся ему в руки для поцелуя, я почему-то готов был заплакать, как будто он отнимал что-то мое. Я слышал, как он называл ее любовно: «Женушка моя...» А бывало, орал через весь школьный коридор: «Жена!» Я замечал все новые подробности: она стала носить его вельветовую рубашку. Однажды она вошла в только что опустевший после звонка буфет, где я и еще один мальчик, дежурные, убирали за своим классом. Когда девушка обращалась к буфетчице, я услышал ее голос: неожиданно грубый, неприятный. Купила себе эклер и сок. Отвернувшись, встала в двух шагах у окна – а мы с товарищем замерли, пораженные собственной к ней близостью. Отнести пустой стакан ей было лень. Увидев нас, она поставила его на стол, который мы убирали. В этом жесте не было ничего, кроме лени и еще, быть может, презрения. Но мне казалось, что она обратила на меня внимание. Я был с ней рядом, чувствовал ее запах и даже, когда притронулся к оставленному на столе пустому стакану, ощутил тепло – ее, так мне это чудилось.
Спустя всего несколько месяцев, зимой, можно было увидеть, как она, располневшая, стояла на переменах одна и, уже прячась от множества взглядов, смотрела в пустое белое окно. Одноклассники делали вид, что не замечают ее, но сторонились – и как будто выставляли на всеобщее обозрение. Она не выглядела несчастной – только, быть может, злой и еще верила в свою особенность в сравнении с другими. Алла Павловна заходила на этаж и, довольная тем, что видела, произносила во всеуслышание, поверх голов: «Все толстеешь, дорогуша? Ну ничего, будешь следить за фигурой!» И я не знаю, что приходило на ум школьникам, но сам вспоминал почему-то пирожное; как она ела эклер – с любовью к шоколадной глазури, нежному белому крему.
Однажды ее одинокая фигура, в которой, казалось, появилось какое-то уродство, совсем исчезла. Говорили, что ее исключили из школы. Он тоже очень скоро исчез, схлынув весной с теми, кто не хотел больше учиться. Той последней весной он не раз заявлялся в школу пьяный уже с утра. Зачем-то еще ходил на уроки, хотя его жизнь давно стала загульной, взрослой. Алла Павловна не пускала его в школу, а если узнавала, что он все же пробрался и сидит за партой, пьяный, то сама приходила за ним прямо в класс, брала за шиворот и вышвыривала за порог школы. Он оставался до окончания уроков на школьном дворе. Отнимал деньги, а кого постарше – своих одноклассников, что выбегали на переменах бодрячками покурить – посылал за бутылкой, а потом уходил отсыпаться в школьный сад или еще куда-то, один или уже с какой-нибудь приблудной девчонкой, подпоив и ее портвешком. Я столкнулся с ним в то время на проторенной школьниками тропинке; школьная ограда была крепка, но со всех четырех сторон света в бетонном заборе неведомой силищей были пробиты ходы кратчайших путей. Он куда-то брел прочь со школьной территории, а я прогуливал урок и слонялся в ее окрестностях. Он посмотрел на меня, и, наверное, не узнал. Всучивал мне как дружку сигарету. Просил, чтобы помог дойти домой. Вцепился судорожно и не отпускал – от слабости он еле держался на ногах... И я ощутил, как он трясся. Ощутил я это так явственно, что позабыл свой собственный страх и легко себя освободил: рванулся что было сил, а он упал и рыдающе взвыл, но я уже мчался в школу.
б
Звали мы его Игорьком, он был ненамного старше нас, но все молодое в нем как будто давно исчезло... Так разительно отличался он от мальчишек, что льнули к его силе, храбрости, глотая с восторгом воздух опасной жизни, а когда смеркалось, разлетались по домам... Отца с матерью он не помнил. Говорил, что родился в тюрьме. Воспитывался у бабки с дедом, но когда вырос, они пускали в квартиру, только если приносил бутылку водки. Нам он рассказывал, что дед приучил его пить водку с шести лет.
Смуглое, казалось, неумытое лицо Игорька одеревенело от шрамов, похожее на бойцовский щит. Рядом с ним мы ничего не боялись. Взгляд его не был угрожающим или властным. В нем подчиняло ровное, спокойное бесстрашие. Оно было как пламя, в котором, даже не чувствуя боли, медленно сгорал человек – или черное что-то, спрессованное в камень. Ради фокуса, чтобы поразить наше воображение, он мог затушить о себя сигарету и не издать ни звука. Говорил он редко и мало. Чаще молчал, как будто даже перед глазами видел все время то, что не в силах был выразить словами. На хорошее откликался смехом, на плохое – сопением. Или вдруг отчетливо произносил, все для себя решая: «сука», «подлюка». А когда волновался, голос его звучал как собачий лай. Он презирал бродячих собак, потому что они всего боялись; любил птиц, но не домашних попугайчиков или канареек, а тех, что кормились на улице, с уважением называя их «ворами» и восторженно наблюдая, когда какой-нибудь воробей красиво и ловко умыкал крошки чуть ли не с его руки.
Кто входил в стаю, где он был вожаком, погружался в таинственный отрешенный мирок, соблюдая его ритуалы... Он выносил за хвост еще живую крысу, оглушенную и пойманную в нашей землянке, – а случалось это что ни день – и проделывал все молча: облил бензином из майонезной баночки, которым всегда и разводили мы огонь, поджег, швырнул... Зрелище устраивалось для всех. Начиная пылать, крыса судорожно оживала. Глядя, как она дико верещит и носится по кругу огненным комком, он приговаривал: «Горит, подлюка...» Так он казнил какое-то зло – что-то жадное, трусливое, подлое. Все мучились, но смотрели. Когда верещание вдруг замолкало, а пламя гасло, становилось легко. Зло сгорало заживо, и только дымился обугленный холмик. Крысу уже не было жалко: каждый убил бы мерзкую тварь, чем смог, найдя ее в землянке.
Много лет я видел Игорька Митрофанова еще в школе, но не смел заговорить или подойти так близко, чтобы обратить на себя его внимание. С ним всегда ходил еще дружок, по фамилии Вонюкин. Вонюкин был рыжим, поменьше ростом и тщедушней Игорька, – у того даже волосы ежились, упрямые и дикие, все равно что иголки. Скуластая сумрачная рожица одного и лоснящаяся прыщавая мордочка другого были отражениями очень разных душ, но что-то делало их неразлучными как братьев. Казалось, они носили одну и ту же одежду; с детства одевала их одинаково бедность, и когда повзрослели, одеждой служили взрослые обноски – добытые неведомо как и расклешенные по старой моде брюки, армейские зеленые рубахи навыпуск да солдатские ботинки. Зимой шатались по улицам в кирзовых сапогах и в телогрейках, пугая прохожих в сумерках своим видом. Им нравилось наводить в районе страх.
Вонюкин с криком и как-то судорожно всегда что-то выхватывал у малышей, особенно если кто-то выходил из буфета после завтрака с пирожным или котлетой, и сразу же отправлял выхваченный кусок себе в рот, будто его и не было. Тех, кто жаловался, он запугивал, пинал. Пожалуй, только я и не уступал сложением Вонюкину, хотя был младше. Однажды, когда он что-то отнял у меня, я навалился на него и опрокинул на пол. И тогда к нему кинулась вся ребятня, кто пиная, кто щипая, кто хватая за волосы и куда-то волоча. Вонюкина с ликованием свергли. Но восстание маленьких рабов было подавлено спустя самое короткое время. Вонюкин вдруг взбежал на этаж с еще одним мальчишкой – и указал ему на меня. Паренек быстро подскочил и ударил меня в живот. Он был куда сильнее, но я в каком-то отчаянном порыве все же стерпел боль и ринулся на него. Мы даже сцепились, но тут подскочил Вонюкин, после чего они в несколько мгновений легко справились со мной и осыпали градом проворных ударов. На помощь никто не пришел: ребята пугливо сбились в кучку и смотрели, как меня бьют. А когда экзекуция закончилась, кто-то с восхищением и страхом шепнул на ухо: «Тебя бил Игорек Митрофанов!»
В моей жизни стало опасностью больше; временами я ощущал присутствие этих двоих где-то рядом, будто они были призраками, что могли появиться однажды ночью, придя за мной даже в квартиру, где я жил. Мне казалось, что Вонюкин не ложился по ночам спать, а тот, другой, которого все боялись, приходил в школу откуда-то из темного сырого подвала. Шли годы. Бывало, я вдруг видел две сцепленные сгорбленные фигурки, что вырастали из темной точки вдалеке или появлялись прямо за поворотом, и хотя тянуло почему-то остановиться, сворачивал или убыстрял шаг. Ни Митрофанов, ни Вонюкин тогда уже не учились в школе. Но я слышал и знал о них больше, чем мог рассказать о себе самом, хотя о таких, как они, не смели громко говорить... Знали дома, в которых они живут, с какими девчонками гуляют, где собираются вечерами, – и никто не хотел оказаться у них на пути. А если кому-то не везло – побитые, гордились этим, будто подвигом, потому что страх перед ними был неотделим от восхищения. Завидовали даже тем ребятам, что ходили под их покровительством, как если бы они обретали недоступную для всех остальных свободу.
В нашем классе учился Саша Федоров – или, как его прозвали за рассудительность и очень серьезный вид, «дядя Федор». Восьмилетка для него была концом учебы – как и многие, дядя Федор надумал идти в училище, чтобы получить профессию автослесаря. Мы ходили в школу без котомок со сменной обувью, считая себя взрослыми – и свободными от этой унизительной обязанности. Если дежурили по школе десятиклассники, то они еще могли не пропустить на урок и заставить подчиниться, понимая, что унижают. Обычно, если цепляли на входе нашего, мы тут же угрожающе обступали одинокую парочку дежурных. Все они выглядели одинаково глупо и смешно в приталенных пиджаках, выглаженных сорочках и папиных галстуках. Они готовились стать студентами институтов и университетов – а нас ожидали экзамены на пригодность к дальнейшей учебе. В тот год нам постоянно твердили, что из трех классов сформируют какой-то один, в котором продолжат учиться только самые умные и воспитанные, а со всеми остальными распростятся. Как будто учителя превратились в судей, а школа – в какое-то странное место, откуда всех не одумавшихся за восемь лет отправляли отбывать наказание на заводы, фабрики, стройки...
Дядя Федор знал, что его ждет ПТУ, и давно перестал бояться школы; задержанный на входе дежурным, не заметил его повелительного жеста – руки на своем плече, смахнул ее, двинулся дальше, но тот схватил его за куртку и рывком притянул к себе. Дядя Федор был обречен и все же начал бодаться, брыкаться – это забавляло его мучителя, и он играючи вертел им, держа как будто на привязи. Я видел это, но во мне не было сил прийти на помощь: побороть смущение перед благодушным красавчиком.
Это в него влюблялись девочки, а учительницы – и молодые, и постарше – сами того не замечая, по-женски кокетничали со смуглым мускулистым блондином. Он родился и вырос за границей. Папа его был послом в африканской стране. Родители отослали его на родину, под надзор бабушки – доучиваться в простой советской школе и зарабатывать комсомольскую характеристику. Но почему-то красавчик, с вызывающей грубостью отказываясь от лестных общественных поручений, зато стал капитаном школьной волейбольной команды и вообще отличником по физкультуре. Если просили рассказать об экзотической африканской стране, особенно учителя, он принимал нарочито глуповатую позу лектора и как на политинформации докладывал о системе апартеида. Презрительная гримаса всегда мучила его лицо. Если бы захотели выяснить, что же известно о новичке, оказалось бы, что ничего о нем до сих пор не знают, а все впечатление производили заграничные вещи, в которые он одевался, и голливудская внешность.
Вдруг раздался треск – оторвался рукав. Дядя Федор оказался на свободе, и, трогая рваный клок на плече, как рану, казалось, морщился от боли. Старшеклассник отступил на несколько шагов и ждал – не пропускал в школу... Уже прозвенел звонок. Возбужденные и почему-то окрыленные, несколько человек решили, что тоже не пойдут на урок. Вдруг дядя Федор вскрикнул: «Пошли за Игорьком... Нужно рассказать Игорьку...» Отправились впятером. По пути поняли, что он ведет нас прямо к Митрофанову, потому что знал его, жил с ним в одном дворе... И чувство, что окажемся приближены к нему, кружило голову, как будто, ищущие правду, мы и могли бы найти ее только у него!
Митрофан с Вонюкиным отлеживались в беседке детского сада. Там они, наверное, мыкались еще с ночи. Взгляд Игорька был хмурым, мутным. Уставшее лицо оплело паутиной морщин. Сначала говорил только дядя Федор. Потом все подняли голос и наперебой рассказывали о том, что произошло в школе, чувствуя, как бывший ее ученик, проснувшийся утром на скамейке детского сада и страдающий теперь похмельем, начинал что-то обдумывать и понимать. Вонюкин крикливо порывался прогнать нас, наверное, ревнуя к дружку, у которого просили мы помощи, но почему-то Игорек поднялся – и, казалось, сам же повел нас за собой. Своего обидчика вызвал на перемене сам дядя Федор. Он принял вызов – и стоял один в нашем окружении, глядя все с той же презрительной гримасой; а старшеклассники, вышмыгивая перекурить, жались в сторонке у парадного входа. Вонюкин сорвался и бросился было на красавчика, но его остановил окрик Игорька, вдруг взявшего его под защиту. Драться решили без свидетелей. Игорек велел нам ждать на школьном дворе, а они направились куда-то в сад, который будто бы глухо затих, когда скрылись высокий спортивный парень и коренастый оборвыш.
После драки, которой никто не видел, новенький еще долго не показывался в школе – а у Игорька не заживала ссадина на разбитой губе. Он с удивлением трогал ее пальцами, будто живое существо, и восхищался: «Вот все целое, а губищи – это у меня всегда в кровь!» С того времени мы каждый вечер собирались в беседке детского сада или ходили выводком за Игорьком, не понимая, что порой ему было некуда идти. Постепенно он свыкся с нами, стал меньше пить и думал уже как будто обо всех. Вечно недоволен был Вонюкин. Он раздавал глумливые клички, но Игорек за ним не хотел повторять, и поэтому никто уж не откликался. Вонюкина с детства дразнили то «рыжим», то «вонючкой». За что ему досталась такая фамилия, он не понимал и мучился, мечтая ее при получении паспорта поменять на какую-нибудь красивую. Но для окружающих было пыткой даже смотреть на него – и видеть по всему лицу вздувшиеся гниющие прыщи.
Наше времяпрепровождение заключалось в поисках некоего важного дела, которое мы окутывали тайной, если что-то тайное и не увлекало за собой: то мы искали клад на берегу Яузы, то вознамерились своими силами раскрыть убийство, когда на территории детского сада однажды был найден так и оставшийся неопознанным труп мужчины. Не понимаю, что было игрой, а что жизнью. Мы слушались Игорька. Не знаю, когда он был самим собой – превращая с нами свою жизнь в какую-то военно-спортивную игру или, в другое время суток, исчезая по ночам вместе с Вонюкиным и появляясь – похожий на мертвеца, с мертвенно-сизыми губами, мертвым взглядом. Вонюкин ухмылялся и говорил, что он вор и умрет в тюрьме, раз уж там родился, – и это Игорьку льстило, нравилось, как будто успокаивало нервы. Он придумал плавать на пенопластовых плотиках по Яузе и рыть землянку на зиму. Он воображал себя капитаном пиратской флотилии, командиром фронтового блиндажа, а мы были его морячками и солдатиками, хотя всерьез учились терпеть боль, отвечать за свои поступки и даже слова. Но научить чему-то житейскому Игорек не мог, разве что пугал рассказами о тюрьмах с лагерями, которых знал столько, будто сам отсидел полжизни где-то там, за колючей проволокой и решетками. А потом поучал, что надежнее всего в жизни – работа автослесаря или хотя бы крановщика; они с Вонюкиным пошли в училище, где учили на крановщиков.
Чтобы не отличаться от него, каждый обзаводился телогрейкой да кирзовыми сапогами. Я свою выпросил у бабушки. Она работала на почте и получила телогрейку как униформу на зиму. А на кирзачи выклянчил у нее же обманом десять рублей, обещая, что потрачу на покупку каких-то дефицитных кроссовок, и долго ходил с дружками у стройбатовских казарм, пока один служивый не перекинул пару стоптанных сапог через забор, за что я тут же просунул в щель свой червончик, обмирая и от гордости за себя, и от счастья. Это было одеждой для какой-то особенной мужской жизни; она обнимала собой, баюкала, грела, заключала в приятную сильную тяжесть, защищала и утешала, будто броня, была сигналом для своих и чужих.
В кинотеатре «Сатурн» каждое воскресенье последний сеанс был сходкой; а если не приходили показать себя – тех в Свиблове не признавали за силу. В сумерках просмотрового зала, где вставали широкоэкранные тени фильма, выясняли под шумок накопленные за неделю обиды или сговаривались о делишках. Но мы жадно смотрели фильм, подавленные, как лилипуты, размахом экрана, и ничего не боялись, потому что за нас все улаживал Игорек. Одинокая фигурка Игорька в это время передвигалась по залу, он кого-то укрощал, кого-то мирил. Там, на последнем сеансе, в тепле и под укрытием вальяжной темноты, собирались только дворовые палачи да уличные хозяева чужих жизней. И мы тоже сидели в их гуще, будто незваные гости, содрогаясь от того, что творилось на экране, и от визга пьяных шлюшек, елозивших на коленях у взрослых парней. После сеанса толпа вываливала в ночь и катилась шумным дружным комом, пока постепенно не таяла. Одни исчезали в одних улицах, другие растворялись в черноте других, тот сворачивал за угол, а этот шел прямо или цеплялся к первой попавшейся компании, откуда пахло винцом, и отправлялся сам не зная куда и с кем, чтобы не пропасть в одиночку.
Праздники тоже собирали толпу, когда несколько раз в год одаривали зрелищем – салютом под открытым небом. В разных уголках Москвы, где открывался хоть какой-то небесный простор, стекались на ночь глядя тысячи и тысячи людей. Люди стояли как потерянные, забытые и будто в ожидании пришествия устремляли лица в чужевато-пустое до этих мгновений небо. Раздавался гром, взлетал и взрывался горящий желтый шар, все кругом озаряло жаркое пульсирующее сияние, и становилось светло, как при свете дня. Каждый удар салюта встречали победные вопли, свист, улюлюканье, рвущиеся на свободу из людских глоток, будто совершалось что-то бесповоротное и великое. Эти митингующие толпы держались до последних всполохов. А когда небо вдруг гасло, народ умолкал и расходился.
Милиция следила, чтобы из толпы не доносилось матерных выкриков и не было драк, хотя этим обычно и кончалось, как и тогда, в ноябре, у памятника Рабочему и Колхознице, когда отгремели последние орудийные залпы, рассыпавшие в ночном небе кроваво-желтые конфетти.
Игорек обещал купить вино, и каждый готовился быть пьяным, чтобы ехать смотреть салют. Встретиться было условлено в детском саду, где и всегда. Я еще не испытывал, что такое быть пьяным, но почему-то не боялся того, что произойдет. Игорек пришел с большой бутылкой за пазухой, которую называл «бомбой». Воздух уже залили чернильные сумерки, потрескивал дождь. Слезливые огоньки домов удаляли их же баракоподобные темные очертания. Пришла моя очередь. Я хлебнул из пущенной по кругу бутылки, не показывая вида, что делаю это в первый раз.
Карамельная сладость запеклась во рту и на губах. Я прислушивался к себе и ждал чего-то, схожего с ударом, но приторная жидкость из холодной бутылки вдруг превратилась во мне в доброе тепло. Тот первый глоток был полон доброты и тепла, от которых кружило голову, как от переизбытка кислорода; я снова прильнул к обогретому губами ребят, теплому и влажному сосцу грудастой бутылки, ощущая плаксивое чувство уюта и родства со всеми, кто из нее пил.