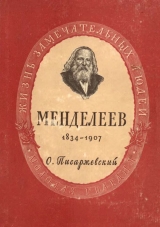
Текст книги "Дмитрий Иванович Менделеев"
Автор книги: Олег Писаржевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
«Главный предмет моих занятий есть физическая химия.
Первым предметом для занятий должно было по многим причинам выбрать – определение сцеплений химических соединений – то-есть заняться капиллярностью, плотностью и расширением тел…»
Он искал только там, где ему хотелось. И он нашел… Но на первых порах не то, что искал.
VII. УДАЧА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ПРОЯВЛЯЕТ СВОЕНРАВИЕ
Огорчение, которое причинило петербургским друзьям Менделеева его временное отступничество от химии, как они ее понимали, исторически вполне объяснимо.
Вообще говоря, содружество двух родственных наук – физики и химии – зародилось достаточно давно, еще тогда, когда Ломоносов, открывая новую эпоху в науке, впервые взвесил все вещества и приборы до химического опыта, затем взвесил вещества, получившиеся после химических превращений, и таким, чисто физическим приемом доказал, что вещество не творится и не пропадает, что материя вечна. В 1760 году он писал в Санкт-Петербургскую Академию наук:
«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупляется к другому. Так, ежели убудет несколько материи, то умножится в другом месте».
С тех пор физика и химия оставались струями одного течения, но текли рядом, смешивая воды и выравнивая скорости хотя и непрерывно, но медленно. После весов химия получила от физики еще ряд новых орудий эксперимента: термометр, с помощью которого ей удалось установить, что при химических превращениях вещества происходит и превращение энергии (выделяется или поглощается тепло), гальванический элемент, который был первым источником электрических воздействий на химические соединения, и, наконец, такое совершенное орудие химического анализа, как спектроскоп. Впрочем, химия приветствовала эти подарки, главным образом, постольку, поскольку они способствовали расширению списков веществ, с которыми она оперировала. Свойства же отдельных веществ, которые прежде всего приковывают к себе внимание физика (теплопроводность, электропроводность, коэфициент преломления и пр.), до поры до времени оставляли химика почти равнодушным. Химики не были безразличны только к одному свойству любого элемента: к его способности образовывать соединения, вступать в реакции. Это особенно отчетливо проявилось в развитии органической химии, которая занималась и занимается бесконечным построением все новых и новых причудливо сложных веществ из очень малого круга разновидностей элементов.
Следуя своими простыми путями, химия и не могла особенно углубляться в исследование механизма химической реакции. Она считала это не своим делом, и Менделеев не ошибался, когда говорил, что для химика соединение разных элементов существенно не как процесс, а как результат. Химик задавал природе один главный вопрос: что получится, если соединить или разъединить те или иные вещества, ставил опыт и тут
же выписывал готовый ответ. Классическая химия была чисто описательной наукой и, как мы видим, этой своей ограниченностью нисколько не сму щалась.
В свою очередь физик обычно мало интересовался химическим составом вещества. Он стремился установить общие законы, управляющие всеми веществами вообще. Его внимание поглощали не столько сами по себе бром, цинк, иод и т. д., сколько те состояния, в которых они могли находиться: твердое, жидкое и газообразное. И действительно, зная, что цинк кипит при одной температуре, а вольфрам – при другой, еще ничего нельзя сказать о них как о химических элементах. Но зато можно сделать важное для физика заключение о том, насколько прочнее связи между атомами у одного металла, чем у другого.
Физический закон, утверждающий, что равные объемы газов при одинаковом давлении и температуре содержат равное число молекул, является общим законом для всех газов, независимо от их химического состава. Таких примеров можно привести много.
Называя главный предмет своих занятий «физической химией» и провозглашая тем самым наступательный союз двух наук во имя разоблачения тайны химического сродства, Менделеев выдвигал, следуя за Ломоносовым, широчайшую новую программу науки, которую удалось осуществить в полном объеме лишь значительно позже. В основе современной науки действительно лежит синтез физических и химических знаний. Он осуществляется физической химией и новой ее отраслью, которая называется химической физикой. Здесь нет игрысловами: речь идет о самостоятельных областях единой науки, широко применяющей физические методы для решения все той же основной задачи, которую всегда ставила перед собой химия. Но если физическая химия, по преимуществу, подбирает примеры для решения этой задачи, химия изучает готовый ответ, то химическая физика расшифровывает ход ее решения. Соперничая в совершенстве методов исследования с быстротой химических превращений, эта новая наука сумела «остановить мгновение» – она расчленила, разъединила химическое превращение, успела рассмотреть его промежуточные ступени, не различимые ранее.
Для уточнения различия в предмете исследований этих родственных областей знания можно сказать, что физическая химия исследует вопросы превращения тепловой, механической и электрической форм энергии в химическую. Химическая же физика изучает процессы, происходящие внутри атома, точнее – в его электронной оболочке.
После Менделеева в России физическая химия была представлена школами Н. Н. Бекетова, Н. С. Курнакова, Л. В. Писаржевского. В настоящее время ее полного расцвета достигли школы крупнейших советских физико-химиков – академиков Н. Н. Семенова, А. Н. Фрумкина, А. Н. Теренина, П. А. Ребиндера и других.
Но здесь нет места для рассказов об увлекательных достижениях и сложных проблемах новой науки. От них нам надо вернуться очень далеко назад – к первым шагам, которые в этой области сделал молодой Менделеев. Для этого нам придется оставить в стороне все, что мы успели узнать о сущности химического сродства благодаря объединенным усилиям физики и химии последнего времени.
Нам придется забыть, что атомы заставляет соединяться между собой та же сила, которая заставляет гребенку, потертую о волосы, притягивать к себе листочки бумаги, – сила электрического притяжения, проявляющаяся, однако, совсем не так элементарно, как это представлял себе когда– то Берцелиус. Забудем об электрической природе такого свойства гранита, как прочность, такого свойства стали, как твердость, и чисто химической «любви» соли к воде. Забудем, что присущее атому свойство соединяться с точно определенным числом атомов других элементов, сущность которого как раз и стремился выяснить Менделеев, – так называемая атомность или валентность, – объясняется способностью атомов обмениваться между собой электронами, которыми насыщены оболочки их ядер. Сила сцепления частиц вещества, порождающая такие явления, как прилипание, смачиваемость и т. д., тоже электрического происхождения, но проявления ее связаны с более грубым взаимодействием частиц вещества – молекул, составляющих индивидуальность того или иного химического соединения. Отсюда нельзя сразу перескочить к значительно более тонким силам химического сродства, характеризующим индивидуальность отдельных атомов, сцепляющихся между собой для того, чтобы образовать молекулу.
Но мы все эти современные воззрения на структуру вещества должны оставить в стороне совсем не для того, чтобы на опустевшем фоне большой карты нашего знания нам показались более оправданными попытки Менделеева от «механики частиц» подобраться сразу же к силам химического сродства.
Все высказанные уже оговорки необходимы лишь для того, чтобы мы могли следить за опытами, задуманными Менделеевым в 1860 году, без всякой предвзятости и без чрезмерных ожиданий. Они достаточно интересны сами по себе, и мы их так, попросту, и опишем.
Чего хотел достичь Менделеев – мы знаем: он стремился ослабить силы сцепления между молекулами и посмотреть, не прячутся ли за ними какие-нибудь любопытные и важные для химии свойства вещества, обычно замаскированные игрой этих сил взаимодействия между молекулами. Когда, с помощью рычага весов, он оторвал пластинку, припаянную к поверхности жидкости, он противопоставлял силе сцепления частиц жидкости силу земного тяготения. Он словно «взвешивал» стремление молекул к взаимному сближению. В этом опыте сила сцепления испытывалась на крайнем пределе ее мощи, когда она в состоянии еще удерживать прилипающую к поверхностному слою пластинку твердого тела. Но эту же силу можно наблюдать и на крайнем пределе ее немощи, когда она почти уничтожена. Что лее может свести «нанет» силу сцепления частиц между собой? Только что родившаяся новая механическая теория тепла указывала Менделееву ответ: ускорение их хаотического теплового движения.
Прибором для измерения сил сцепления частиц жидкости Менделееву служила тонкая стеклянная трубка с отверстием не толще волоса, так называемый капилляр. Если такой капилляр погрузить одним концом в жидкость, он тотчас начнет наполняться этой жидкостью до определенного уровня. Одна жидкость поднимается в капиллярной трубке на большую высоту, другая – на меньшую. Она вздымается повыше, если сила сцепления частиц в жидкости велика, пониже – если она мала. Таким образом, в этом простом приборе связываются между собой два физических явления: сила сцепления частиц жидкости и высота подъема жидкости в капилляре, – здесь одно является следствием другого, одно познается через другое. Шкалой этого прибора является сама стеклянная трубочка капилляра. Указатель силы сцепления – столбик жидкости, вздымающийся по волосному каналу капилляра на ту или иную высоту. Если жидкость нагревать, сцепление частиц в ней ослабляется, потому что верх берет хаотическое тепловое движение, передающееся от молекулы к молекуле и заставляющее их двигаться все быстрее и быстрее. Термометр показывает, насколько сильно нагрета жидкость. Насколько, соответственно, уменьшается сила сцепления, показывает высота подъема жидкости в капиллярной трубке. Вот и все исходные условия для наблюдений, которые предпринял Менделеев.
Он с утра и до ночи пропадал в своем сарайчике. Ему приходилось быть одновременно и исследователем, и препаратором, и лаборантом. Он сам паял термометры, сам очищал исследуемые жидкости от примесей, проверял или заново определял их удельные веса, снова оставляя в наследство своим благодарным последователям громадные таблицы безупречно точных данных. Он сопоставлял силу сцепления жидкостей и их плотность. Он наблюдал за тем, как сцепление изменялось с изменением состава жидкости. Он старался обнаружить еще новые, неизвестные связи явлений. И он не замечал ничего! Во всяком случае – ничего интересного для химика.
Он несколько видоизменил свои опыты: он измерял удельный вес жидкости при самых высоких температурах и самых больших давлениях, которые мог получить. Для этого он нагревал жидкости в запаянных с обоих концов стеклянных трубках. Увы, изменения удельного веса при всех условиях подчинялись одним и тем же законам. Никаких отступлений от хорошо известных правил! Было от чего прийти «в отчаяние… Вместо того чтобы открывать новые явления, Менделеев исчерпывал – «закрывал» – одну область исследования за другой. После такого тщательного обследования там нечего было бы больше делать. Он выполнял, таким образом, почетную и важную, хотя и незаметную, черновую работу ученого. Без нее наука не может двигаться вперед, как войско, не закрепившее за собой тыла.
Но Менделеев мечтал о другом!.. Где творческие свершения? Где разгадка ускользающей тайны?
Но вот одно явление, настолько мало выделяющееся из ряда других, подобных, что мимо него легко пройти равнодушно, как это и произошло со многими наблюдавшими его ранее – французским химиком Каньяр Латуром и другими. Перед исследователем запаянная стеклянная трубка с жидкостью. Он ее ставит вертикально. Края поверхностной пленки жидкости в капиллярной трубочке наползают на ее стенки и поднимаются выше уровня жидкости, как бы загибаются кверху. Поверхность жидкости, под действием сил сцепления, становится вогнутой. К запаянной трубке с жидкостью подводится источник тепла. Жидкость начинает нагреваться. Под влиянием нагревания силы сцепления ее частиц ослабевают, уравновешиваются силами теплового движения молекул, и уровень жидкости постепенно выравнивается. Из вогнутого он становится почти совсем плоским, еще более плоским, затем вдруг, внезапно, происходит мгновенный переход, и жидкость в трубке нацело исчезает – она вся сразу превращается в пар. Это происходит, когда сцепление становится равным нулю и жидкость превращается в тело без сцепления – в газ, – это отметил Менделеев в своей статье «Частичное сцепление некоторых жидких органических соединений», напечатанной в 1860 году в первом русском химическом журнале Н. Н. Соколова и А. Н. Энгельгардта, который эти неутомимые пропагандисты химии стали издавать в виде приложения к «Горному журналу».
«Температура этого превращения жидкости в газ – это абсолютная температура кипения», – написал Менделеев далее. С этими словами в науку входило новое понятие огромной важности. В следующей большой статье, опубликованной в том же журнале, «О сцеплении некоторых жидкостей и об отношении частичного сцепления к химическим реакциям» (1860) Менделеев еще более определенно подчеркивал, что «абсолютная температура кипения» жидкостей – это такая температура, выше которой жидкость уже не может существовать как жидкость: она вся превращается в пар».
«Абсолютная температура кипения» могла быть обнаружена только в опытах с жидкостью, нагреваемой в запаянной трубке, потому что для ее проявления должно существовать равновесие между стремлением частичек жидкости выскочить за границы поверхности, разделяющей жидкость и газ, и давлением пара над жидкостью, ограничивающим это стремление жидкости к испарению. С повышением температуры все больше частичек жидкости превращается в пар, а следовательно, все больше возрастает его давление, и так до того мгновения, когда все различия между жидкостью и паром сглаживаются и для полного перехода всей жидкости в пар не требуется уже никакой дополнительной затраты тепла.
Если понижать температуру любого газа, он также, рано или поздно, достигнет своей «критической точки», и если охлаждать его еще дальше, температура его перейдет за эту точку и он неизбежно превратится в жидкость. Всякую жидкость можно обратить в газ, и всякий газ можно обратить в жидкость. Это произойдет при достижении каждым из них своей особой «критической» точки – менделеевской «абсолютной температуры кипения».
Напрасно бились исследователи, пытаясь, вслед за Фарадеем, с помощью высоких давлений сжижать углекислый газ, азот и кислород, из смеси которых состоит воздух, которым мы дышим. Они подвергали эти газы все большему и большему сжатию, но получали сжатый газ и ничего больше. Газы – упрямцы, не желавшие сжижаться ни при каких давлениях, получили даже название «постоянных газов». Открытие Менделеева разоблачало секрет этого поразительного постоянства. Если эти газы не удавалось привести в жидкое состояние, так это только потому, что их не сумели охладить до «абсолютной температуры» их кипения, до «критической температуры», как ее сейчас называют в науке. Если бы экспериментаторы, которые продолжали безуспешно единоборствовать с «постоянными газами», дали себе труд дотянуться уж если не до «Горного журнала», издающегося в Петербурге, а хотя бы до известий Парижской Академии наук («Соmpte Rendus»), в которых были опубликованы краткие сообщения Менделеева об открытой им «температуре абсолютного кипения», и если бы они вдумались в сущность этого открытия, то на десять лет раньше, чем это в действительности произошло, они поняли бы, что никаких «постоянных газов» в природе не существует и существовать не может. Лишь десять лет спустя после обнародования результатов менделеевских исследований английский физик Эндрюс опубликовал свой мемуар, где понятия о «критической температуре» он связывал с задачей сжижения углекислоты. Менделеев с живостью отозвался на эту работу. Он написал «Замечания к исследованию Эндрюса над сжижаемостью углекислоты», где привел наиболее важные места из своих старых – гейдельбергских – работ, более точно определяющих «абсолютную температуру кипения», или «критическую температуру», чем это делал Эндрюс [13]13
К 1870 году относится прямое утверждение Менделеева, непосредственно вытекавшее из его гейдельбергских работ, что «несжижаемость известных газов, как-то: кислорода, азота, водорода, зависит, по всей вероятности, от того, что опыты производились с температурами, более высокими, чем абсолютные температуры кипения; все более глубоким охлаждением предназначаемых к ожижению газов можно надеяться достичь их ожижения».
[Закрыть].
В декабре 1877 года француз Кайете и швейцарский физик Пикте, охладив воздух до температуры – 184ºС, наблюдали первые капли жидкого воздуха, осевшие на стенках сосуда, в котором происходило охлаждение. Они работали независимо друг от друга, но они оба зависели от открытия Менделеева, впервые указавшего науке тот путь, следуя которым они достигли своего замечательного успеха. И теперь, когда в сотнях колонн громадных промышленных гигантов мировой индустрии текут целые реки жидкого воздуха, переведенного через границу его «абсолютной температуры кипения», чтобы в жидком виде он мог отдать кислород, вдуваемый в домны, ускоряющий химические процессы, заливаемый в холодо-упорные баки сверхскоростных ракетных самолетов, – не пришло ли теперь время отдать справедливую дань памяти пионера науки, перебросившего первый мостик познания к этому широкому пути? Не пора ли в расчетах холодильных заводов, в теоретических работах, посвященных самому диковинному веществу на свете – жидкому гелию, начать называть неизбежно упоминаемые
«критические температуры» их настоящим именем: точками Менделеева?
Приближалось время возвращаться в Петербург, в ту же лабораторию с пустыми шкафами, которую он так недавно покинул. По существу ее надо было оборудовать и отстраивать заново…
А у его друга, молодого физиолога Ивана Михайловича Сеченова, не было даже и такой зацепки в жизни, как собственная лаборатория. Друзья хлопотали о кафедре для него в Московском университете. Но все хлопоты были пока безуспешны. Кафедра физиологии в этом университете была свободна, и профессор Иноземцев предложил Сеченова в качестве ее руководителя, но достопочтенный профессор Анке заявил на заседании ученого совета университета, что, как ему доподлинно известно, Сеченов занимается не физиологией, а психологией, и потому эта кафедра ему не по специальности. Предложение Иноземцева было отклонено. А у профессора Анке был, разумеется, припасен свой кандидат на эту кафедру – профессор Эйнбродт…
Действительно, Сеченов, в числе других проблем естествознания, интересовался и психологией. Но, ссылаясь на это, профессор Анке вел заведомо нечистую игру – физиология была главным интересом Сеченова. Волновавшие его идеи находили горячий отклик у Менделеева. Сеченов стремился ввести в науку о живом объективные методы исследования.
В Гейдельберге, например, он исследовал собственное свечение тканей глаза – флюоресценцию. Ему удалось усовершенствовать способ определения газов, растворенных в крови. Это пона-

добилось ему для изучения влияния на организм острого алкогольного отравления.
С любимой идеей Сеченова о единстве жизненных процессов, о материальном единстве мира, Менделеев связывал задачу естественного расширения границ химии. Он принимал близко к сердцу успехи Сеченова в выяснении химического характера газообмена в тканях живого тела.
О присоединении к этому кружку третьего сочлена – химика и музыканта Александра Порфирьевича Бородина – мы узнаем из его письма к матери. Мы приводим выдержку из него, так как оно сообщает некоторые штрихи, характеризующие тамошнее окружение друзей.
«Русские здесь разделяются на две группы,– писал Бородин из Гейдельберга, – ничего не делающие, то-есть аристократы: Голицын, Олсуфьевы и пр. и пр., и делающие что-нибудь, то-есть штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедом и по вечерам. Я короче всех сошелся, конечно, с Менделеевым и Сеченовым – отличным господином, чрезвычайно простым и очень дельным. Общество же немцев невыносимо до крайности: чопорность, сплетни ужасные… Общество немецких студентов еще противнее… Представьте себе, что все они разделены на партии, из которых каждая имеет своего наибольшего – сениора. Студенты разных партий отличаются костюмами и цветами: у одних фуражки желтые, у других – красные, у третьих – белые и т. д. Кроме того, у каждого студента шелковая перевязь через плечо; у сениора шляпа треугольная; фасоны фуражек самые курьезные! Прибавьте к этому еще ботфорты престранной формы, и вы будете иметь понятие о костюме немецкого студента. По воскресеньям студенты пьянствуют, и редкая неделя проходит без дуэли; повод всегда один и тот же: один студент назовет другого «думмер юнге» [14]14
Дурак.
[Закрыть]. И это ведется с незапамятных времен. Вот консерватизм-то! Дуэли эти, впрочем, ограничиваются всегда пустяками: одному раскроят лоб, другому порежут физиономию – и только. Все сходки их сопровождаются кучей формальностей, самых нелепых, которые, однако, всегда используются с точностью.
Город имеет увеселения: театр и концерты симфонического общества. На одном из этих концертов мне удалось быть. Музыка очень порядочна. Но театр – это просто чорт знает что такое. Кроме двух или трех персонажей, остальные никуда не годятся. Но пьеса, которую я видел, воистину удивительная. Трудно выдумать что-нибудь бессмысленнее. А немцы сидят и восхищаются…»
Друзей тянуло в Россию. Менделеев мечтал об этом нетерпеливо. В милой сердцу родной стране есть свои собственные научные центры, лучше Гейдельберга. Но передовая русская наука не встречала поддержки со стороны правящих верхов.
«В России плохо заниматься наукой…» – так начиналось письмо на эту тему, которое Менделеев отправил из Гейдельберга на имя попечителя Петербургского учебного округа. Он называл и разбирал в своем письме и причины этого: «Недостаток во времени и недостаток в пособиях, необходимых при занятиях».
«Недостаток во времени, – продолжал он, – происходит от множества посторонних занятий, какое берет на себя каждый для того, чтобы иметь средства к жизни, или по причине того общественного положения, в каком находится у нас небольшое число специалистов».
Менделеев не жаловался, а требовал. Вот что должно было быть, по его мнению, изменено в университетской научной жизни:
«Недостаток у нас в средствах для занятий, – писал он, – происходит, во-первых, от того, что… самому приходится выполнять кучу черной работы, а при недостатке во времени приготовление грубых материалов сильно убивает энергию. Во-вторых, упомянутый недостаток происходит от того, что мы не имели лабораторий под руками…» [15]15
Иллюстрацию к сказанному здесь мы находим в воспоминаниях К. А. Тимирязева, который проходил у Менделеева курс органической химии. Тимирязеву выпало, в качестве темы лабораторной работы продолжение известного исследования Зинина по получению анилина. Материал – бензойную кислоту – пришлось купить на свои гроши, так как этот расход был не под силу лаборатории с ее трехсотрублевым бюджетом. Здесь понадобилась едкая известь, в то время как на складе была известь только углекислая. Лаборант дал благой совет: затопить горн и прокалить известь самому. Но здесь встретилось новое препятствие – сырые дрова шипели, свистели, капали, но толком не разгорались. На выручку пришел сторож: «Эх, барин, чего захотели, казенными дровами горн растопить!» Он посоветовал сперва взять «не то жаровенку, не то плиту, положить на нее вязаночку дров и протопить, дрова-те и просохнут».
«Сушка казенных дров, как первый шаг к реакции Зинина, – вот что подлинно называется начинать сначала!» – восклицал Тимирязев.
[Закрыть].
Сеченов не предвидел особенных успехов от таких обращений к официальному руководству ведомства просвещения. По своему собственному
признанию, которое мы находим в его «Автобиографических записках», он был крайне удивлен, когда, вернувшись в Россию, он услышал мнение на этот счет Н. Н. Зинина. «В ответ на наши – мои и Боткина – сетования на некоторые стороны русской жизни: «Эх, молодежь, молодежь, – сказал он, словно всерьез, но, конечно, соглашаясь с нами, – знаете ли вы, что Россия единственная страна, где все можно сделать» [16]16
И. М. Сеченов. Автобиографические записки. Изд. Академии наук СССР, 1945, стр. 102.
[Закрыть].
Больше всего друзей сближала свойственная им всем неистовая, вдохновенная, фанатическая привязанность к труду. Менделеев позже писал в одной из своих публицистических работ: «Для меня несомненно, что придет время, когда нетрудящиеся не будут в состоянии прожить, хотя до этого, конечно, ныне очень далеко…»
В этом смысле и Бородин, так же как и Менделеев и Сеченов, был человеком будущего. Его биограф А. П. Дианин писал о нем: «…И вообще он не любил быть без занятий». Это звучало так же, как если бы кто-нибудь написал об огнедышащем вулкане: «И вообще он не любил не извергаться». Одновременно с созданием партитуры оперы «Князь Игорь» Бородин опубликовал не одну даже, а несколько крупных химических работ. Он умел лепить и гравировать, готовить фейерверки, рисовать карандашом и писать красками, играть на нескольких инструментах. Он мог сколько угодно иронизировать над целеустремленной поглощенностью Менделеева, но тот отлично знал, что сам Бородин, впервые занявшись химией, к великому ужасу жиль-
цов,не только свою комнату, но и всю квартиру превратил в химическую лабораторию и гордился тем, что в совершенно неподходящем месте впервые самостоятельно получил гликолевую кислоту. Все, чего бы ни касалось его увлечение, превращалось в ветер, в огонь, в стихию. Однажды он возвращался домой со своим другом Щиглевым. Фонари еле-еле мерцали на Петербургской стороне и то кое-где. Вдруг Щиглева поразил какой-то неопределенный шум, и шаги Бородина, шедшего впереди, перестали раздаваться. Вслед за тем он услыхал у себя под ногами звуки флейты. Оказалось, что Бородин слетел в подвал лавки и, испугавшись за свою самую большую в этот момент драгоценность – за флейту, которая вылетела у нею из футляра, мгновенно поднял ее и начал пробовать, цела ли она… [17]17
В. В. Стасов. А. П. Бородин. Спб., 1887, стр. 9.
[Закрыть]
Бородин любил Менделеева за то же, что и тот ценил в нем: за способность безраздельно отдаваться творческой мысли, порыву. Но для Бородина одного порыва хватало, подчас, едва на неделю, а у Менделеева он продолжался всю жизнь. Менделеев принимал все извивы сложной талантливости своего друга как естественное природное богатство; близость к нему он рассматривал как собственное везенье и наслаждался этой дружбой без зависти и корысти.
Они поклялись, что в случае, если одного замучит какой-нибудь непосильный вопрос, родившийся из столкновения с суровой жизнью, другие придут ему на помощь. Они съедутся вместе, чтобы дать для решения все свои знания, опыт и убеждения. Этой клятвой связали себя Менделеев, Бородин и
Сеченов. К ней потом присоединились Мечников и рано умерший Олевинский. На памяти близких Менделеева пять раз собирался этот съезд друзей, назначенный в дни сомнений и печали одного из них. Они обсуждали вопросы общественного устройства, вопросы этики и морали. Темы последних двух съездов не знает никто.
Каждый из них шел своим путем, держась за поручни этой дружбы.
Она скрасила тревожные гейдельбергские раздумья о будущем, о науке, о себе.
Она внесла в жизнь Менделеева светлую радость искусства. Вдохновленные импровизациями Бородина на рояле, друзья снимались с места и отправлялись пешком в соседний Фрейбург слушать, в складчину, знаменитый орган.
Вместе с Бородиным Менделеев забирался, ради отдыха, в горы.
Из маленького швейцарского местечка Интерлакен Менделеев подробно описывал свои впечатления в письме к Феозве Никитичне Лещевой. Невольно он все чаще думал об этой девушке.
«Только не ждите, пожалуйста, – писал он Лещевой, – чтобы я вам объяснил, почему и для чего бродят по горам пешком по камням, снегу и в грязи… Снеговая вершина просто-напросто точно острая крыша, покрытая снегом. Мы идем на гору вышиной с версту, справа скачет ручей Рейхенбах, скалистая гора поросла елями, усталый стираешь пот и вдруг между деревьями видишь снеговую пирамиду, блестящую, отражающую свет. Кажется, простая штука, а нет, так и охватывает всего что-то прекрасное, пропадает усталость… Не забудешь этой минуты, рад будешь десять верст лезть, чтобыеще раз испытать то же. А от чего? Я вам не скажу. Не скажу не потому, что не хочу, нет, сам не знаю, и выдумывать не могу…»
Бывают мгновенья, когда ученый нуждается в помощи поэта.
Менделеев вкладывал в свое письмо пушкинские строки (цитируя их на память и с некоторыми неточностями).
Когда б не смутное томленье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б наслажденье Вкушать в неведомой глуши.
«Право, – продолжал он, – это то же самое чувство, которое и Ольгу заставило грустить – все чего-то не хватает…»
Чувствовал он сильно и ярко, как это может только большой человек. Но, вспоминая о своих озарениях, он мучительно путается в неуклюжих строчках письма. Он совсем не умел разбираться в своих чувствах и, тем более, писать о них. Только когда он говорил или писал о своем любимом труде, о творчестве, о химии, о судьбах страны, в его трудном и «своеобычном» языке, откуда ни возьмись, появлялись и яркие образы и запоминающиеся сравнения, он умел быть и торжественным, и убедительным, и ироничным, и даже влюбленным.








