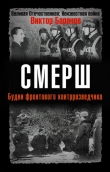Текст книги "Записки офицера «СМЕРШа»"
Автор книги: Олег Ивановский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Глава 5
ОТХОД – 600 КИЛОМЕТРОВ…
1 июля 1941 года. Школа как разворошенный муравейник. Кто-то куда-то бежал, кто-то что-то тащил – ворох ли обмундирования, две-три винтовки, черные, учебные…
– Куда?
– Командир велел вон в тот колодец бросить…
– Вторая рота, бегом к вещевому складу! Кто хочет сменить сапоги, можно брать командирские, яловые…
Это уже совсем неожиданно. Нам, курсантам, – и командирские. Поддался этому искушению и я. Снял свои уже повидавшие виды за девять месяцев кирзачи, надел новенькие кожаные. Рядом с вещевым складом – продуктовый. Там на три повозки курсанты грузили какие-то мешки и ящики.
Часов в 9 вечера командиров взводов дежурный вызвал к начальнику школы. Они вернулись быстро. По взволнованному лицу нашего старшины нетрудно было понять, что принесенное им известие нельзя отнести к разряду обычных.
– Третий взвод, ко мне! Становись! Равняйсь! Смирно! Товарищи курсанты… – старшина чуть запнулся, – товарищи курсанты, обстановка очень сложная, Коломыя почти окружена. Вы знаете, что уже восьмые сутки на нашем участке границы идут бои. Но противник обошел нас слева и справа. Мы сейчас в тылу у фашистов. Получен приказ – сегодня оставить город… Да, ребятки, не думалось, что такое получится… Задача: собраться быстро, взять с собой все, как приказано: винтовку, патроны – два подсумка, гранаты, противогаз, шинель в скатку, флягу, вещмешки с личным. Собак – на коротких поводках, но длинные тоже взять, скребницы, щетки… Лишнего ничего не брать. Сам проверю. Ясно? Выступаем в 23.00. Разойдись!
Ночь ничем о себе не заявляла. Казалось, что солнце только-только зашло. Июньские дни самые длинные. Ох, как это мы поняли через несколько суток!
В колоннах повзводно, с собаками на коротких поводках мы стояли на разворошенной территории школы. Рвали душу сирены – опять воздушная тревога. Зарево над городом, словно утренняя заря, только еще дым багровыми клубами. Это горела нефть… Собаки, чувствуя что-то непривычное, крутились вокруг хозяев, то и дело путая поводками их ноги. Чей-то пес тоскливо завыл.
– Да тише ты! Сидеть!
– Прекратить разговоры с животными! Вас как учили? Только команда!
– Шко-ола-а! – донеслось от головы колонны. – …агом… арш!
Нет, не строем, не оттягивая носочек сапога и не очень держа равнение, тронулась колонна. За ней повозки с продуктами, какими-то вещами, походная кухня на паре лошадей. Это я заметил, оглянувшись на повороте дороги.
Так начался наш поход, да не поход – тяжелый, изнурительный отход, отступление…
Где фронт? Где части Красной армии, где же она даст, наконец, решающий бой, остановит немцев, погонит их назад, за границу? Когда? Ведь уже восемь суток! Восемь. И верно ли говорят, что немцы уже где-то под Ровно? А это километров 300 за Коломыей. Если так, то как же нам выбираться? Но почему тогда у нас тут боев никаких нет? Говорил кто-то, что вроде у города немцы выбросили десант с самолетов и одеты они были в нашу пограничную форму. Но их городская комендатура всех переловила. До нас и дело не дошло. А может быть, и не так? Может быть, на этом война и закончится? – Зачем же тогда отходить? Зачем же столько всего сожгли и бросили?
Вот такие мысли, путаясь, перебивая друг друга, вертелись в голове, и, наверное, не только у меня. Информации-то никакой у нас, рядовых, не было, сводок информбюро по радио никто не слушал. Где оно, радио-то? Не в казарме же у солдат.
Только вот кто-то где-то что-то услышит, то и приносили во взвод. А слухи-то один страшнее другого! И об отступлении, и об окружениях, и о немецких танках, о погибших заставах и разбомбленных эшелонах на железных дорогах. Такое и слушать-то было страшно, не то что обсуждать. О таком вслух и не говорили. Помилуй бог – провокация, паникерство! Да этого и быть-то не может! Не может!
А дома-то что? Уже две недели нет писем. Целых две недели. И о себе ничего не сообщишь. Предупредили нас: не пишите, почта-то все равно не работает!
И как повезло мне, что в военкомате отец не успел оформить освобождение меня от службы. А то что могло бы быть? Война, мобилизация, и шагом марш в какую-нибудь пехотную или другую маршевую часть. Все люди новые, все чужие. А здесь – свои, знакомые.
Через несколько дней узнали, что наше положение было далеко не из завидных. Немецкие и венгерские войска, окружая Коломыю, к вечеру 1 июля были на расстоянии 20 километров. Случайно оставался лишь один небольшой проход из кольца – несколько километров. Это и спасло нас. Если бы мы опоздали на несколько часов, пришлось бы вступать в бой, и кто знает, чем бы все это кончилось.
…Куда мы шли? Ясно было только одно – мы отходили на северо-восток, в сторону Киева. Маршрут поняли потом, когда проходили городки и села Западной Украины. Я старался запомнить их, а потом, как только представлялась возможность, записывал в своей маленькой записной книжечке. Коломыя – Городен-ка – это был наш первый ночной переход, прошагали почти 40 километров. 3 или 4 июля, где-то между Го-роденкой и Гусятином, перешли через Збруч – нашу старую границу.
Был жаркий, душный день. Дорога запружена машинами, повозками. По обочинам – люди. Сколько их? Задыхаясь от пыли, изнывая от немилосердно палящего солнца, шли бесконечной то редеющей, то опять густой цепочкой люди. Какие-то тачки, груженные домашним скарбом, собранным и напиханным как попало, – узлы, сундуки, самовары, иконы. Рядом коза или корова. Дети, испуганные, завязанные по самые глаза личики. Да кто из этих несчастных, сорванных войной, приближающейся артиллерийской канонадой со своих родных мест, знал, что и почему надо брать с собой при эвакуации? Да и слово-то «эвакуация» знали ли?
Да кто из нас, военных, знал, как надо отступать? Разве этому учили где-нибудь, когда-нибудь в каком-либо подразделении Красной армии?
Кое-где среди беженцев, в основном женщин, стариков, детей, группками по два-три человека, брели раненые красноармейцы. Головы, руки в повязках – в бинтах, давно уже потерявших естественный цвет. Хмурые, изможденные лица. На выгоревших гимнастерках белые пятна соли. Тощие, пропыленные вещмешки – сидоры. К брезентовым ремням на поясе подцеплены, невесомо болтаются фляги. Пустые.
По кюветам валялись брошенные каски, противогазы, лотки с какими-то маленькими минами. Не видно только лопат, маленьких, саперных. А вот простые крестьянские у пехотинцев мелькают. Это или выпросили, или реквизировали у хозяев, где-нибудь на ходу. Без лопаты пропадешь.
На обочинах грузовики – нет бензина. Чуть поодаль за кюветом лошадь на трех ногах. Одна нога перебита. Рядом вспухшие трупы еще двух лошадей. Воронки от бомб. Значит, здесь «поработали» немецкие асы.
И никакого движения навстречу.
Но где же основные силы? Где же части Красной армии? Сколько же можно отступать? Вот ведь и Збруч – старая граница. Здесь же должны быть укрепрайоны, доты. Мы так ждали, что уж здесь-то будет дан отпор…
Мы знали, что на границе строились новые укрепрайоны, но до завершения строительства было еще далеко, а вот того, что здесь, на старой границе, уже разрушали старые укрепления и что с них было снято все вооружение, этого мы, конечно, знать не могли.
Вдруг впереди и справа как-то внезапно, обвалом, рев моторов, и тут же чей-то истошный вопль: «Возду-у-у-х!» Прямо над нами пронесся краснозвездный ястребок. За ним три «мессера». Самолеты закружились в небе. В синеве почти тут же протянулись серебристые бегущие пунктиры и с запаздыванием часто-часто звуки выстрелов. Пулеметы.
Один самолет, не успели сообразить даже чей, окутался дымом, камнем полетел вниз, коснулся деревьев, грохнул взрыв. Из-за леска поплыл багрово-сизый гриб. Три «мессера», взвыв моторами, пронеслись над нами, развернулись и со стороны солнца один за другим сваливались в пике, строча из пулеметов. К счастью, выбрали себе цель, показавшуюся им важнее нашей колонны и толпы беженцев. А может быть, их мы не привлекли потому, что зеленых фуражек у нас на голове не было. Пилоточки запылённые. Распознали бы пограничников – быть бы нам желанной целью!
А где же наши самолеты? Где же наши героические «соколы»?..
* * *
Мы шли по 40–50 километров в сутки, с короткими отдыхами, похожими скорее на обмороки. Еле шли и мы, и собаки. На привалах, свернув с обочины, мы тут же падали в кюветы, поднимали ноги вверх, чтобы оттекала кровь, нас этому учили, но точно так же делали и собаки! Лягут на спины и все четыре лапы вверх. Но их-то этому никто не учил! Процедура эта весьма болезненная, но потом идти легче. Так и в питье – несколько глотков из фляги – и словно силы из тебя выпустили. А как хотелось пить! И собакам тоже. Сжалившись над Ашкартом, разок-другой выливал ему на язык воды из фляжки, но ровно столько, сколько вмещалось в винтовую пробку, не больше.
Тяжело, очень тяжело было идти. Гусятин, Дунаевцы, Ялтушков, Бар, Жмеринка… Ноги переставлялись еле-еле. Гимнастерка на спине мокрая, сдвинешь скатку с плеча – под ней широкая мокрая полоса. От пота во рту солоно. И как хотелось присесть, а еще больше прилечь. Шагали, шагали, и конца дороги той не видно…
Над кюветами ветки вишен. Ягод столько, что листьев не видать. Словно кровью деревья облиты…
И вот когда казалось, что сил никаких не хватит еще и еще раз переставить налитые свинцом ноги, с головы колонны перекатом долетало: «Прива-а-ал!» И сразу кто где стоял, там и падал. И… тихо. Никто не острил, никто не ворчал… Сколько минут лежать? Пять? Десять? Эх, хотя бы часок или, уж ладно, полчаса. Время точно отмерено между двумя командами: «Привал» и «Встать, строиться!». Меру эту знают только командиры. Вот так, одно за другим: «Привал!», «Встать!», «Привал!», «Встать!»
С какой завистью смотрели воспаленными глазами на грузовики, полуторки и трехтонки, обгонявшие нас. В кузовах груз один – люди. Пыль, густая, тяжелая пыль. Дождя который день ни капли, а вот солнца, солнца хоть отбавляй. То днем. А ведь шли и ночами. Ночами прохладнее. Но человеческое существо так устроено, что ночь для него самое подходящее время для сна, а отнюдь не для походов. И ладно бы одна ночь, ну, две, а когда из ночи в ночь и… шагать… шагать… шагать…
И жажда. Как хотелось пить! О еде-то уж и забывать стали. Что за еда – один сухарь и два кусочка сахара на день. Это и завтрак, и обед, и ужин. Выбирай в этом меню, что и когда тебе кушать. Пожевал на привале отломанный от сухаря кусочек, запил водой, если есть во фляге, скатку сдвинул с плеча чуть под голову и ложись.
Кто-то не выдержал, сапог стянул. В нос такой ядреный запашок стукнул – отрезвеешь! И до команды «Встать!» словно проваливаешься…
И опять шею в скатку, как в хомут, винтовку на ремень, поводок собачий на руку, вещмешок всегда за спиной, он не съемный!
И опять шагать… шагать… шагать… А по колонне вполголоса: «Подтянись, шире шаг! Не отставать!» Разве думалось когда-нибудь, что я мог это вынести, вытерпеть.
Мысли, чувства, желания какие-то тупые, приглушенные. Казалось, с каждым днем все тупее мы становились, все безразличнее.
География – наука, изучающая поверхность земли. Такое определение известно. Мы познавали ту науку на практике, изучая ногами украинскую землю. О многих городках, городишках, через которые вела нас война, в другое время, прожив не одну – десяток жизней, и то бы ничего не знал, да и не узнал при «знакомстве», лежа на мостовой и очень удобно пристроив голову на несни-маемую скатку-шинель или просто на бортовой камень тротуара. Там, где они были, конечно. А так было при одно-двухчасовых отдыхах, в обнимку с Ашкартом. К нему прохладной ночью хорошо было прижаться – теплый и сопит сладко носом.
Выходить из строя, зайти куда-нибудь в сад или в хату категорически запрещалось, не говоря уже о том, чтобы сорвать с веток десяток черешен или начавших уже поспевать вишен. Это мародерство! За это под трибунал! Таков был приказ.
Принято говорить: дисциплина была железной. Нет, у нас она не была железной. Мягковато железо. У нас дисциплина была жесточайшей. Вспоминая через много лет те тяжелейшие дни отступления, нельзя не благодарить командование школы за это. Только благодаря такой дисциплине все курсанты с собаками, выйдя из Коломыи без потерь, двигались к Киеву.
На непреклонное, категорическое «НЕТ!» наталкивалось и желание многих из нас принять участие в. боях, встретить врага со всем жаром молодых сердец. А что могли мы со своими трехлинейками против танков, самоходок и прочей техники, ползущей, словно лавовый поток, по украинской земле? Что могли?
Выполняя строжайший приказ командования: «В бои не ввязываться, двигаться как можно быстрее на Киев», мы продолжали шагать. Шагать девятые сутки, десятые…
Думалось ли когда-то раньше, что с полной боевой выкладкой, почти без питания, по страшной июльской жаре мы будем проходить по 40–50 километров почти без отдыха, без сна. Разве сном были те два-три часа забытья, которые выпадали где-то под утро? Но и они были счастьем. Усталость, страшная усталость давила и сковывала тело. Никогда бы я не поверил, что человек может спать на ходу, и не в переносном смысле, а в прямом. Ноги механически двигались, а человек спал. Не раз я видел, как впереди идущий вдруг начинал «забирать» все правее и правее, сходил в кювет, спотыкался, падал и, не очнувшись, продолжал спать. Останавливались, с трудом поднимали парня и шагали дальше. Не раз и я просыпался, стукнувшись лбом в спину шедшего впереди.
Да вот еще горе какое на меня свалилось. Через несколько дней после выхода из Коломыи я убедился в опрометчивости обмена своих кирзовых сапог на новые яловые. Крепкие, красивые, в иное бы время доставившие владельцу уйму удовольствия и зависти окружающих. Но у них оказались такие высокие и твердые задники, что растерли мне лодыжку чуть не до кости. А что "было делать? Менять не на что, обоза с нами давно уже не было. Завязать? Пробовал. Но портянка сбивалась и терла еще сильнее.
13 или 14 июля ночью мы брели по дороге между Сквирой и Белой Церковью. Очнувшись после одного из коротких привалов в кювете, пошли дальше. Через километр-два курсант, шедший за мной, тронув, меня за плечо, вполголоса сказал:
– Смотри, ты, кажется, штык потерял… Протянул руку, ощупал ствол винтовки – штыка нет.
Сразу испариной лоб покрылся. Боже мой! Что же делать? Что же теперь будет? Доложить старшине? Сейчас? Потом? Мысли сбивали одна другую. Скрыть? Да как же это можно? Ведь это же оружие… Трибунал!
Выйдя из строя, я с трудом обошел человек десять и, поравнявшись со старшиной, с дрожью в голосе произнес:
– Товарищ старшина… я где-то потерял… штык… я спал, а когда пошли, не заметил. Мне только сейчас Михайлов сказал…
– Меня не интересует, что вам сказал Михайлов. Штык найти. Иначе – трибунал за утерю оружия. Ясно? Все!
Найти… Как найти? Ночью. Ведь штык – иголка в стоге сена… Сил-то уже почти совсем не было, да еще и на ногу ступить – боль такая, словно железом каленым жжет.
Зашагали мы с Ашкартом обратно. Остальные ждать не стали.
В голове мысль глупая: «Вот стремился с немцами грудь в грудь сойтись, вот и пошел в наступление… Воюй теперь».
А ночь та была беспокойнее, чем предыдущая. Пулеметная, ружейная, автоматная стрельба слышалась совсем неподалеку.
Штык… Сколько всего брошено по дорогам, видали же… штык… где же этот несчастный штык… трибунал… Трибунал!
Мы шли еле переставляя ноги. И я и Ашкарт. Пес часто отставал и с тревогой оглядывался назад. Все его собачьи друзья ушли, а хозяин его тянул куда-то совсем не туда.
Не помню, да, наверное, тогда и не очень-то представлял, сколько мы отшагали по шоссе, как вдруг сапогом поддел что-то металлическое, звякнувшее по дороге. Нагнулся, пошарил – штык! Штык! Настоящий винтовочный штык! О, счастье! Но мой ли? От моей ли винтовки? Не важно, лишь бы подошел, наделся на ствол… Словно и силенок прибавилось. Повернули мы с Ашкартом и, как только позволяли ноги и его сбитые до крови лапы, пошли обратно. Только бы догнать своих, только бы не отстать. Ашкарт уже не оглядывался, а тянул поводком вперед, словно понимал, что догонять своих надо, и как можно скорее.
На шоссе ни машин, ни повозок, ни людей. Стрельба усиливалась. Не могли же наши уйти далеко, силы-то у всех на исходе. Сейчас… сейчас догоним… Ашкарт стал тянуть сильнее и тихонечко повизгивал, значит, учуял или услышал своих. Еще несколько шагов, еще… и мы натолкнулись на курсантов, шедших в хвосте. Идти дальше, до своего места, обгонять колонну, сил не хватило. Так и поплелись. Не знаю, сколько времени прошло, когда по цепи передали: «Привал». Тут же упал в кювет как подстреленный и… дальше ничего не помню до того момента, когда сквозь совершеннейший туман в сознании почувствовал, что кто-то дергает меня за ногу.
Дергал, тихонечко поскуливая, Ашкарт. Автоматически, когда останавливались, в последний момент мы надевали поводки себе на ногу. Так нас учили. Огляделся. Рядом никого. Ушли? Сколько же минут я спал, был без сознания? Ашкарт очнулся первым.
Стрельба была совсем близко. Над небольшим леском, через который шли перед привалом, навстречу друг другу чертили дуги трассирующие пули…
Да, если бы не Ашкарт, быть бы мне в плену у немцев. А они зеленые петлички пограничников ох как не любили! Судьба? Да, и на этот раз она была милостива.
На 18-е сутки, пройдя Белую Церковь, чуть не попав под десант, выброшенный немцами в ее районе, миновали Васильков и, пройдя по улицам темного молчащего Киева, по днепровскому мосту дошли до Броваров.
В чудесном сосновом бору собирались все пограничные части и отдельные группы пограничников, выводимые или выходившие из боев. Стоять на ногах сил уже не было. Ползали на четвереньках.
А кругом было столько земляники, словно кровью был обрызган весь бор.
Кровью… Да. Казалось, то была кровь погибших там, на границе, на земле украинской, моих товарищей на 9-й заставе, не ушедших из Михайлувки, кровь погибших в Перемышле, на заставах близ Коломыи. Красные капли ягод горели кровью на зеленой траве соснового бора в то утро…
18 суток продолжался наш поход. Да нет, не поход – отход. 18 дней и ночей по страшным июльским дорогам земли украинской. Почти 600 километров горя, крови, огня, пожарищ, смертей, ужаса, человеческих трагедий. 600 километров то нарастающей злобы и ненависти, то растерянности и недоумения… Через два дня, за которые нам довелось чуть отдохнуть и встать на ноги, несколько курсантов и меня в том числе, командование направило в Киев для несения службы при военном трибунале войск НКВД, что располагался на Виноградной улице.
Наших четвероногих помощников, так и не ставших пограничными, приказано было оставить в Броварах. Тяжело было расстаться с Ашкартом. Ведь той страшной ночью он спас мне жизнь… Довелось и мне сохранить ему жизнь в те дни. Между Васильковом и Киевом, после одного из привалов, ночью, я никак не мог поднять Ашкарта и заставить его идти. Страшно было смотреть на его разбитые, кровоточащие лапы. Он только виновато скулил и мог лишь ползти. Подошел старшина:
– Ну что тут у вас опять, товарищ курсант?
Я молча показал на собаку. Старшина нагнулся, поднял по очереди все четыре лапы, покачал головой:
– Да, жалко, конечно, но придется пристрелить. Дальше не пойдет. Жалко, хороший был пес…
Не знаю, откуда у меня взялась решимость, но, стиснув зубы, я тихо произнес:
– Стрелять Ашкарта не дам… Не дам!
– А вас и спрашивать-то не спрашивают. Он идти не может, это вам ясно?
– Ясно. Я его понесу.
– Да вы сами-то еле ноги волочите., – Я его понесу…
Я понес Ашкарта. Страшно исхудавший, он совсем не был таким тяжелым, как в Коломые, где на занятиях легко сбивал «нарушителя» с ног.
Но в Броварах" нам пришлось расстаться. Собаки, словно понимая, что происходит, как только мы привязали их к деревьям, подняли такой лай и вой, что сердце как тисками сжало.
Ашкарта больше я не видел.
В Киеве мы были до 19 августа. Отдохнули, стали похожи на людей. А то, помню, подтянул я ремень по-курсантски, как по уставу было положено, так как раз получился размер фуражки: 57 сантиметров!
Неподалеку от Киева уже слышались залпы немецкой артиллерии, снаряды с противным клекотом проносились над головой и грохот взрывов доносился откуда-то с другого края города. Больше всего, бомб с самолетов доставалось Днепру. Мосты были одной из важнейших целей немецких летчиков, но попасть в мосты им пока не удавалось.
19 августа нам сообщили о немедленном возвращении в Бровары. Был получен приказ: двигаться к Харькову! Машин на всех курсантов не хватало, поэтому одна группа на машине отъезжала километров на сто, выгружалась, шла дальше пешком, а машины, вернувшись, забирали вторую группу. Весь наш переезд и переход прошел благополучно, никаких происшествий не было, за исключением того, что на одном из привалов, где-то около Богодухова, я первый раз в жизни закурил. На привалах обычно раздавалась команда «Закуривай», и все как будто делом занялись, а ты сидишь один, как неприкаянный.
В Харькове нас разместили в помещении местного пограничного училища. Туда же прибыли курсанты строевой школы МНС погранвойск, которых война застала неподалеку от Перемышля. Судьба многих из них оказалась много тяжелее нашей. Обе школы были объединены. Начались занятия.
8 августа – выпуск и распределение. Новым местом моей службы стал 18-й погранполк, новой должностью – командир отделения и новым званием – младший сержант, а в отделении бойцы чуть не вдвое старше командира, мобилизованные из запаса. И новый адрес: «Полевая почта 1401, 18 п. п; 3 рота».
Из записной книжечки 3 октября 194.1 года:
«Год, как из дома. Год! 365 дней, как не видел моих дорогих, моих любимых. А сколько еще? Да, пословицу «Человек предполагает, а Бог располагает» можно теперь переделать: «Человек предполагает, а война располагает».