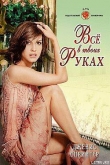Текст книги "К несчастью, только ты"
Автор книги: Олег Тарутин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Тарутин Олег Аркадьевич
К несчастью, только ты
Олег Аркадьевич Тaрутин
К НЕСЧАСТЬЮ, ТОЛЬКО ТЫ...
Наконец судьба послала ему
одну удивительную встречу, послужившую
началом событий.
Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине"
Иван Андреевич Глаголев, а для тех, кто знал его получше, – Ванечка Глаголев, как вышел поутру из ворот торгового порта, абсолютно не представляя, куда он теперь и зачем, так до сих пор и не надумал этого.
Миновав какие-то улочки, посворачивав куда-то, вышел Ванечка на Фонтанку и двинулся вдоль парапета, глядя на воду: куда река, туда и он. Шел он в состоянии полной душевной прострации и полного отключения, как говорится – на автопилоте, и трезв был Глаголев, как стеклышко.
Не замечал он ни людей, ни уличного шума, не заметил даже внезапно начавшегося дождя и не вспомнил о своем шикарном автоматическом зонте, который так и провисел весь дождь на его кисти. Впрочем, дождь быстро кончился.
Когда Ванечка доходил до очередного моста, автопилот почему-то переводил его на противоположный берег Фонтанки и движение продолжалось.
Так, чередуя стороны уложенной в гранит реки, Глаголев мельком осознавал себя то на Калинкином мосту, то на Египетском, и вот теперь – на мосту Пестеля. Здесь он глянул на часы, удивившись отрешенно, что шагает больше часа и что Фонтанке скоро конец, а тут как раз автопилот развернул его от реки, направив в узкий поперечный переулок.
"Вот оно как... как оно получилось... – безостановочно и однообразно, будто заевшая пластинка, звучало в Ванечкином мозгу,-вот аад.ь как оно обернулось..." И весь от порта путь чак: тоскливо и неустанно. Как осенний дождик над тундрой, как тиканье часов в бессонницу– как заоконное зудение мухи. А всего вернее – как бесконечный счет под наркозом.
А кончится наркоз, и всплывет в памяти, замаячит в сознании непоправимое жизненное событие, свалившееся на глаголевскую голову, как кирпич с крыши.
Случилось же с Ванечкой вот что: дней десять назад от него ушла жена. И опять же, "ушла" – не то определение, ибо и по сию пору обреталась Стелла Викторовна в бывшей их квартире вместе со своим любовником.
Ушел-то как раз сам Глаголев. Но это уже формально-территориальные нюансы, не меняющие сути. Суть заключалась в безумной и страстной любви Стеллы Викторовны, Ванечкиной ровесницы, женщины за сорок, к двадцатидвухлетнему Алику Миркину, гениальному художнику. Суть заключалась в полной невозможности жить ей без этого самого художника, а ему-без нее, а обоим им-друг без друга, и – "я не думала, что так бывает", и – "это сильнее меня", и – "прости", и – "ты не смеешь, не смеешь его осуждать!".
Все эти страсти, громыхнувшие над глаголевской головой, зародились и стремительно вызрели во время его пребывания в экспедиции на "далеком ледовом континенте", как принято писать в газетных корреспонденциях.
Вот уж чего не ждал, не предполагал многоопытный Глаголев... Ни сном, как говорится, ни духом. Проводы были как проводы, телеграммы как телеграммы: "в порядке... желаю. .. целую..." Традиционная посылка с обратным пароходом. Без письма, правда, но разобраться – чего ж писать, когда человек сам домой возвращается?
То, что жена не встретила его на причале в порту, тоже не очень огорчило Глаголева: возвращался он на "черненьком" пароходе, на грузовике, в числе немногих сотрудников, сопровождавших экспедиционное оборудование и авиацию, а "беленький", многокаютный красавец, забравший из Антарктиды основной состав экспедиционников, пришвартовался прямо у гаванской стенки месяц назад: его и встречали с музыкой, цветами и телевидением.
И все же слегка позавидовал Глаголев друзьям-приятелям, затисканным счастливыми родственниками, женами и детьми. В родной каюте, в галдящем, радостном многолюдье, Глаголев выпил самую малость за счастливое возвращение, за все хорошее и заспешил домой. Вещи свои он оставил на пароходе (предстояла многодневная выгрузка снаряжения), прихватив только сумку с подарками жене, заморскими напитками и кой-какой свежей корабельной снедью. Он сердечно распрощался с развеселой компанией и в радостном предчувствии покатил на такси к своему празднику. Или не заслужил он его полугодовыми суровыми буднями?
Где ж эта улица, где ж этот дом, где эта Стеллочка, что я... На которой шестнадцать лет женат? Где эта Стелла Викторовна, с которой не соскучишься?
За ездой, за разговорами с весельчаком шофером он все улыбался тому, что, мол, точно – не соскучишься, что верно, то верно. И вспоминал благодушно "нескучные" случаи из их семейной жизни. К своей половине Глаголев относился снисходительно и терпеливо, как бы признавая за ней почти законное право на взбалмошность, капризы и странности, ибо проистекали они, думал он, в силу неудовлетворенности ее ранимой творческой натуры.
Стелла Викторовна считала себя неудачницей и мучилась этим сознанием. Так много желать и обещать и так ничтожно мало преуспеть на музыкальной ниве! Жалкий итог неудачницы – музыкальный кружок при задрипанном клубе! "Да чем же он задрипанный?-спорил поначалу Глаголев. – Кружок как кружок, клуб как клуб. Учишь людей, занимаешься любимым делом, ну и занимайся на здоровье!
Не всем же лауреатами быть. Ведь не брал же я с тебя такого обязательства перед свадьбой? Да ты хоть шваброй маши на лестницах, хуже для меня не станешь". – "Шваброй? – трагически переспрашивала она. – Ты прав: шваброй было бы честнее... И доходнее! Доходнее, да? Это ты имеешь в виду, это?" И текли слезы, и Стеллины зубы стучали о стакан с водой, и долго потом томил Глаголева тошнотворный запах сердечных капель.
Впрочем, все эти "музыкальные трагедии" разыгрывались только перед ним, в качестве необходимой эмоциональной разрядки творческой натуры. Он же, со всеми его "электронными ящиками" (имелась в виду аппаратура), со всеми его экспедициями, льдинами и самолетами, считался в доме натурой нетворческой. Кружковскую же свою работу, как быстро понял Ванечка, Стелла Викторовна любила, отдаваясь ей всей душою, не считаясь ни с каким временем. Особой страстью ее было выискивать молодые таланты, а выискав, пестовать их и лелеять. Вечно вокруг нее гомонили и топотали всевозможные дарования из сопредельных областей искусства: какието юные фотографы-художники, студийцы-чеканщики, какие-то скульпторы и чтецы...
Был, помнится, даже один драматург, нервный и дерганый студент-заочник. Стелла Викторовна опекала этот молодняк как мамаша, восторженная жизнь которой в любимых чадах.
Вечно она кому-то что-то доставала, для когото что-то узнавала, кого-то ссужала деньгами ("Он голодает, понимаешь, голодает!"), из-за кого-то смешно конфликтовала с начальством.
А то, допустим, часами висела на телефоне, проникновенным голосом убеждая в чем-то жену своего подопечного, улаживая очередную семейную неурядицу гения, беспомощного в житейских делах. ("Она его просто губит, эта дура!")
Всю эту высокоинтеллехтуальную возню и топотню в своем доме, все эти звонки и посиделки с черным кофе, всю неустроенность семейного быта Глаголев сносил с завидным терпением и юмором. Но порою эти игры переставали его забавлять, становясь поперек горла. "Алло!-говорил он тогда в телефонную трубку, обзванивая ближайших друзей.-Алло! Мы ищем таланты!" Этот клич, ставший паролем в их компании, собирал под Ванечкины знамена человек пять полевиков-коллсг, готовых хоть до утра восседать за столом и петь лихие скитальческие песни.
– Ну кто они, эти твои собутыльники? Ну что они собой представляют?!-криком вопрошала потом Стелла Викторовна и расплескивала из стакана накапанное лекарство.
– Хорошие люди,-лаконично ответствовал Ванечка.
– Эти вечные дикие песни, эти дурацкие воспоминания!-рыдала жена.
– Это наши подробности,-вставлял.он.
– .. .а Эдик собирался читать раннего Лоскутова! Лос-ку-то-ва!-расчленяла она на слоги знаменитую фамилию.-С таким трудом достал,принес...
– Это ваши подробности.
– Ну, Иван!
Стелла Викторовна вскакивала и, посовав в хозяйственную сумку первые попавшиеся свои вещи, хлопала дверью. К матери ли на Петроградскую, к подруге ли в Зеленогорск – поразному это практиковалось. И на разный срок. Мириться и просить прощения приходилось Глаголеву, а вернувшаяся супруга говорила, что кабы не ее любовь к нему, грубияну и обывателю, то... И махала рукой безнадежно. Правда, тишала она потом на какое-то время.
Что ж, главное-любовь. В постоянных разлуках Стеллины странности вспоминались даже с удовольствием.
.. .Ну, вот эта улица, вот этот дом! Спасибо, друг, держи монету! Дети есть? Вот передай им бананы. Из Африки, от дяди Вани. Не за что, дорогой, будь здоров! А вот и ворота родной усадьбы. Н-да... Стелла-то Викторовна, похоже, в нетях...
Странно. Должны же были с работы позвонить. Неужели не предупредили? Ничего, на этот случай у нас свой ключ имеется. Сезам, отворись! Привет родной квартире!
Ванечка бросил сумку за кухонный порог, прошелся по квартире, такой просторной после каюты, вышел на балкон. Он оглядел с семиэтажной выси соседние жилые коробки, высоковольтную линию, шеренги деревьев и кустов, гаражи, скамейки, извечную – от зимы и до зимы – лужу возле котельной, прислушался к городскому шуму, приятному с отвычки. Дети галдят, бабки перекликаются, слева магнитофон рычит, справа телевизор. Ну вот и вернулся. Глаголев засмеялся, потянулся вольно.
Где же подруга, однако? Ведь суббота нынче, не говоря уж о прочем, о мужнином приезде не говоря.
Ванечка отправился на кухню. Так, так...
На столе грязная посуда, рюмки, блюдечко с окурками, в кастрюле на плите-комок макарон. А что в холодильнике? Н-да... Не лучшим образом приготовилась к встрече Стелла Викторовна. Хорошо, что муж не из космоса вернулся. А кабы из космоса? Он побросал грязную посуду в мопку, обтер стол и принялся разгружать свою корабельную сумку: экзотические бутылки, жестянки консервов, редчайшие, по весеннему времени, бордовые тонкокожие помидоры. Минут через пятнадцать все было вскрыто, нарезано и расставлено. Вот как надо, Стелла Викторовна! Он сглотнул голодную слюну, решив не прикасаться ни к чему в одиночку, и направился в комнату за парадным хрусталем.
Здесь Глаголеву бросилось в глаза то, на что он было не обратил внимания: левая дальняя стена, на всем пространстве между шкафом и стеллажом, была сплошь покрыта рисунками. В рамках под стеклом, прикнопленные к обоям, просто к ним приляпанные, разнокалиберные рисунки пятнали стену. А надо всем, полукругом по обоям, сделанная то ли углем, то ли еще чем-то сильно пачкающим, залихватски выгибалась надпись: "Гр.ани мира Алмира". Внизу, у самого пола, по обратной дуге, симметрично верхнему изречению было выведено синим: "Алмир, ты завоюешь мир!" И подпись "Стив".
Алмир этот Глаголеву был знаком, как же, как же... Алмир расшифровывалось-Алик Миркин. То был псевдоним одного из новейших Стеллиных гениев – чернобородого бледнолицего малого, забавлявшего Глаголева своеобразной манерой обращения: с четко выверенной, варьирующей какой-то наглостью – смотря по человеку, наглостью на пределе безопасности.
"Ноги бы им повыдергать, ему и Стиву этому",-зло и огорченно подумал Глаголев, разглядывая выставку. Перед самым отъездом он делал ремонт. А это что, простите? Да никак это Стелла? Ну да, это самое: "Руки Пигмалиона" (все рисунки были снабжены машинописными эшкетками с названиями). Пигмалион на рисунке был представлен одними руками-огромными и мощными. Одна из них охватывала стоящую на коленях Стеллу Викторовну, сжимая одновременно и бок ее, и грудь, вторую же Пигмалионову ручищу, ничего не сжимающую, охватывала сама Ванечкина супруга обеими своими ручками и притом еще и целовала ее.
Что на Алмировом шедевре была изображена именно Стелла Викторовна, не оставляло никаких сомнений, несмотря на некоторую абстрактность исполнения. Характерное было подчеркнуто: ее короткая стрижка, ее густые и широкие брови, ее уникальный кулон-кораблик, и прочее, и прочее... В "Щедрости", другом рисунке ниже, Стелла Викторовна порывисто протягивала кому-то, находящемуся вне рисунка, упомянутый кулон с болтающейся цепочкой, сорвав его с шеи. Ничего более щедрая Ванечкина супруга сорвать с себя не могла.
Глаголев озадаченно разглядывал рисунки.
"Что ж моя дурища, – подумал он, – позировала, что ли, этому бородатому дарованию?
Не-ет, трудно поверить. До такой степени Стелла Викторовна не одуреет. Что-то не то..."
Он аккуратно откнопил "Щедрость" и "Пигмалиона", провел растопыренными пальцами по стене, смахнув, сколько смахнулось, прочих шедевров Алмира, и оглядел комнату внимательно и недобро. Художественный беспорядок царил в комнате. На столе, на Стеллиной нотной папке-комья глины с воткнутыми в них спичками, всюду лоскутья бумаги, обрезки картона, на подоконнике позеленевшее латунное колесо и деревянная миска. Со стула свисают его, глаголевские, джинсы (почему?), а рядом на полу стоит подключенный к розетке любимый его магнитофон, его гордость "Голконда". В каком виде, бог ты мой! Ванечка опустился на стул, ткнул клавишу пуска.
Магнитофон заговорил: "Мармышев (пустив в лицо Алене сигаретный дым): "Я не собираюсь расплачиваться за чужие грехи, крысенок". Алена: "Какой же ты подонок, Сашка!" Мармышев..." Ванечка вырубил "Голконду".
Чуткий аппарат помимо фраз, прочитанных глухим голосом того самого дерганого драматурга, передал и присутствие большой компании слушателей: шорохи, скрип стульев, покашливание, позвякивание... Судя по всему, дарования, изгадившие его пленку, лакали что-то на очередном сборище.
"Нет, конец! Конец этим игрищам! Пусть только домой явится!-думал озлившийся Глаголев. – Устроили малину! Либо я, либо эта гоп-компания!"
Забыв о бокалах, со "Щедростью" и "Пигмалионовыми руками" в руках Глаголев вернулся на кухню, бросил шедевры на пол. Потягивая из чашки малагу, он задумчиво рассматривал этих голых теток, носком ботинка перемещая листы по скользкому линолеуму.
Он даже головы не поднял, когда в прихожей заскрежетал ключ, лязгнула дверь и зазвучали шаги жены-мимо кухни в ту, выставочную комнату. Скрипнула дверца шкафа, проехался по полу стул. Тишина. Вскрик. Падение чего-то. Стремительные шаги назад.
– Иван!
Глаголев повернул голову. На пороге кухни стояла полураздетая Стелла Викторовна. Лицо ее было бледно до синевы.
– Здравствуйте вам!-сказал Ванечка, вставая и кланяясь.-Как жилось, как ждалось?
Глаза супруги были устремлены не на него.
Стелла Викторовна с ужасом смотрела на поверженную Алмирову графику. Рот ее кривился и дергался.
– Зачем же,-проговорила она с трудом.зачем же так варварски, Иван? Ты можешь убить меня, но при чем же тут работы Алика? Которого ты и мизинца... Только посмей меня ударить, посмей только прикоснуться!-отчаянно закричала она, когда изумленный Глаголев шагнул к ней.
Спятила она, что ли? Да в жизни он ее и пальцем не тронул. И сейчас в мыслях не было.
– Тебе уже поведали, – ломая пальцы, выкликала бледно-синяя, залитая слезами, расхристанная Стелла Викторовна.-Тебе, конечно, донесли!
– Да о чем ты, кума?
– Про Алика! Про нас с Аликом! Что я люблю его! Я люблю его всем своим существом! Это сильнее меня! Я горжусь им!
– Этого, что ли, Алмира? – Ванечка вопросительно постучал подошвой по листам.
– Да! И гения не затопчешь! Он любит меня, как никого никогда в жизни не любил, да будет тебе известно! И он-мой муж! Да-да-да! И делай со мной что хочешь!
– И что же, – глухо спросил Глаголев, – ваша семья тут и живет?
– А если Алику негде жить?
– Так, – сказал он. – Стало быть, вот оно как...
– Конечно, все тут твое, – рыдала меж тем Стелла Викторовна,-и квартира, и обстановка на твои деньги... Мы знаем, знаем, и Алик бы ни за что... никогда... – Она ломала пальцы, не договаривая фраз. В расстегнутой кофте, без юбки, в колготках... "Руки Пигмалиона". .. Рот Ванечки наполнился какой-то кислой гадостью, он торопливо шагнул к раковине.
– Кой тебе годик, кума? – спросил он Стеллу, закрывая кран.
– Да-да!-с новой силой зарыдала она.Знаю! Сорок три! Прекрасно знаю! Но он любит меня, он не может без меня жить! И никому не растоптать и не опошлить нашего чувства! Для нас нет разницы в возрасте! Что же делать, Иван, если так получилось?
Это была единственная человеческая фраза из всех, произнесенных Стеллой Викторовной.
– Это ваши подробности,– прервал ее Глаголев. – Живите.
Он подошел к столу, отпихнув ногой подвернувшуюся сумку с подарками. О подарках он не вспомнил: царственное убранство стола, над которым он трудился давеча, – вот что его интересовало. Не спеша Глаголев ссыпал в помойное ведро снедь со всех тарелок и блюдец, опрокинув над мойкой, опорожнил вскрытые бутылки. Последнюю, нераскупоренную, стал было открывать, но, передумав, просто грохнул ею о край мойки. Стелла вскрикнула.
Руки Ванечки тряслись. Он потянул сигарету из пачки зубами.
– Старая ты дура,– задумчиво сказал он.-Старая, истеричная, неряшливая дура. Не думал я, что ты до такого докатишься. Поздно тебя учить. Пропади ты пропадом! Отойди-ка от двери!
Глаголев осторожно обошел посторонившуюся в дверях женщину, которая, всхлипывая, прижимала кулачки к подбородку, отомкнул дверь и навсегда покинул свою опоганенную квартиру. Из ближайшего автомата он позвонил туда, куда собирался позвонить лишь назавтра, и абонент оказался дома, и узнал его, и обрадовался.
– Верочка,– сказал Глаголев после первых же фраз,-нужен запасной аэродром. На несколько дней. Можно?
– Сам знаешь,-последовал ответ.-Приезжай.
Вот так, нежданно-негаданно оказался Глаголев в день возвращения из дальних странствий не в родных стенах, а в квартире хорошей своей знакомой Веры Олонцовой. Если бы не смогла она предоставить этот самый "запасной аэродром", что маловероятно, он нашел бы пристанище у кого-нибудь из друзей и наверняка не был бы там в тягость. Пожил бы, сколько нужно, пока не придумал чего-нибудь.
На работе Глаголев появился на следующий же день, весьма удивив этим экспедиционное начальство, привыкшее к послеприездной вольности сотрудников. Кстати сказать, и ночевки на пароходе не были ему заказаны: дел по экспедиции там оставалось еще много. На пароходе, в знакомой каюте, устраивали они с друзьями послеразгрузочные посиделки. Мужики, которым Глаголев в кратких словах поведал печальные свои обстоятельства, мрачно негодовали, сочувствуя другу. Если бы не опасение оскорбить его семейное прошлое, они бы об этой Стелле Викторовне... Ведь видели же, ведь наблюдали...
– Эмансипешки, так их! – говорили мужики.-Повезло в жизни дуре (прости, Ванечка!), да ей бы ноги ему мыть! Ладно, молчу... Да не о том я, Левка, что человек он золотой, что приборист, каких нету! Это нам знать, не о том речь! Ты на него на самого глянь: волчина матерый! Да встань, Иван, разверни плечи! Ладно, молчу... Есть же дурищи на белом свете!
– Ну ладно, эмансипешки,-говорили они.-Что с ней потом будет-жалеть не приходится. А вот она сейчас в квартире художника своего облизывает, а Ванечка – на улице. Это как?
– Разберусь! – махал рукою Ванечка.
– Да уж ты разберешься,-повторяли его жест приятели.-Хлопнул дверью и конец! Да ей, этой... Ладно, молчу. Ей только этого и надо! Думаешь, совесть полмеет, квартиру разменяет? Жди! Будут они там лакать кофе всей своей малиной и не подавятся! С чем же, братцы, Глаголев наш при таком раскладе остается? Что он-то имеет, а? Вьючный ящик да баул с полевой одеждой. Палатка, правда, есть, только вот где ее поставить?
– Разберусь,-обещал Ванечка,-не пропаду, коллеги! Давайте-ка лучше... – И заводил лихую песню, перебивая мрачный настрой компании, перебивая свою тоску и, что там греха таить, – растерянность.
Дважды после таких пароходных встреч возвращался Глаголев на свой "запасной аэродром" не в лучшей форме. Он почему-то очень стеснялся представать перед Верой в таком виде ("Эка невидаль!"-смеялась она) и проклинал себя за то, что опять не позвонил ей, не предупредил о возможной ночевке в другом месте. Вера строго-настрого внушила ему, чтобы он непременно в таких случаях уведомлял ее. Слово взяла. Вот вчера он ее предупредил: остаюсь на пароходе, спи, не волнуйся...
.. .Интересные отношения сложились у Глаголева с Верой Олонцовоп, медицинской сестрой двадцати шести лет. Познакомились они два года назад в Иркутске, куда Глаголев угодил в командировку, а она по туристской путевке. В гостиничном холле Глаголев, конечно, обратил внимание на нее: красивую, модно одетую, хохочущую в компании туристов. Ну обратил и обратил, а о знакомстве с ней и не подумал, – с чего бы? Знакомство состоялось по инициативе Веры. Сначала Глаголев несколько раз перехватывал ее внимательный, изучающий взгляд, а потом она подошла к нему и заговорила. Помнится, она очень обрадовалась, что Глаголев тоже ленинградец, и пошел разговор о Ленинграде, кто из них где живет, где жил раньше, кем и где работает.
Удивительное дело: никогда и ни с кем не сходился Глаголев так легко и быстро, и мало кто из людей оказывался ему так интересен и душевно близок. Вера говорила, что чувствует то же самое. И хотя она, к изумлению приятелей и самого Глаголева, прервала тогда свой туристский маршрут и все дни проболталась с ним в Иркутске, хотя жили они в одной гостинице и улетали вместе, отношения их были чисты и безгрешны.
Что до греха, то случилось это с ними только однажды, много времени спустя, в Ленинграде, в период очередной истерической выходки Стеллы Викторовны. Случившееся (и опять инициатором была Вера) радости им не принесло. И не потому, что Глаголев любил свою истеричку, не потому, что Вера, он знал, мечтала найти какого-то человека "своей судьбы", а он, Глаголев, по ее словам, лишь отчасти напоминал его, – нет, не потому. Просто не того свойства, не той сути были их отношения.
Двадцатишестилетняя Вера, по мнению Глаголева, скорее всего сознавала себя старшей его сестрой, призванной опекать и заботиться, ограждать его от любых неприятностей-семейных прежде всего. Глаголеву казалось порой, что и на Стеллу Викторовну смотрит она как на свою неудачную невестку, заедающую жизнь ее Ванечки. Не то слово-неудачную!
Будь ее воля, вышибла бы она Стеллу из квартиры, за версту бы ее к Глаголеву не подпустила. Причем без тени ревности, а только из обиды за великовозрастного братца. А как она побледнела, слушая его последнюю семейную историю! Вот ведь родная душа...
Если бы Вера отыскала наконец "того человека" и вышла замуж, Глаголев искренне бы йбрадовался за нее. .. Впрочем, привязываясь к Вере все сильнее, знал он о ней немного: школа, работа, туризм, давний уход отца, недавняя смерть матери. .. Не любила она о себе рассказывать. О нем же она знала все.
.. .А вот идет он теперь, оказывается, вовсе не к Вериному дому. .. Куда ж это его тоска загнала, куда это его чоги несут?
Глаголев повернул направо, где его обдало едкой вонью автобусного выхлопа, и опять направо.
– Контакт на луче! – раздалось рядом, и ноги Глаголева обдало жаром, точно он по щиколотку провалился в горячий песок. – Десять дробь два! Объект малоимущ. Какое несчастье, Конта!
Ванечка вздрогнул, мгновенно сбросив оцепенение, глянул под ноги. Никакого песка, тротуар как тротуар. Никакого жара больше не ощущалось. Да и чему бы жечь? С чего?
А крик? Фу-ты, черт, померещится же такое...
Поброди этак вот, не то еще услышишь. Берика ты себя в руки, пора.
Он огляделся и усмехнулся: впереди был тупик. Узкий переулок упирался в громадный и мрачный домище, с такими редкими и невыразительными щелями-окнами на фасадной стене, что стена эта скорее напоминала брандмауэр. По той стороне переулка, где стоял Глаголев, были пущены под капитальный ремонт три или четыре дома подряд.
Неприятен, по крайней мере печален и странен облик таких домов. Кто и зачем заранее повыбивал в них оконные стекла? И не подряд повыбивал, а как бы выборочно, когда на фоне рваных острозубых дыр еще мертвее и страшнее выглядят одиночные уцелевшие стекла?
Зачем вон там выломаны рамы? Почему скособоченно висят двери? А эти сорванные карнизы – почему не до конца сорваны, а свисают угловато, ржаво скрежеща на ветру? Кто трудился, обрывая обои на стенах разоренных комнат, чего ради? Чтобы ветер полоскал разноцветные лохмотья? Ведь ни лесов еще, ни крана... И неотвязно ощущение, что никто ничего тут не рушил и не увечил специально, а произошло это с домом само собою, когда покинули его жильцы. Умер дом. Его воскресят, омолодят, заменят его нутро, но это будет уже иная жизнь: иные ритмы, иные звуки, иной воздух в жилых его ячеях. А старой жизни – конец. Тлен пятнает дома, отданные под капремонт. Не потому ли так прельщают они киношников для съемок сцен разрухи и беды, не потому ли изолируют такие дома от всего живого, огораживая заборами?
И здесь начали гнать забор, немного не доведя его до того дома, напротив которого стоял Глаголев.
Глаголев вдруг почувствовал, что за ним следят, что за ним кто-то неотступно наблюдает. Озираясь, он вертел головой.
– Контакт неизбежен, Смоли! Объект был в Векторе Хейса!-услышал он звонкий женский голос. Теперь-то не в прострации и бездумье, а отчетливо услышал. А вот и второй, чуть с хрипотцой голос:
– Чем это кончится для него, Конта, ты подумала? Десять дробь два! Объект иррационален. При таких параметрах он выложится весь! Оставь его, Копт!
– Может, ты предпочитаешь нижнюю десятку здешнего торгуна... торгунца. . . или как их тут называют?
– Скажи еще – торгонавта! Нет, не предпочитаю. Но если объект настолько иррационален. ..
Банечка ошалело оглядывался, силясь понять, откуда звучат эти взволнованные женские голоса.
– Ты ведь знаешь, сколько времени осталось нам в этом хроношлюзе! звучало откуда-то из стены.-Декомпрессия давно завершена. Покидать поплавок, так и не использовав попытки! Я бы пошла на контакт с любым здешним прошложителем. В конце концов это их время. Это их дело. Смоли!
– Но его параметры.. . Ты подумала об Инструкции, кланта?
– И пусть! Мне известен самый существенный пункт Инструкции: лучевка на хронопоплавке может быть только одна. В луч попал он, и выбирать нам просто не приходится!
Глаголев уже не вертел головой, однозначно уставившись на стену дома. Что за голоса? Не о нем ли этот странный спор?
– Алло! – крикнул Ванечка, глядя на блин номерного знака. – О чем речь?
– Что ж, Конта, пусть будет по-твоему, – услышал он.-Прошложитель с зонтом! Стойте на месте и, пожалуйста, не пугайтесь.
"Прошложитель. . . – успел усмехнуться Глаголев. – А что? Точно: все в прошлом. . ." И вздрогнул, и чуть было не прянул в сторону: так неожиданно за ближайшим высоким штабелем кирпича появились две девушки з строительных робах и касках. К.ак из-под земли выросли, как из воздуха сгустились. Одна держала в руках заляпанное известкой ведро, у другой через плечо на ремне висел незнакомый Глаголеву, малярный видимо, агрегат с блестящим чешуйчатым шлангом.
– Привет, девочки, – произнес Глаголев несколько нервно. – Что же вы, рыбоньки, пугаете прошложителя с зонтом? И не о нем ли у вас спор?
Не отвечая, они подошли к нему.
"Вот это да. . . – подумал Ванечка. – Вот ведь какие бывают. .."
И показались они ему в первый момент близнецами-сестрами, разительной, божественной красоты. Вглядевшись же, понял он, что нет, не близнецы, и что не в красоте, пожалуй, дело, а просто одинаковый отсвет чего-то редкого, ну да – одухотворенности, нежного какого-то обаяния лежит на несхожих этих лицах. И доводилось ли ему прежде видеть такие лица?
"Какая прелесть, – думал Глаголев, – бывает же. . ."
– Дробь два у вас не я ли? – меж тем спрашивал он чуть кокетливо. Подхожу под ваш строительный ГОСТ, а?
– Десять дробь два, – с нажимом на первом слове уточнила та, что повыше, та, что держала ведро. – В десятке вся причина, щедросердый! – Она, улыбаясь, разглядывала Глаголева.
Вторая разглядывала его сосредоточенно и неулыбчиво.
– Как ваше имя? – спросила она хрипловато.
– Иван,-охотно отрекомендовался Глаголев, – Иван Андреевич, принимая во внимание ваш юный возраст. ("Ишь, как игриво. .." – тут же одернул он себя.)
– Смоляна, – наклонив голову, назвалась неулыбчивая.-Конта,-указала она на спутницу. Рук протянуто не было.-Да, да, странные имена, понимаю, предупреждая глаголевскую фразу, проговорила эта самая Смоляна.-Многое вам теперь покажется странным, Иван. Но не нужно пока вопросов, ладно? – Она впервые улыбнулась. – Постепенно вам все...
– Иван, – перебила спутницу та, что была названа Контой, – у вас есть с собой деньги? Вы можете купить и быстрее принести нам сюда золото, Иван?
Сказано это было с милой непосредственностью. .. Ошеломленный Глаголев молча вытаращился на нежнолицую богиню, задавшую дикий этот вопрос и нетерпеливо ждущую ответа. Ответа ждала и та, как ее-Смоляна, за миг перед тем дергавшая подругу за руку.
Ай да красотки со стройки! Этак к нему и в Монтевидео не подступались тамошние богини во время стоянок...
Очарование девушек стремительно тускнело в глазах Глаголева.
– А что, – ядовито спросил он, – серебро никак не подойдет? Ужели только золотом берете?
Он сказал и сразу же пожалел о сказанном: так серьезно и доверчиво смотрели они ему в глаза. Нет, тут какая-то неувязочка, не из той оперы...
– Серебро не подойдет, Иван. Молчи, Конта! Хорошо же ты знаешь эпоху! К несчастью, годится только золото, Иван. Идите за нами, прошу вас.
Неулыбчивая взяла за плечо спутницу, слегка развернула ее, подтолкнула вперед. Они двинулись: одна с ведром, другая с этой штукой через плечо. Оглядываясь на Ванечку, скрылись в проеме подворотни.
– Сюда, Иван, – позвал кто-то из них. – Не страшитесь.
"Не страшитесь. . . Цирк, рыбоньки, -думал Глаголев, двинувшись, следом.-Меня теперь только и пугать. .."
– Иду, иду, – проговорил он вслух. – Сюда, что ли?
В глубине подворотня почти до самого свода была перекрыта дощатой загородкой. Перед загородкой слева темнела бездверная дыра квартирного входа: три ступеньки вверх.
– Сюда, Иван!
Вот и квартира. Вот и богини. Обе они стояли у дальней стены мертвой комнаты: ободранной, пустой и гулкой, с тусклой лампочкой, голо свисающей с потолка. На захламленных досках в ногах богинь, на разостланной газете валялись остатки чьего-то варварского пиршества. Рыбьи скелеты, шелуха лука, засохшие шкурки сала... И тут же – почти целый, сбоку лишь початый каравай круглого хлеба: то ли зубами рванули, то ли пальцами. Валялись неподалеку бронированные зеленые бутылки из-под какой-то отравы.
"Не пошел, видать, хлебушек у гурманов...
Эвон, окурков в него понатыкали", – Глаголев глянул на каравай.
Стул с продранным сиденьем, ящик-сиденье, а в углу – жуткая лежанка, сооруженная из рваных, засаленных диванных подушек и валиков, покрытых тряпьем. В дружинных рейдах он видывал такие лежбища в покинутых домах.