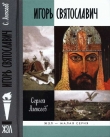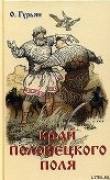Текст книги "Шеломянь"
Автор книги: Олег Аксеничев
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мнимый соглядатай легко справился с возможными трудностями. При его приближении стража у ворот замерла, словно окаменев, и соглядатай, не спросив разрешения, легко отпер калитку в воротах, пропуская Миронега наружу. Стражники бессмысленно таращились на лекаря, явно ничего не замечая вокруг себя.
Зато Миронег подметил еще одну странность. Над приворотной башней кружились до этого две мучившиеся бессонницей или голодом птицы. В тот же миг, как стража потеряла способность к движению, птицы в небе зависли на одном месте, хотя галки и вороны – в темноте особо не разобрать – парить не умели.
Но больше всего Миронега поразило другое. За миг до появления соглядатая у ворот один из стражников решил отойти под караульный навес; он замер, приподняв ногу, с которой сорвался кусок грязи, так и застывший в воздухе на полпути к земле. Лекарь решил не выдавать своего недоумения, он чувствовал, что главные сюрпризы еще впереди.
Миронег перешагнул порог калитки и оказался на территории окольного города, где в языческие времена был огромный могильник. Справа от лекаря на древнем кургане распласталась Пятницкая церковь, но путь Миронега вел налево, к угрюмым стенам Елецкого монастыря. Недалеко от него и громоздилась Черная Могила, курган, на котором ни у кого так и не хватило духу построиться. Прелый сосновый дух был своеобразным маяком для Миронега, поскольку на Черной Могиле давно разросся хвойный лес. Черниговцы не желали тревожить покой основателя города, чей пепел был зарыт под курганом несколько веков назад.
Соглядатай решил больше не таиться. Забрав один из факелов, освещавших пространство у ворот, он уверенно пошел впереди, сменив роль шпиона на работу проводника. Миронег подумал, что факел может привлечь ненужное внимание стражи, да и разбойники по ночам пошаливали в черниговских предместьях, обирали припозднившихся людишек споро и люто.
Однако прилипшие к небу птицы так и остались на своем месте, а опавшие листья, приподнятые шалым недоспавшим ветром, повисли в воздухе, словно обрели опору, невидимую остальным.
Это был иной мир, только похожий на реальный Чернигов, мир, где все застыло в неизменности. Наверное, вот так и выглядит вечность, философски решил Миронег, поспешая за молчаливым провожатым. Мир был нем, как проводник, только запахи продолжали иллюзию жизни. Лекарь споро шел за провожатым, уже не удивляясь, что ни единого камня, ни комка грязи не вылетает из-под его ног. Размокшая земля затвердела, и идти было легко, как по деревянному настилу.
Иногда факел провожатого указывал направление поворота. Тогда пламя изгибалось, и смола ворчливо потрескивала, жалуясь на беспокойство. Только этот огонь не умер в Чернигове. Редкие светильники на стенах домов купцов и ремесленников замерли в испуге, и пламя застыло, как часовой.
Черная Могила нависла над окольным городом, словно сжатый кулак. Даже дороги обходили ее стороной, поэтому Миронегу и его провожатому пришлось пробираться по заросшему вездесущим кустарником склону кургана. Молчаливый попутчик Миронега шел на шаг впереди, высоко подняв факел, чтобы не задевать ветки кустов. Без предупреждения он остановился, обернулся к лекарю и воткнул факел в землю. Горящая смола зашипела в мокрой земле, и факел потух, рукоять темнела в лунном свете, как остаток разрушенной крепостной стены.
Миронег загляделся на факел и не заметил, куда исчез провожатый. Он то ли скрылся в кустах, хранивших на своих ветвях кромешную тьму, то ли просто растворился в лунном свете, как посчитал сам Миронег.
Настало время назначенной встречи. Миронег ждал, но ничто не выдавало приближения нового человека. Тишина была такая, что звук собственного дыхания казался лекарю излишне громким.
– Здрав будь, хранильник, – раздался негромкий голос справа от Миронега.
– Здравствуй, коли не шутишь, – ответил лекарь, пытаясь различить собеседника через листья.
– Ты не удивлен?
– В жизни все бывает, каждый раз дивиться – отпущенного века не хватит.
– Зачем же тогда пришел? Ведь опасно… Может, все же удивлен?
– Любопытство привело. Интересно, какое дело стоит такого приглашения и приема.
– Любопытство – плохое чувство, повредить может. Репутации там, здоровью…
– Ой ли? Пугаете?
– Да нет, размышляю… А ты пуглив, хранильник?
– Надеюсь, нет. Могу даже вынести вид внешности своего собеседника.
– Это и есть любопытство. Что ж…
Из темноты выступило бледное лицо. Миронег разглядел отливающую синевой под луной густую, давно не стриженную темную шевелюру и всклокоченную бороду, казавшиеся еще темнее на трупном фоне гладкой молодой кожи. Под стерней густых усов проступали неестественно алые губы, вытянутые в строгую линию.
– Давно не видел нормального человеческого лица, – пожаловался незнакомец. – Хотя, если честно, только необходимость принудила меня нарушить свое затворничество.
– Ты из монахов будешь? – предположил Миронег.
– Я не христианин, – отвечал незнакомец.
В стольном Чернигове с богатой и влиятельной епископской кафедрой говорить так мог глупец или сумасшедший, но перед лекарем стоял разумный человек, обдумывающий свои слова и отвечающий за них.
– И ты тоже не христианин, хранильник, – сказал незнакомец, не спрашивая, а утверждая это. – Иначе я не обратился бы к тебе.
– Кто же ты? – спросил Миронег, мало надеясь на честный ответ.
– Вы называете меня князем Черным, – сказал незнакомец, и на лице его отразилась гордость за имя. – Это я основал ваш город, когда был жив.
– Я иначе представлял себе мертвых, – сказал Миронег. Может, перед ним безумец? Хотя… Сегодня – особая ночь…
– Не веришь, – опять не вопрос, а утверждение. – А так?
Незнакомец пошевелился, словно желая развести руками кусты и подойти к Миронегу поближе.
И на неживой лунный свет появилось удивительное создание. Оказывается, незнакомец был человеком только по шею. Ниже начиналось покрытое угрожающе острыми перьями соколиное тело. Мощные ноги с крючковатыми когтями прочно вцепились в поросшую травой землю, гладкий хвост смял неосторожно приблизившиеся ветви кустов и деревьев.
– Вспомни, хранильник, – сказало существо, – тебе рассказывали о таких, как я, в годы учения.
– Вилы… Духи мертвых.
– Добрые духи мертвых, – подчеркнуло существо. – Мы не приносим живым вреда, вы, жрецы, знаете это.
– Я не жрец!
– Оставь. Ты прошел посвящение и теперь до самой смерти повязан со сверхъестественными мирами, хочешь ты этого или нет.
– Я не жрец!
– Нам, мертвым, известно, что ты остался последним хранильником на Руси. Пойми, последним. Нам просто не к кому больше идти за помощью, перевелись посвященные в этой стране, так что не спорь и слушай.
– Послушать труда не составит. Что дальше?
– Дальше? Жизнь или смерть, как всегда.
– Как просто.
– Увы… Но перейдем к делу, хранильник. Ты не представляешь, как тяжело удерживать проход из мира мертвых в ваш мир. Мы, спящие в курганах, едва силы нашли его открыть, и не знаю, когда природа победит нашу волю.
– Я слушаю.
Князь Черный сложил крылья на груди; так зябнущий человек скрещивает руки, чтобы согреться. Миронег заметил, что перья на крыльях заканчиваются тщательно ухоженными, в отличие от прически, человеческими ногтями.
– В мире мертвых неспокойно. Мы боимся. Можешь смеяться, но боимся смерти. Мы ведь тоже живем, только иначе, чем вы. Теперь все может быть уничтожено – ваша жизнь, наше существование. Все.
Миронег по обыкновению молчал, дав возможность духу высказаться без помех.
– Мы живем, – Миронегу странно было слышать от мертвеца «живем», – на полпути между миров живых и миром богов. Слухи к нам доходят отовсюду, а думать смерть не отучает. Над всеми мирами нависла угроза уничтожения, но никто не знает, откуда она исходит.
– То есть, – решил хоть что-то прояснить Миронег, – вы ничего не знаете, но боитесь?
– Почти так, хотя я не стал бы смеяться над предчувствием. Нам известно, где появился враг – город Тмутаракань. Ты пойдешь туда, и ты поймешь, что это за зло. И ты уничтожишь его.
– Я лекарь, а не убийца. Для ваших целей нужен воин, а не человек, которого научили в детстве делать обереги.
– У тебя дар, хранильник, и только ты сможешь сделать то, о чем я тебя прошу.
– Я не смогу убить человека просто потому, что об этом меня попросили мертвые.
– Убить человека мы смогли бы и сами. Надо убить бога!
– Безумие! Смертный не может уничтожить бога!
– Ты сможешь.
– Каким же оружием, скажи на милость, можно убить бога?
– Этого – не знаю. Есть загадка, и тебе придется ее разгадать, когда придет время: враждебный бог смертен, но его не убить ни живым, ни мертвым. Каково?
Миронег верил, что князь Черный не шутит. Однако ощущение нереальности так и не покинуло лекаря, словно сон вцепился в мозг, не желая признавать свою мнимость. Удивительно было понимать, что мертвец просил защитить жизнь, просил, забыв от страха или беспокойства за других на время о гордости воина. И просьба эта была тем отчаяннее, что, видимо, никто не знал, как ее исполнить.
– Мы еще встретимся. Мне открылось, что я смогу помочь тебе, хотя и не знаю, как это сделать, – сказал князь Черный.
Крылья с человеческими ногтями расправились, и столб неяркого света ушел в низкий саван осенних туч, едва озарив их нижнюю кромку. Такие же световые колонны стали заметны со всех курганов, на которых вырос Чернигов. Иногда они озаряли дома и церкви, окутанные в желтоватую дымку, контрастировавшую с мертвенным светом луны.
– Мы устали, хранильник, – сказал князь Черный. – Мы уходим к себе. До встречи!
Чудовищная птица поднялась по световой дороге, исходящей из ее же крыльев, и перья заискрились, словно покрытые инеем. По телу духа – есть ли у духа тело? А если нет, то что это? – промелькнули маленькие красноватые молнии, и князь Черный исчез. В то же мгновение пропал и призрачный свет, потухли курганы, и луна с облегчением продолжила светить в привычном для нее одиночестве.
Закрылся коридор меж двух миров, хотя следы гостей исчезли не сразу.
Благодаря лунному свету Миронег без труда смог добраться обратно до городских ворот, где продолжали нести безмолвную вахту окаменевшие сторожа. И так же над ними застыли птицы, раскрыв клювы в молчаливом крике.
Миронег перешел через открытую калитку и пошел по улице к княжескому терему. Задул легкий ветерок. Сверху раздалось недовольное карканье; это вороны, быстро перебирая крыльями, летели в сторону Десны от городских ворот.
Поворачивая за угол, Миронег успел услышать, как стражники выясняли, куда исчез факел, который, как клялся святым Николой и Перуном один из них, только что был в этом кольце крепления. Спору аккомпанировала оживленная перебранка дворовых псов, считавших себя при деле, с бродячими, ненавидевшими любого представителя охранных структур по давней традиции неистребимого племени бомжей.
Сонная стража у княжеского дворца признала лекаря Игоря Святославича и пропустила его без придирок. Какой-то боярин, маявшийся с похмелья или от бессонницы, поинтересовался в полутемном переходе, как показались гостю черниговские девушки. Миронег пробурчал нечто, что боярин принял за одобрение, наконец-то уступив дорогу.
Первым делом Миронег прошел к покоям князя Игоря. Стража уже сменилась, но, как видно, новичков успели предупредить, и гридни понимающе расступились от двери. Оберег покорно висел на морде хранящего замок Индрика-зверя, но Миронег заметил, что узел на ремне кто-то пытался распутать.
– Кто трогал оберег? – тихо спросил Миронег стражей, стараясь не разбудить князя.
Гридни переглянулись, затем помотали головами.
Миронег еще раз посмотрел на оберег и увидел небольшие капельки крови, упавшие на золотой медальон с испачканной морды Индрика-зверя.
– Покажите руки, – приказал Миронег.
Гридни заворчали, что не обязаны подчиняться какому-то лекарю, но Миронег уже все понял. Один из стражей, услышав приказ, отдернул перевязанную ладонь, стараясь спрятать ее за спиной. Змеино зашипела сталь меча, вылетевшего из ножен, и острие уперлось в горло гридня.
– Он хотел проникнуть в покои князя, – заявил Миронег. – Связать его, а утром разберемся, что к чему.
– Чего разбираться, – удивился медный Индрик-зверь, слизывая длинным зеленоватым языком кровь с зубов. – Вор он, и не больше того. Я-то понимаю!
Князь Святослав Игоревич Киевский, разгромив Хазарию, присоединил Тмутаракань к Руси. Город остался космополитом, принимая любого, кто тянулся сюда за наживой или знаниями. Больше века владели городом русские князья, когда в гавани появился византийский дромон, на палубе которого с молодой женой, гречанкой Феофано, стоял изгнанный за несколько лет до того стараниями Владимира Мономаха на остров Родос князь Олег Святославич. Князь вернулся, вернулся мстить и возвращать неправедно отнятое.
Первыми гнев князя почувствовали жители Тмутаракани, перекинувшиеся когда-то к Мономаху. Византийские воины, посланные на помощь басилевсом Алексеем Комнином, устроили резню, сверяясь со списком, составленным по словам князя Олега и верных ему людей.
Затем пришли половцы и устроили бойню, сообразуясь только со своим пониманием. Эти выбирали дома побогаче, высаживали двери и брали все, что хотели, – жизни, одежды, утварь, золото. Олег со злорадством смотрел, как гибнет город, выдавший его дружинникам Мономаха, и не прислушивался к жалобам, несшимся отовсюду.
Были среди жителей Тмутаракани такие, которые бежали в древнее святилище, надеясь, что древние идолы помогут сохранить жизнь. Но для византийских воинов это было языческое капище, недостойное почтения, а половцы идолов не признавали, высекая из камня изображения великих воинов. Как можно изобразить божественное Тэнгри-Небо, да и зачем его изображать, когда небо всегда над тобой?
У подножий древних истуканов византийцы убивали тмутараканцев, а половцы хозяйски вязали новых рабов, которых при случае можно было выгодно продать в соседском Суроже.
Дряхлый старик, долго и удачливо торговавший в собственной лавке на рыбном рынке Тмутаракани, не хотел умирать. С началом резни он забился в дальний угол святилища, надеясь, что его не заметят. Но острые глаза степняка-половца, успевшего заарканить двух рабов, нашли новую жертву.
Старик был худ и болен, и никто не дал бы за него хорошей платы на рынке рабов. Половец разочарованно вздохнул и потянул стрелу из колчана. Торговец умер сразу, так и не донеся руки до оперения стрелы, выглядывавшей из пробитой глазницы. Кровь с древка капала на побитый временем алтарь у идола неведомого древнего бога.
Бог почувствовал кровь.
И принял жертву.
3. Граница Половецкого поля – Киев.
Май – июль 1184 года
Половецкий хан Кобяк старательно обжаривал над огнем очага кабаний окорок, наводивший господина Белой Кумании на философские раздумья. Только утром конь Кобяка вынес хозяина прямо на досыпавшего в приречных зарослях кабана, тут же проявившего свой воистину скотский характер. Кабанище с омерзительным визгом – читатель, а представьте-ка себя в миг неожиданного и неприятного пробуждения – кинулся под ноги коней сопровождавших хана телохранителей. Привычные к громкому безумию боя жеребцы шарахнулись в сторону, явно опасаясь кабана больше любого двуногого врага. Телохранители посыпались с седел на острый ковер разросшейся осоки, стараясь не попасть как под копыта лошадей, так и под клыки кабана.
Кобяк спрыгнул на землю у раздувшегося от гнева кабаньего рыла, выставив перед собой наконечник короткого метательного копья-сулицы. Зверь заревел еще громче, обиженный на убогость оружия, с которым пошел на него человек. Кабан разинул пасть и вцепился зубами в древко сулицы у крепления наконечника. Кобяк пошатнулся от сильного толчка, но удержался на ногах.
Хан и кабан были схожи: оба приземистые, с выступающим брюшком и налитыми кровью от упрямства и бешенства маленькими глазками. Кобяк ревел не хуже кабана, пытаясь вырвать копье из брызжущей слюной пасти противника.
В итоге разум, конечно, победил дикость. У кабана не было окованных железом сапог, а именно это и решило итог противостояния. Кобяк со всей силы ткнул зверя мысом сапога в рыло и, дождавшись вопля протеста, освободил древко сулицы, тотчас направив острие наконечника точно в неосторожно подставленное кабаном горло.
В последнем броске, еще сильнее насаживая себя на копье, кабан едва не дотянулся до обидчика. Тонкое древко сулицы треснуло, и следом челюсти кабана щелкнули на расстоянии ладони от выпачканных в грязи и крови ханских сапог.
Все это заняло не более нескольких минут, так что охрана не успела прийти на помощь своему господину. Кобяк смотрел на вздрагивающую в предсмертных конвульсиях бурую тушу у своих ног и думал, что сегодня убил он, а завтра, хотя лучше бы попозже, убьют и его.
Такие вот мысли приходили на ум хану и при последовавшей уже на стоянке разделке туши. Кончак, услышав однажды подобное от Кобяка, назвал это, загадочно улыбаясь чему-то, эпикурейством, но такие слова в большой голове господина лукоморцев терялись, и Кобяк предпочитал иной эпитет, высказанный вечно кланявшимся узкоглазым купцом из Срединной Империи, – мудрость.
Облик зимнего лагеря лукоморцев был перенят у русских приграничных крепостей, хотя степные привычки давали себя знать. Традиционная связка громадных шестиколесных кибиток-веж надежности ради опоясывалась высоким валом с частоколом наверху. Внутри лагеря стояли добротно построенные дома, перемежаемые жилыми землянками и амбарами, улицы между ними претендовали на прямоту, только это не всегда получалось. В центре лагеря свободной от застройки осталась рыночная площадь, ограниченная с двух сторон небольшим каменным храмом бога Тэнгри и приземистым, под стать хозяину, домом Кобяка. Но сам хан по старинке предпочитал юрту, стоявшую на внешней от вала стороне, считая, что там и воздух здоровее, и еда вкуснее. Деревянный дом обживался вынужденно, когда зимой войлок юрты уже не спасал от морозов. Но в одном Кобяк был непреклонен: мебель в доме отсутствовала, как недостойная воина.
От пытаемого огнем куска кабанятины пошел сладковатый запах, и Кобяк невольно сглотнул мгновенно выступившую слюну.
Кобяк не выдержал и вцепился зубами в полупрожаренный окорок, по-собачьи поскуливая, когда губам и языку становилось особенно горячо. Но насладиться нежданным трофеем хану было не суждено.
Откинув полог входа, в юрту вошли два телохранителя, добродушно пиная перед собой худого смуглолицего человека, заросшего по самые глаза бородой. Одет человек был в вывернутый мехом наружу полушубок, утепленные штаны и подбитые мехом сапоги; выступивший на висках пот говорил, что одежда явно не успевала за сменой времен года.
– Он просит встречи, великий хан, – сообщили телохранители, коленом под зад направляя посетителя прямиком в огонь очага. – Говорит, важное дело.
– Ты кто? – вяло полюбопытствовал хан, знаком отпуская охрану. – Как зовут?
– Я купец. Зовут меня Абдул Аль-Хазред, почтеннейший, – представился смуглолицый, сгибаясь в поклоне.
– Ну?.. – оголодавший Кобяк не был расположен к долгому разговору.
– Я послан от арабских купцов, – суетливо сплетая и расплетая пальцы, доложил Аль-Хазред. – Мы надеемся, что наше предложение принесет вам, великий хан, большую выгоду…
Аль-Хазред замолчал, ожидая, видимо, взрыва восторга, но в ответ услышал уже привычное:
– Ну?..
– В Суроже, – зачастил Аль-Хазред, придвигаясь к Кобяку, – опустели рынки рабов. Цены растут, но спрос все равно не удовлетворяется. Вся надежда на вас, великий хан. Мы слышали о вашем успехе в войне с берендеями…
– Презренными берендеями, – поправил Кобяк.
– Презренными берендеями, – часто кланяясь, повторил купец. – И мы хотели бы, если на то будет милость Аллаха и ваша милость, купить всех пленников, которых вы привели из столь победоносного похода.
Хан зачавкал еще громче, всем своим видом выражая уверенность в том, что иначе и быть не могло.
– За ценой мы не постоим, – горячо шептал на ухо Кобяку Абдул Аль-Хазред. – По желанию великого хана мы заплатим золотом, а будь на то повеление, поменяем этих жалких рабов на драгоценные камни и шелка.
– Сколько же потом вы, арабы, заработаете на рынках своего халифата?
– Как же без прибылей, – засмущался Абдул Аль-Хазред. – За деньги – товар, за товар – другие деньги, чуть побольше, – рассуждал он, опередив на несколько веков некоего иудейского мыслителя.
– Ну-у… – задумчиво протянул Кобяк, водя в воздухе обглоданным окороком, словно уже подписывая невидимый договор. – Это надо обдумать…
Для Кобяка мышление было невозможно без насыщения, поэтому телохранители сноровисто заставили ковер перед вытянутыми ногами хана кувшинами с вином и чашами с кумысом. Именно за кумыс и принялся Абдул Аль-Хазред, пояснив, что пророк запретил правоверным пить вино, а вот про кобылье молоко в Коране ничего не говорится.
Кобяк ел и пил за четверых, успевая при этом подпихивать ногой арабскому купцу все новые и новые чаши кумыса. Вскоре на лице Аль-Хазреда появилось бессмысленно-счастливое выражение, свойственное только сумасшедшим, влюбленным или сильно пьяным, которые, как утверждали мудрецы из разных стран, тоже утрачивали на время разум.
Разумный человек не может быть счастливым, а в многие знание, как известно, многие печали, поэтому пей, араб, и забудь хоть на миг о прибылях и обманах!
Почти одновременно на застланный коврами пол юрты упали гладко обглоданная Кобяком кабанья кость, ни кусочка мяса с которой так и не досталось Аль-Хазреду, и сам купец, оказавшийся, благодаря кумысу, в саду среди райских гурий, на которых из одежды были только привязанные к шее таблички с ценой и перечнем умений, без которых товар не примут на рынки Багдада и Басры.
– Утомился, – жалостливо сказал Кобяк и, взяв араба за ноги, оттащил его в темный угол юрты – чтобы не мешался.
И снова откинулся полог, и снова телохранители Кобяка дружелюбными пинками сопроводили гостя к ханскому угощению.
– На запах идут, что ли? – предположил Кобяк, разглядывая богатые одежды вошедшего. – Ты кто?
Знакомился Кобяк на редкость однообразно.
– Я боярин князя Всеволода Юрьевича Суздальского, именем Борис Глебович, – заявил гость, едва склонив голову. – Разговор есть, хан!
Кобяк внимательно оглядел боярский кафтан из фламандского сукна, кожаные, запачканные в дороге штаны, мягкие сапоги тонкой кожи. Наконец взгляд хана уперся в богатый шерстяной плащ со странной вышивкой на нем.
– Что это еще за паук вместо сокола? – удивился Кобяк, привыкший к гербам-трезубцам, как принято было изображать родовой знак Рюриковичей – сокол. На плаще суздальского боярина алым шелком был вышит склонившийся влево ломаный крест, действительно похожий на раздавленного паука.
– Это? – в свою очередь удивился боярин Борис. – Это коловрат, древний символ Солнца. У нас на Владимирщине, на Рязанщине его почитают наряду с христианским крестом, и церковь не возражает. Да и род мой боярский часто так и называют – Коловраты.
– Круговерти, – постарался перевести понятнее для себя Кобяк. – Ничего, бывает, и хуже прозвать могут. Только у нас прозвища скрывают, а не вырисовывают на плащах… Ладно, говори, с чем пришел.
– Господин мой, князь суздальский, поклон тебе передает и спрашивает, здоров ли? – торжественно начал Борис.
Хан скривился, словно выпил не в меру кислого вина.
– Ты эти словеса оставь для ромеев. У них что языки, что уши ниже пояса, вот пусть и болтаются сутками. Ты по-простому скажи, я язык русский хорошо понимаю.
Боярин Борис несколько растерялся. Пригладив густые волосы, он собирался продолжать, но тут заметил тихо спавшего у стены юрты Аль-Хазреда.
– Мне хотелось бы вести разговор наедине, – попросил боярин, указывая на араба.
– А-а-а, ты об этом? Его не опасайся, будет спать еще сутки. А приказать вытащить его на улицу не хочу – земля холодная, простудится еще, жалко. Так что давай выкладывай, что там накопилось у моего брата, князя суздальского.
Хан отхлебнул из кувшина вина и ухмыльнулся. Борис не рискнул предполагать, оценил ли Кобяк качество питья или развеселился, приравняв себя по родству к Мономашичу.
– Князь Всеволод считает, великий хан, что у вас с ним одинаковые трудности… Точнее – враги.
– Опять загадки? Ты можешь говорить прямо?
– Да, конечно. Речь идет о Киевском княжестве и его хозяевах. Нам во Владимире стало известно, как болезненно отнеслись и Святослав Всеволодич, и Рюрик Ростиславич к твоему походу на черных клобуков. Известно и то, что готовится ответный набег на Лукоморье.
– Я должен испугаться?
– Нет. Если, конечно, сможешь упредить удар.
Впервые с начала разговора Кобяк посмотрел на посланца с неподдельным интересом. Внешне это выразилось в том, что хан отставил в сторону еду и вино, сосредоточившись на диалоге.
– Подробнее? – то ли попросил, то ли приказал Кобяк.
– Изволь. Князья Святослав и Рюрик продолжают пренебрегать силой, сосредоточенной под твоей, хан, рукой. Мой господин узнал, что против вас из Киева и Чернигова отправляют только дружины младших князей, рассчитывая небольшим числом добыть победу.
– Это мы еще посмотрим, – тихо сказал Кобяк.
– Князь Рюрик, – продолжал Борис, – опасаясь, как бы неопытные князья не заблудились в степи, решил вывести в поход всех черных клобуков…
– Как – всех? – не понял Кобяк. – Рюрик не безумец, чтобы оголять южную границу Киевщины!
– Мы уверены – всех. А ведет их сам Кунтувдый.
– Добрый враг… Но я так и не понял, какая выгода у твоего князя, боярин Борис, сообщать мне об этом?
– Я скажу, только учти, мой князь никогда не согласится повторить это при свидетелях. Киев не может больше управляться своими князьями, ум и сердце Киева – в Суздале…
– Подожди-ка! Значит, я буду бить киевские дружины, а в победителях окажется князь суздальский?!
– В победителях окажетесь вы оба! Да, князь Всеволод надеется прибрать ослабевший Киев под свое крыло. Но ему нужен титул великого князя, а не город! Киев отстроился и разбогател после похода Андрея Боголюбского, и все накопленное купцами да боярами станет твоим, хан! Кроме того, мы понимаем, как приятно унизить врага. Ты же давно мечтаешь о том времени, когда хан Кунтувдый будет брошен, связанный сыромятными ремнями, к твоим ногам, прежде чем отправится на невольничий рынок. Не купцом отправится – товаром!
Хан Кобяк зачерпнул рукой из блюда сваренное в молоке просо, слепил из него шарик и отправил себе в рот.
– Хорошо говорил, боярин, – сказал хан. – Так хорошо, что я даже почти поверил тебе.
– Почти?..
– Конечно – почти. Возможно, я и кажусь кому-то глупцом, но только кажусь… Кунтувдый никогда, слышишь, боярин, – никогда не поведет своих берендеев в глубь Половецкого поля! Он проводит молодых князей до солончакового пути и остановится. Оставаясь здесь, я приму бой только с киевлянами, но твоему князю этого мало, не так ли, Борис? Ему надо столкнуть меня с берендеями, и это понятно. Суздальцу мало ослабить врага, ему надо ослабить и союзника…
Боярин Борис протестующе поднял руки, но говорить ему Кобяк не дал.
– Спасибо за новости, – сказал хан. – Хотя Степь ближе к Киеву, чем Суздаль, и известия сюда доходят быстрее, – Кобяк добродушно улыбнулся. – И передай своему господину: не надо считать половецких ханов глупцами… А своих бояр – умниками!
Борис Глебович вспыхнул от явной, хоть и заслуженной обиды.
– Унизить посла – вызвать войну, – задрожавшим голосом вымолвил он. – Князь Всеволод отомстит!
– Уж наслышан. Веслами воду из рек расплещет, а что не расплещется, из шлема выпьет! Наверно, лучшего применения шишаку найти не может… Пускай твой князь сначала попробует до меня через Чернигов или Киев добраться, тогда и бояться буду! Ступай, боярин, зла не держу, не я, хозяин из тебя болвана сделал.
Лицо Бориса исказилось. Он наклонился и из-за голенища сапога вытащил нож с коротким, в ладонь, и немного изогнутым лезвием. Кобяк не видел этого; он уже забыл о существовании суздальского посланца, вернувшись к прерванной трапезе. Задрав голову, он широко открыл рот, глотая льющуюся сверху их плоской чаши струю кумыса. Часть кобыльего молока текла по вислым усам, и видно было, что это доставляло хану удовольствие.
Через мгновение иссиня-белая струя кумыса окрасилась розовым. Засапожный нож боярина одним движением перерезал горло Кобяка, и из образовавшейся раны толчками выплескивалась пузырящаяся смесь кумыса и крови.
Гордым был боярин и зла не прощал, а более того – оскорблений, и мстил сразу, невзирая на положение обидчика.
А другие сказали бы об этом боярине – самодовольный дурак. Если желаешь, читатель, то попробуй разберись, а я не хочу.
* * *
– Как теперь жизнь свою сохранять думаешь, боярин? – раздался за спиной Бориса ласковый голос.
Боярин обернулся, выставляя перед собой окровавленный нож. У выхода из юрты стоял совершенно трезвый арабский купец с обнаженной ханской саблей в руке.
– Ножичек оставь, он теперь лишний, – заметил Аль-Хазред, шевельнув саблей.
Боярин быстро понял, что имеет дело с опытным фехтовальщиком, и выпустил нож, который с глухим стуком упал на раскинувшийся под ногами труп.
– Хорошо, – одобрил араб. – Теперь хорошо. Знаешь, что хуже глупости?
И, не дожидаясь ответа, сам и продолжил:
– Ее повторение.
Абдул Аль-Хазред осторожно приблизился к боярину. Сабля опустилась книзу, но пальцы араба, перебирающие обмотанную кожей рукоять, ясно предупреждали о готовности в любой момент нанести удар.
– Интересно у вас на Руси ведут переговоры, – заметил Аль-Хазред. – Чуть что не так, и сразу ножом по горлу… Может, хоть со мной поговоришь спокойно?
– О чем нам с тобой говорить?
– И правда, – удивился араб. – О чем? Позвать стражу, и дело с концом, не так ли?
У боярина Бориса задергалась правая щека.
– Что ты хочешь? – спросил он, с ненавистью глядя на готовый убивать сабельный клинок.
– Помочь, – араб ухмыльнулся. – Уважаемый…
– Издеваешься?
– Издевался хан, я – договариваюсь. Сейчас, боярин, ты выйдешь на воздух и скажешь стражникам, что хан повелел не беспокоить его до особого приказа. Затем ты сядешь на коня и медленно, торжественно, как и полагается послу, уберешься из лагеря. Остальное – мое дело, а ты ничему не удивляйся, если хочешь жить. А жить ты хочешь, я же вижу.
– Меня не выпустят, – боярин устыдился тому, как жалко звучал его голос.
– Выпустят, – заверил араб. – И ты благополучно вернешься в свой Суздаль…
– Владимир, – поправил боярин и осекся, встретившись глазами с взглядом Аль-Хазреда, не менее острым, чем сталь засапожного ножа.
– Не имеет значения. Ты вернешься и будешь ждать. Ждать, когда я приду за расплатой. А я приду – через месяц, год, но приду обязательно! И тогда ты вернешь долг – ведь Всеволод Суздальский не простит такой ошибки, правда, боярин?..