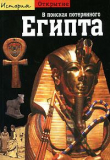Текст книги "Русский бал XVIII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика"
Автор книги: Оксана Захарова
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Лев Толстой
После бала
Отрывок из рассказа
– Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал по вод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.
Так он сделал и теперь.
– Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.
– От чего ж? – спросили мы.
– Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.
– Вот вы и расскажите.
Иван Васильевич задумался, покачал головой.
– Да, – сказал он. – Вся жизнь переменилась от одной ночи или скорее утра.
– Да что же было?
– А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б…, да, Варенька Б… – Иван Васильевич назвал фамилию. – Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.
– Каково Иван Васильевич расписывает.
– Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег – ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.
– Ну, нечего скромничать, – перебила его одна из собеседниц. – Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.
– Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, по тому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду – танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему – пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся, с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.
По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore» [301]301
Еще ( фр.).
[Закрыть]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.
– Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, – сказал один из гостей.
Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:
– Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr [302]302
Альфонс Карр ( фр.).
[Закрыть], хороший был писатель, – на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете…
– Не слушайте его. Дальше что? – сказал один из нас.
– Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.
– Так после ужина кадриль моя? – сказал я ей, отводя ее к месту.
– Разумеется, если меня не увезут, – сказала она, улыбаясь.
– Я не дам, – сказал я.
– Дайте же веер, – сказала она.
– Жалко отдавать, – сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.
– Так вот вам, чтоб вы не жалели, – сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.
Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.
– Смотрите, папá просят танцевать, – сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.
– Варенька, подите сюда, – услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.
Варенька подошла к двери, и я за ней.
– Уговорите, ma chère [303]303
Дорогая ( фр.).
[Закрыть], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, – обратилась хозяйка к полковнику.
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à lа Nicolas I [304]304
Как у Николая ( фр.).
[Закрыть]подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.
Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, – «надо всё по закону», – улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.
Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, – хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», – думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.
– Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней, – сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.
Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.
Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.
После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.
Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: « Гордость?да?» – и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.
Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до поло вины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вы шел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.
Константин Веригин
Благоуханность
Отрывок из биографической повести
БалМолодость неисчерпаемо богата яркими чувствами и переживаниями. Кажется порой, что с годами многое забывается, но, чем старше становишься, тем более выступают из глубины сознания свежие, молодые воспоминания, и среди них во всех своих милых подробностях сияют первые наши балы. Сколько грез, волнений и мечтаний они вызывали! К ним готовились неделями, месяцами, и в воспоминаниях они кажутся чудесными, нереальными, выхваченными из обычной жизни, овеянными музыкой, сказочными встречами прекрасного принца и задумчивой Царь-Девицы. Само ожидание бала было чудесным, наполненным грезами; каждый новый день увеличивал радость будущего, манил и звал. И вот, наконец, просыпаешься с чувством, что ждать остается лишь до вечера, что день бала уже наступил.
Платья, вызывавшие столько размышлений, разговоров и примерок, готовы. Легкие, светлые, воздушные – в них та же девичья прелесть, что и в их юных хозяйках. Сшитые обычно не в больших домах, а местными швеями по моделям модных журналов, они были все же полны милой фантазии и скромной простоты, так как о больших декольте у барышень и речи быть не могло.
Конец Первой мировой войны связан для меня даже не с настоящими балами, а с нарядными танцевальными вечерами, уютными, семейными, таки ми же, вероятно, какие устраивали наши отцы в дни своей молодости. Уклад жизни тогда еще не менялся так быстро, как он меняется в наши дни. Люди были гостеприимны и просты; принимали широко, но поразить никого не хотели, хотя и готовили все на славу. Танцевали еще старинные польки, венгерку, мазурку и краковяк, полонез, кадриль, падекатр и падеспань, и новшеством являлись танго и фокстрот. Однако высшим достижением бальных танцев, уносивших нас на крыльях, опьянявших своей воздушностью и быстротой, был вальс. И музыка его, веселая, разнообразная, легкая, певучая, всегда особенно ярко отзывалась в душе.
Фокстрот тоже танцевался легко и весело, но настоящим танцем его не считали; роль же танго была тогда еще не столь значительной, как стало позже. О нем рассказывали немало анекдотов, порой не совсем скромных; но мы, молодежь, еще не ощущали его задумчивого ритма, таинственных замедлений, страстности.
В жизни молодежи танец занимает всегда большое место, и, быть может, это объясняется тем, что ничто так быстро, приятно и легко не сближает, как он. Не надо думать о теме разговора, не надо угадывать мысли партнера, уметь заинтересовать его, достаточно отдаться музыке и знать, что всем танцующим так же весело и легко, как тебе.
В нарядном, залитом светом зале танец имеет свою особую магию. Как часто вызывает он увлечение, влюбленность и даже любовь. Хорошо танцующая дама вся отдается его ритму и вверяется своему кавалеру; он же, попадая под власть музыки, теряет свою отчужденность и незаметно для себя, в благоуханной близости своей дамы, попадает во власть ее очарования…
Бальный зал казался мне всегда волнующей оранжереей, чудесным зимним садом, в котором, как яркие и нежные цветы, в переливах огней, в волнах музыки мелькают благоуханные девушки.
Роль духов на балу особенно велика. Нигде условия для их полного аккорда не являются такими благоприятными. Все содействует этому: температура в зале и теплота тел танцующих, свет и музыка, движение и желание нравиться, уверенность в своем очаровании и молодость и, вероятно, еще целый ряд других причин… Роль духов, их увлекающую силу женщина поняла раньше мужчины и прибегает к ней все чаше и чаще. Правильно вы бранные духи, их постоянство – и женский облик встает в памяти с особой силой, полный власти, шарма и обаяния. И когда через многие годы вспоминается прошлое, то не ярче ли всего милого и ушедшего воскресает в памяти веяние аромата!..
И вот сейчас, переносясь мыслью на первые мои балы, в благоуханной прелести духов я вновь вижу милые лица, слышу молодые голоса.
На этот памятный вечер приехали мы с небольшим опозданием. Из зала неслись лихие звуки мазурки, и пара за парой мелькали перед нами. Дамы казались легкими, воздушными, как птицы, а кавалеры, полные мужественной отваги, гремели шпорами и каблуками.
Вот пролетает Милочка – общая наша любимица… Невысокая, тоненькая, прелестная шатенка с огромными темными и яркими глазами. Она весела до озорства. Все притягивает в ней, волнует, захватывает, и она не скрывает своего желания взять от жизни все радости. Восторг ее передается окружающим и пленит их, как и она сама. Кажется, есть в ней что-то южное, вакхическое, хотя она и русская без всякой примеси иной крови. На ней коричневая туника под цвет ее глаз, и надушена она недавно появившимся, замечательным «Chypre» от Коти. Задорность ее юной благоуханности как нельзя лучше дополняется и подчеркивается искристой душистостью «Chypre», создавая незабываемый облик.
Немало на балу девушек красивее ее, и все же она остается одной из его цариц; и много юных поклонников окружают ее и мечтают танцевать с ней. «Chypre» и она, она и «Chypre» кружат голову, манят счастьем, весельем, молодостью…
Напевный вальс сменяет мазурку. Плавно, легко скользят пары. Близость танцующих рождает мечты, мечты переходят в надежды, сливаются с музыкой, танцем, слегка пьянят.
Золотая головка, нежно-голубое платье – это проносится первая красавица бала – Надин. Ее родители, крупные коммерсанты из Балтийских провинций, малопривлекательные люди. Как случилось, что их единственная дочь воплотила в себе такую чудесную античную красоту? Все в ней безукоризненно. Маленькая головка на красивой, точеной шее, большие глаза, нежный овал лица, чудесная кожа, тонкое сложение, породистые руки и ноги, но холодом веет от нее, даже вальсирует она безжизненно и невесело. Я часто встречал ее и знал, что у нее немало хороших, дорогих духов, но на ней они теряли свой аромат, разрушались. И хотя и думала она и читала не менее других, разговаривать с ней было трудно. Она казалась нам ста туей, лишенной прелести, благоухания, теплоты живого существа, и, несмотря на редкую красоту, успеха она не имела.
Закончился вальс, но мы не успеваем сесть и обменяться впечатлениями, как задорная мелодия падекатра зовет нас опять в зал.
Быстро наполняется он парами, стремительно несущимися в танце, исполняющими несложные фигуры с детства знакомого танца. Да и есть в нем что-то детское, наивное.
В паре с высоким, стройным брюнетом проносится Люся. Ей только что минуло семнадцать. Она, высокая, стройная, длинноногая, кажется еще подростком, большой девочкой, случайно попавшей на бал. Люся прелестная, голубоглазая, с золотистыми, светящимися волосами и очень светлой кожей, к которой никогда не пристает загар, так огрубляющий кожу блондинок. На ней простое, но очень милое платье под цвет ее глаз. Взор ее затемнен длинными, загнутыми ресницами, а на левой щеке очаровательная ямочка дополняет правильный овал ее милого лица. Она напоминает мне полевой цветок или едва раскрывшийся бутон розы. Танцует она весело и живо, как-то по-детски; на стоящей женственности в ней еще нет. Танец радует ее – и только, она не переживает его, и танцующие с ней понимают это и ценят в ней милую партнершу, с которой нежелательно танцевать более задушевные танцы…
Надушена она не духами, а чудесным лосьоном «Violette de Bois» от Пино. Тонкая нежность ее девичьей благоуханности ярко сплетается с благо родной свежестью лосьона, и создается незабываемый образ в акварельно-голубых тонах восемнадцатого века.
Потушены главные люстры. Освещение зала стало интимнее; медленно, замирая и плача, пропели скрипки первые аккорды танго. Танцующих стало меньше, легче следить за скользящими парами, наблюдать и делать заключения…
Танго выдает взаимоотношения людей более других танцев. Вальс зовет к полету, веселью, жизни. Он выражает силу, самостоятельность. Танго же пол но тихой грусти, задушевности, слабости… Впрочем, в 1918 году для исполнения этого танца еще требовались сложные па, и это несколько смягчало беспомощную грусть сопровождавшей его музыки.
Но вот одна из самых красивых пар этого вечера. Они оба – восточные люди, смуглые, крупные, с тонкими талиями. В его улыбке таится что-то хищное и неспокойное. В ее огромных миндалевидных глазах горит опасный огонь, во взгляде – притупленность и страстность. Смуглый цвет ее кожи привлекателен, прелестен правильный овал лица и маленький, яркий, чувственный рот. В семнадцать лет она уже настоящая женщина в полном расцвете своей красоты, но кажется, что пройдет совсем немного времени, и она пополнеет, расплывется и огрубеет… Танцует она превосходно. Вид но, что они станцевались, ибо каждое их па, каждый поворот полны тончайшей согласованности. Но моментами держится она слишком близко, и в эти мгновения она отдается власти своего партнера и не скрывает этого.
Темно-красное шелковое платье оттеняет ее смуглую кожу и иссиня-черный отлив волос, и льется от нее могучей волной смущающий и дразнящий аромат. Это «Heure Bleue» от Герлена; у нее эти знаменитые духи достигают максимальной силы. Уже и без духов – на прогулках, у моря и особенно под вечер – запах ее вызывающе крепок, и есть в нем что-то от восточной пряности, и присущий ей от природы аромат могуче дополняется духами того же тона.
И прелесть ее совсем не семнадцатилетней девушки, а настоящей женщины; вероятно, такое же очарование было у нашей прародительницы Евы после вкушения от древа познания добра и зла…
За танго опять следует танго. Бал достиг своей кульминации. В замедленном повороте красиво проходит Анна со стройным, интересным юношей, совершенно ею очарованным. Маленькая, стройная, чудесно сложенная шатенка с зелено-коричневыми глазами, она невольно притягивает взгляд. Ее небольшая красивая рука с несколько удлиненными ногтями грациозно лежит на плече кавалера. Прелесть ее тоже нерусская. Много сотен лет назад ее предки пришли из Азии на служение Русской земле и, потеряв всякую связь с Востоком, стали совершенно европейцами. Она же словно сошла с древней гравюры, чтобы напомнить о связи своего рода с бесстрашными завоевателями Чингисхана, покорителя вселенной…
Замирают движения танго, плачут скрипки, сближаются головы танцующих, и в глубокий плен тонкой благоуханности Анны заключается стройный паж. Она надушена только что прибывшими из далекого Парижа «Mitsouko» от Герлена, который как бы создан для нее. У нее этот шипр амброво-фруктового характера приобретает необычайную прелесть, и аромат его то тонко сплетается с ее собственной благоуханностью, то вдруг ярко и мощно отрывается и развивается в собственной душистости…
Танцуют они такой трудный танец, как танго, безукоризненно: сдержанно, строго и легко, и вместе с нем как полна она прелестной женственной грации и как хорош ее кавалер!
Оркестр отдыхает. Приносят угощения, напитки. Молодежь – кто стоит, кто сидит. Все ожив ленно разговаривают, ожидая новый танец; антракт продолжается недолго. Музыканты рассаживаются, настраивают инструменты и для начала играют веселый фокстрот. Пара за парой вступают в танец, доступный всем своей простотой.
Среди массы танцующих резко выделяется новая пара, вызывая невольное восхищение. Он – высокий блондин, северный красавец с серыми глазами и милой улыбкой. Его дама тоже высокого роста, чудесно сложенная, с копной великолепных рыжих волос и удивительно нежной, чистой кожей.
У нее правильный овал лица, большие зеленые глаза и четко очерченный рот. Огнем веет от ее красоты и аромата, который притягивает мужчин и не нравится женщинам. И кажется, что благоухание это близко древнему хаосу, что таится в душе каждого смертного. Страшно приблизиться к нему. На душена она прославленным «Origan» от Коти, который так ей идет. Элен знает свою власть, но не злоупотребляет ею, так как дополняет ее красоту и ум и доброе сердце. Только ложь да клевета заставляют вспыхивать ее глаза, загораться зеленым светом, и она умеет оборвать, остановить и смутить виноватого…
Блестящим мигом проносится танец за танцем, но вот наконец и последний – полька-бабочка.
Весь зал наполнился танцующими, и все лица искрятся улыбками и задором. Наблюдения мои закончены, так как и я в золотом плену. Ласково светятся карие глаза моей дамы, и мне кажется, что кругом весна, хотя за окнами декабрь…
Имя Веры горит во всех моих помыслах и мечтах, а тут и она сама со мной в нежной близости танца. Счастьем веет от нее, от ее духов, от милого образа. Танцует она легко и музыкально, и чудится мне, что мы составляем одно целое.
Вера – светлая шатенка с золотистым отливом и чудесной кожей. Нежная прелесть ее благоуханности напоминает мне аромат чайных роз. Зная, как дорога мне, она лишь слегка надушилась своими любимыми духами «Quelques Fleurs» от Убигана. «За ушком только», – мило сознается она мне. Это так хорошо оттеняет ее!
Близость, аромат, танец дают мне такую полно ту счастья, что слова бледны это выразить…
Полькой-бабочкой заканчивается вечер. Мы вы ходим. Горы, море, сады утопают в лунном сиянии. Экипаж ожидает нас у подъезда. Быстро уносят нас добрые кони, и сказочность продолжается в по ездке в горы, по дороге в Учан-Су.