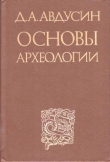Текст книги "У истоков древнерусской народности"
Автор книги: Оксана Головина
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Автор этих строк, а затем и В. В. Седов, в конце 50-х годов заново исследовавшие материалы длинных курганов, рассматривают их как древности летописных кривичей. Понятно, что в землях этой восточнославянской группы, пограничной с литовскими племенами, балтийский субстрат был особенно сильным. Судя по материалам длинных курганов Смоленщины, балтийские элементы сохранялись там вплоть до IX в. Очевидно, правы были те историки XIX в., которые считали кривичей «наполовину литовцами». И недаром наименование этой группировки – кривичи – имеет балтийское происхождение. Криве – это имя одного из персонажей литовской языческой мифологии.
В конце 40-х годов мной было высказано предположение, что длинные курганы имеют местное происхождение, что их появление отражает перемены, совершившиеся в общественных отношениях. Раньше результаты сожжения умерших погребались славянским населением на общем родовом могильнике, а потом, когда родовые связи разрушились и на первое место выдвинулась отдельная семья, появились семейные усыпальницы – курганы.
Позднее длинные курганы были обнаружены в бассейне Немана и в верхнем течении Западного Буга. На этом основании В. В. Седовым была высказана мысль, что «люди длинных курганов»– кривичи – пришли на свою летописную территорию с Немана и Буга, из Восточной Польши. Однако известные сейчас в бассейне Немана и Буга длинные курганы не являются ранними, по времени предшествующими курганам территории летописных кривичей. Они позднее многих курганов, известных на Западной Двине и в Псковской области. И, может быть, высказанное В. В. Седовым предположение о западном происхождении кривичей является ошибочным.[50]50
П. Н. Третьяков. Археологические памятники древнерусских племен. Уч. зап. Ленингр. унив., серия ист. наук, в. 13, 1949, стр. 272; В. В. Седов. Кривичи. СА, 1960, № 1, стр. 56.
[Закрыть]
Курганы с деревянными «домовинами» и оградами первоначально были определены мной как вятичские. Они были известны в бассейне Верхней Оки и на Верхнем Дону. Но такие курганы, в частности очень ранние – V–VI вв. (Кветунский мог.), были обнаружены кое-где и на Десне, в земле северян. Одним из важнейших компонентов вятичей, судя по археологическим данным, является верхнеокское население середины I тыс. н. э., известное по так называемым мощинским древностям. Выше оно было определено как местное, восточнобалтийское, подвергшееся сильному культурному воздействию со стороны позднезарубинецких племен, занимавших смежные с бассейном Верхней Оки области Подесенья. На севере Верхнеокского бассейна, судя по данным летописи, балтийская группировка – голядь – дожила до XI–XII в. В среде вятичей балтийские элементы были представлены несомненно столь же весомо, как и в среде кривичей. Недаром «руководящая форма» вятичской сельской средневековой культуры – семилопастное височное кольцо – в качестве своего прототипа имеет височное украшение с трапециевидными подвесками, распространенное во второй половине I тыс. н. э. среди верхнеднепровских балтов.
Судя по данным летописи, близкой вятичам восточнославянской группировкой были радимичи, жившие между Днепром и Десной по pp. Сожу и Ипути. В пределах земли радимичей древности второй половины I тыс. н. э. почти не исследованы. Поэтому вопрос об этой группировке, об ее отношении к позднезарубинецким и местным балтийским племенам остается пока открытым.
Последней восточнославянской группировкой, расположенной в Верхнем Поднепровье, являются дреговичи, занимающие, по словам летописи, Правобережье Днепра «межи Припетью и Двиной». Судя по древностям VI–VIII вв., известным на дреговичской территории, дреговичи не были потомками зарубинецких племен, а являлись группировкой, близкой древлянам и волынянам, имевшим, по-видимому, западное происхождение. Недавно вопрос о дреговичах и их связях с «культурой Корчак», принадлежавшей древлянам и волынянам, был обстоятельно освещен В. В. Седовым.[51]51
В. В. Седов. Дреговичи СА, 1963, № 3.
[Закрыть] В этой же работе приведены данные, указывающие на то, что вплоть до последних веков I тыс. н. э. в пределах летописной дреговичской территории продолжало сохраняться и местное балтийское население.
3
Итак, в свете археологических данных становится очевидным, что в течение I тыс. н. э. область Верхнего Поднепровья являлась ареной длительного этнического состязания между местным населением – восточными балтами – и постепенно двигавшимися из Среднего Поднепровья славянами. Победу одержали славянские группировки, достигшие более высокого уровня экономики, культуры и общественных отношений. К исходу I тыс. н. э. процесс ассимиляции верхнеднепровских балтов в основном завершился; они смешались со славянами, утратили свой язык и особенности культуры. Летописцы уже ничего не знали о том, что «перьвыми насельницами» Верхнего Поднепровья были балтийские племена. Лишь одна только голядь получила отражение в летописи. Голядь обитала до XII в. в западной части Волго-Окского междуречья, на северных рубежах земли вятичей.
В русской историографии и в археологических исследованиях не раз поднимался вопрос о том, что представляли собой перечисленные в «Повести временных лет» восточнославянские объединения: словени, кривичи, радимичи, вятичи и др. Обычно их называют племенами, хотя контекст летописи не содержит для этого никаких оснований. Неизвестно, были ли эти объединения древними этническими подразделениями или в них следует видеть новообразования, возникшие незадолго до сложения Древнерусского государства.
В исследованиях А. А. Шахматова, А. А. Спицына и некоторых других филологов и археологов конца XIX – начала XX в. летописные «племена» рассматривались в качестве особых этнических подразделений. А. А. Шахматов полагал, что между современными русскими, украинскими и белорусскими диалектами и летописными восточнославянскими группировками имелась генетическая преемственность, что вятичи, словени, кривичи и другие группы отличались друг от друга в диалектном отношении.
A. А. Спицын, рассматривая древнерусские курганные древности XI–XII вв., пришел к мысли, что в этих древностях «намечается столько же археологических типов и районов, сколько летопись перечисляет древнерусских племен» и что «дальнейшее расширение исследований соответствующих курганов даст вполне точную карту расселения древнерусских племен времени Начальной летописи».[52]52
А. А. Шахматов. 1) К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. Журн. Минист. народн. просв., 1899, кн. IV; 2) Введение в курс русского языка; А. А. Спицын. Расселение древнерусских племен по археологическим данным.
[Закрыть]
Другую точку зрения на летописные группировки обосновали историки, исходившие из того, что этногеографическая картина «Повести временных лет» является результатом расселения славян по Русской равнине, в условиях которого древние племена разрушались и возникали новые объединения. Так думал B. О. Ключевский. Наиболее определенно высказывался по этому поводу автор «Исторической географии» С. М. Середонин. «Из местных названий XI века летопись сделала „племена“ восточного славянства», – писал он. «Сравнительно небольшими группами, часто отдельными семьями, славянские племена расползались по великой Восточно-Европейской равнине. Вследствие этого постоянно изменялись границы Русской земли, распадались прежние союзы, на их месте образовывались новые, которые уже нельзя считать союзами лиц, связанных единством происхождения»[53]53
В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. I. М., 1937, стр. 109; С. М. Середонин. Историческая география. Пгр., 1916, стр. 134, 152.
[Закрыть].
Дальнейшие розыскания показали, что оба приведенных выше мнения о летописных группировках нуждаются в значительных коррективах. Исследования в области исторической диалектологии подтвердили мысль о лексической пестроте древнерусской речи, но не выявили таких материалов, которые позволили бы утверждать, что древнерусские группировки – кривичи, вятичи, радимичи и др. – имели свои исконные различные диалекты. «Дальнейшее расширение исследований» древнерусских курганных древностей, на которое возлагал свои надежды А. А. Спицын, так и не привело к составлению «вполне точной карты расселения древнерусских племен». Было обращено внимание на то, что определенные А. А. Спицыным археологические признаки, отличающие одно «племя» от другого, не были древними, а появились лишь в начале II тыс. н. э., когда «племена» уже сходили с исторической сцены.
Речь идет здесь о важном в древности признаке – предметах убора женского костюма, прежде всего о височных кольцах. Ромбощитковые кольца словен новгородских, семилопастные – вятичей, семилучевые – радимичей и т. д., как и сопутствующие им другие специфические украшения, были новообразованием. Они появились лишь на рубеже I и II тыс. н. э. Славяно-русские древности предшествующих IX–X вв. не содержат таких предметов убора, по которым можно было бы бесспорно определять различные древнерусские «племена».
Привлечение материалов третьей четверти I тыс. н. э. – перечисленных выше вариантов погребальных сооружений (сопки, длинные курганы, курганы и деревянные «домовины»), относящихся ко времени, когда «племена» должны были составлять еще суверенные образования, обещало как будто бы очень многое. Но стало выясняться, что эти варианты погребальных сооружений возникли, по-видимому, не без участия балтийского субстрата. Вятичское височное кольцо, как заказано выше, также имело балтийский прототип. То же самое можно сказать и о некоторых других предметах убора, обычных для древнерусских курганных древностей. Изучение верхнеднепровской гидронимии выявило мощный пласт балтийских наименований, как и археологические данные, свидетельствующий о том, что восточные балты «вросли» в восточнославянское население, что вплоть до последних веков I тыс. н. э. они были в некоторых частях Верхнего Поднепровья вполне реальной величиной.
Как же следует согласовать между собой все эти данные, какую картину они рисуют? На их основании и в свете всего сказанного ранее становится, во-первых, очевидным, что восточно-славянские группировки – словени, вятичи, кривичи и др. – не были древними, исконными образованиями, славянскими племенами или племенными группами, связанными единством происхождения. Они сложились в Верхнем Поднепровье где-то в середине І тыс. н. э. Во-вторых, группировки эти образовались не из одних только славянских элементов, но и из местных балтов, подвергшихся ассимиляции. Это были территориальные, политические союзы, возникшие уже на исходе первобытной истории. Летопись указывает, что до включения этих группировок в состав Киевской державы, у них были свои «княжения». Известны имена князей: легендарных Вятко и Радима у вятичей и радимичей; вполне достоверных Ходоты с сыном и Мала у вятичей и древлян и др. Развитие этих союзов шло по пути превращения их в государства.
Но не противоречат ли этому факты, указывающие, что вятичи, кривичи, радимичи и другие группировки имели некоторые свои отличительные признаки в культуре? Археологические признаки «племен», как уже указано, особенно отчетливо проявились в начале II тыс. н. э., когда суверенному существованию древнерусских группировок уже пришел конец. Эти признаки складывались на основе как славянских, так и балтийских элементов. Одновременно завершался процесс ассимиляции славянской средой днепровских балтов. Иными словами, внутри летописных группировок шел исторический процесс консолидации различных этнических элементов, представлявший собой в ту эпоху не что иное, как процесс формирования народностей. Словене новгородские, кривичи, вятичи, радимичи и другие были не только племенными объединениями, но и примитивными народностями, или «народцами», находящимися на разных уровнях консолидации и мало-помалу поглощаемыми складывающейся древнерусской народностью. Эту мысль автор высказал еще в начале 50-х годов.[54]54
П. Н. Третьяков. Восточнославянские племена. М., 1953, стр. 217–228.
[Закрыть] Но тогда славянские древности I тыс. н. э. были известны еще очень плохо, оставались неисследованными древности верхнеднепровских балтов, была неясной роль балтов в образовании восточнославянских группировок. Теперь, после новых археологических, гидронимических и других исследований, все это значительно разъяснилось.
В этой связи необходимо отметить еще одно ошибочное положение в работах В. В. Седова. Он полагает, что днепровские балты послужили компонентом не древнерусских летописных группировок и древнерусской народности, а лишь той ее части, на основе которой впоследствии, через несколько веков, сложилась белорусская средневековая народность. По его мнению, балтийский компонент является специфической особенностью этой народности. В свете всего сказанного выше ошибочность точки зрения В. В. Седова представляется бесспорной.[55]55
В. В. Седов. 1) К происхождению белоруссов. СЭ, 1967, № 2; 2) О происхождении белоруссов. В сб.: Древности Белоруссии, Минск, 1966, стр. 301–309; П. Н. Третьяков. Восточные славяне и балтийский субстрат. СЭ, 1967, № 4.
[Закрыть]
Совсем неверной представляется мне попытка И. И. Ляпушкина изобразить картину жизни и культуры восточных славянских группировок накануне образования Древнерусского государства по сути дела вне какой-либо связи с историей культуры балтов и других этнических группировок, послуживших для славян субстратом на огромных пространствах Восточной Европы. В своей последней книге, посвященной славянским племенам конца I тыс. н. э., И. И. Ляпушкин уклонился от рассмотрения многих групп раннесредневековых древностей Верхнего Поднепровья и его периферии (длинных курганов, сопок и др.), указав, что их отношение к славянам является далеко не определенным, а во многих случаях спорным.[56]56
И. И. Ляпушкин. Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства, стр. 89–97.
[Закрыть] Но эта неопределенность, то что черты культуры славян выступают в ряде случаев не в чистом виде, а в сочетании с элементами культуры других этнических группировок, отражает вполне реальную картину исторического процесса.
О ДРЕВНЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
«Русская земля» и «древности русов»
1
Многочисленные открытия в области славяно-русских древностей VI–VIII вв., сделанные в Поднепровье за последние два десятилетия, настойчиво призывают еще раз возвратиться к одному из наиболее темных и запутанных вопросов истории древнерусской народности и ее государства – к вопросу о том, кем были в последние века I тыс. н. э. древние русы и что представляла собой первоначально Русская земля?
Вопрос этот интересовал всех историков Руси, а еще раньше – ее летописцев; можно сказать, он столь же стар, как и сама Древняя Русь. Началам Руси посвящена обширная литература, отечественная и зарубежная. Множество научных сочинений, авторы которых занимались данным вопросом, относится к концу XVIII – началу XX в., когда между двумя непримиримыми лагерями русской дворянско-буржуазной историографии – норманистами и антинорманистами – не прекращалась ожесточенная полемика. Немало внимания этому сюжету уделили и советские исследователи, стремящиеся осветить ход образования древнерусской народности и ее государственности с принципиально новых позиций. Они достигли несомненно значительных успехов. Еще в начале 30-х годов в пылу горячих дискуссий окончательную победу одержал взгляд на Древнюю Русь как на государство с развивающимися феодальными порядками, главным защитником которого являлся тогда академик Б. Д. Греков. Были выяснены многие другие вопросы исторической жизни Древней Руси, в том числе некоторые вопросы ее генезиса.
Советские историки, в частности археологи, убедительно показали, что древнерусская народность и ее государство были закономерным итогом распада у восточных славян первобытных форм производства и общежития. Процесс этот более интенсивно протекал на юге восточнославянских земель – в области Среднего Поднепровья, где обитало более передовое население, а историческая обстановка стимулировала процесс классообразования. Восточнославянское государство стало складываться здесь задолго (за одно-два столетия) до появления Рюриковичей в Киеве. Оно возникло в той части Среднего Поднепровья, которая называлась Русью. И еще долгие годы, вплоть до XII–XIII вв., только эта область носила наименование Русь или Русская земля. Лишь после того как важнейшие центры Древнерусского государства переместились из Поднепровья в далекое Залесье, в Галицко-Волынские земли и на Северо-Запад, особенно же начиная с времени татаро-монгольского нашествия, Русью стали называть всю территорию государства, а русским народом – все население, говорившее на русском языке.
Таковы общие черты исторической картины возникновения восточнославянской Руси, обоснованные письменными свидетельствами и археологическими данными. Вместе с тем неоднократные попытки конкретизировать эту картину, раскрыть все детали и обстоятельства процесса из-за недостатка фактических данных не выходят пока за рамки весьма туманных и противоречивых гипотез. Остается далеко не выясненным, кем являлись древнейшие русы и где находилась их исконная земля, какое место следует предоставить им на этногеографической карте «Повести временных лет», где их археологические памятники?
В работе «Происхождение названий „Русь“ и „Русская земля“», опубликованной в 1947 г., М. Н. Тихомиров суммировал и тщательно разобрал летописные и иные сведения, свидетельствующие о несостоятельности норманской теории происхождения Руси. Он высказался против популярной одно время компромиссной теории В. А. Брима о двойственном, южном и северном, происхождении Руси, а также против взглядов Л. С. Тивериадского, пытавшегося рассматривать русь не в качестве этнической или территориальной группировки, а в качестве господствующего класса в Древнерусском государстве. По мнению М. Н. Тихомирова, на страницах древнейших летописей, предшествующих составлению первого «норманистского» исторического произведения – «Повести временных лет», отчетливо видна старая традиция, решительно отделяющая Русь от варягов и помещающая ее в области Среднего Поднепровья, на Киевщине. Русь – это южное «племя»; «Русская земля» находилась у западных рубежей Хазарского каганата. Многочисленные свидетельства летописи доказывают, что вплоть до XII–XIII вв. ни Новгородские, ни Смоленские, ни Ростово-Суздальские, ни Галицко-Волынские земли Русью не назывались. За границами древнейшей Русской земли лежали области древлян, дулебов, радимичей, дреговичей и всех северных восточнославянских группировок. В представлениях людей того времени Русью являлась только Киевская земля, где обитали «поляне, яже ныне завомая Русь». «Название „Русь“– древнее прозвище Киевской земли, страны полян, известное уже в первой половине IX в., задолго до завоевания Киева северными князьями».[57]57
М. Н. Тихомиров. Происхождение названий «Русь» и «Русская земля». СЭ, В. VI–VII, 1947, стр. 60–80.
[Закрыть]Свою точку зрения М. Н. Тихомиров не считал оригинальной. Он отметил, что еще в середине XIX в. так мыслил А. Федотов. Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и некоторые другие старые историки-«антинорманисты» также полагали, что Русь – это прежде всего страна полян.
Подобные же соображения были высказаны по данному поводу М. Д. Приселковым и А. Н. Насоновым.[58]58
М. Д. Приселков. Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам. УЗЛГУ, в. 8, 1941; А. Н. Насонов. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, стр. 28–46.
[Закрыть] Они пришли к выводу, что первоначальное ядро Древнерусского государства – «Русская земля» – это область, лежащая вокруг трех городов – Киева, Чернигова и Переяславля-Русского. Раннефеодальная знать этой области, организовавшая государственный союз, властвовала не только у себя дома – в пределах древнейшей Русской земли, но путем завоеваний распространяла свое господство на другие земли: древлянские, северянские, вятичские, далекие новгородские и др., в том числе и на земли «иних языцей». Население покоренных Русью земель облагалось при этом данью, которая собиралась во время полюдья. Социальные верхи всех покоренных земель, не входивших первоначально в границы «Русской земли», ставились в вассальную зависимость, а в случае сопротивления уничтожались. Так, при Ольге были погублены «лучьшие мужи, иже держаху Деревьску землю».
А. Н. Насонов разделял отрицательное мнение М. Н. Тихомирова по поводу предположения, что русы – это господствующий слой древнерусского общества. Он указывал, что в источниках имеются упоминания как об «имовитых», так и о «неимовитых» русах. «Людьми русскими» называли все население, жившее в пределах «Русской земли». Что же касается вопроса об отношении этого населения к «племенам» «Повести временных лет», то его А. Н. Насонов был склонен решать несколько иначе, чем М. Н. Тихомиров. По мнению А. Н. Насонова, в пределах древнейшей Русской земли кроме полян обитали северяне или часть их, часть радимичей и, может быть, какая-то часть уличей на юге и вятичей на севере. Все это были «племена», оказавшиеся в конце I тыс. н. э. под властью Хазарского каганата, платящие хазарам дань. Этому обстоятельству А. Н. Насонов придавал большое значение. Когда силы хазар стали ослабевать, полагал он, в Среднем Поднепровье на основе связей, сложившихся в условиях борьбы с хазарами, возникло местное восточнославянское государство – «Русская земля» – со славянским каганом во главе. В ходе сложения этого государства борьба с Хазарским каганатом послужила, таким образом, как бы катализатором.
Наиболее полное освещение вопроса о русах и их древнейшей земле было дано в 1953 г. Б. А. Рыбаковым.[59]59
Б. А. Рыбаков. Древние русы. СА. XVII, 1953.
[Закрыть] Его выводы о границах области, называемой вплоть до XII–XIII вв. «Русской землей», сделанные на основании данных летописи, в основных чертах совпадают с границами, предложенными А. Н. Насоновым. Древнейшая Русская земля – это лесостепная часть Среднего Поднепровья, его сравнительно небольшой правобережный участок с городом Киевом и значительная область в Левобережье с Черниговым и Переяславлем. На основании всестороннего анализа летописных сведений Б. А. Рыбаков внес в эту картину ряд существенных уточнений, несколько расширяющих границы древнейшей Русской земли в «узком смысле». По его мнению, ее пределы, в представлении людей XI–XIII вв., достигали на севере Стародуба и Трубчевска, на северо-востоке – Курска, на западе – Белгорода и Юрьева. Кроме этих городов в границах «Русской земли» находились Вышгород, Василев, Треполь, города Поросья, Новгород-Северский, Остерский Городец и некоторые другие. Южные границы определить трудно. Киев, Чернигов и Переяславль-Русский являлись главными центрами древнейшей Руси. Ее «волостью», отношение которой к метрополии остается далеко не ясным, были, возможно, земли по Верхней Горыни (рис. 7).

Рис. 7. Границы древнейшей Русской земли. 1 – по А. Н. Насонову; 2 – по Б. А. Рыбакову.
В XI–XII вв. очерченную область называли Русью или «Русской землей» лишь по традиции, бывшей, однако, очень прочной, свидетельствующей о том, что «Русская земля» в «узком смысле» в свое время была понятием устойчивым и общеупотребительным. Реальная «Русская земля» существовала в течение последних столетий I тыс. н. э.
Б. А. Рыбаков полагал также, что свидетельства летописи позволяют выделить в составе «Русской земли» ее основную часть – «Русь внутри Руси». Это были, по его мнению, Киевщина и примыкающие к ней с юга земли по р. Роси – Поросье.
Выясняя вопрос о руси и пределах ее древнейшей земли, Б. А. Рыбаков обратился к среднеднепровским материалам третьей четверти I тыс. н. э., известным в литературе как «древности антов». Такое имя было присвоено им в 20-х годах А. А. Спицыным.[60]60
А. А. Спицын. Древности антов. Сб. статей в честь А. В. Соболевского, Л., 1928.
[Закрыть] «Древности антов» – это предметы убора и украшения из бронзы и серебра: пальчатые, антропоморфные и зооморфные фибулы, височные кольца, браслеты, подвески, поясные наборы и др., встречающиеся на территории лесостепного Среднего Поднепровья. Нередко они составляют клады, происходят из погребений; имеются находки отдельных вещей. Это предметы повторяющихся, вполне определенных типов, в том числе и таких, какие в других местах не встречаются. Их время А. А. Спицын определял VI–VII вв. Он справедливо отметил, что в комплексе эти древности заметно отличаются от того, чем характеризовалась в это время культура кочевников (аваров, аланов, болгар, хазар), и приближаются в некоторых отношениях к соответствующим древностям славянского средневековья. Отсюда, а также из локализации данных вещей в Среднем Поднепровье последовало предположение, что это древности славянские, антские.
За четверть века, отделяющую работу Б. А. Рыбакова от исследования А. А. Спицына, состав «древностей антов» пополнился новыми находками, в том числе несколькими богатыми кладами. Они еще определеннее обрисовали пределы бытования этого вида древностей. На правом берегу Днепра «древности антов», в частности ряд кладов, происходят главным образом из области бассейна двух днепровских притоков – Роси и Тясмина. В Левобережье они рассеяны по всей лесостепной полосе: по притокам Днепра южнее поречья Десны и Сейма, доходя на востоке до верховьев Северского Донца. Если сравнить область распространения этих древностей с картиной расселения антов, нарисованной древними авторами, то они далеко не совпадают. Древние авторы сообщают, что анты обитали на широких пространствах от Днестра до Днепра и далее к востоку. Область спицынских «древностей антов» могла быть не более чем северо-восточной окраиной антских земель. Совсем к другому результату приводит сопоставление археологической карты «древностей антов» с очерченными выше границами древнейшей Русской земли. Они в основных чертах совпадают. Особенно убедительным является их соответствие в Правобережье. Здесь, недалеко от Днепра и Роси, начиналась земля древлян, лежащая за пределами «Русской земли». На древлянской территории «древности антов» не были обнаружены. Можно указать лишь одно существенное отклонение археологической карты и карты «Русской земли»: «древности антов» почти не распространяются к северу от линии Нижняя Десна – Сейм, за пределами которой лежала значительная, но несомненно окраинная часть древнейшей Руси.
На основании сопоставления карт – археологической и исторической – Б. А. Рыбаковым был сделан вывод, что обрисованным выше вещам имя «древности антов» было присвоено ошибочно. Их владельцами были не анты, бушевавшие на Дунае и объединявшие восточные славянские племена на огромных пространствах, а лишь одна из групп восточного славянства – древние русы, и вещи эти следует называть не «древностями антов», а «древностями русов». В предварительной форме эта мысль была высказана Б. А. Рыбаковым еще в 1949 г. в статье, посвященной публикации Нового Суджанского клада.[61]61
Б. А. Рыбаков. Новый Суджанский клад антского времени. КС, в. XXVII, 1949, стр. 86.
[Закрыть]
Такому выводу вполне соответствуют соображения хронологического порядка. По имеющимся сейчас данным, древности, о которых здесь идет речь, относятся к значительному отрезку времени. Б. А. Рыбаков определяет его как V–VII вв., указывая, что большинство находок относится ко второй половине этого периода. Следовательно, только ранняя, сравнительно малочисленная группа древностей синхронична антскому времени (имя антов в последний раз упоминается под 602 г.), большинство же вещей принадлежит к последующему периоду – тем столетиям, к которым можно отнести древних русов – создателей первого восточнославянского государства на Днепре.
Со всем этим нельзя не согласиться. Более того, несомненно, что наиболее поздние категории «древностей русов» (бывших «древностей антов») относятся к началу VIII в., смыкаясь с древнерусскими средневековыми древностями, что еще теснее связывает их с русами и их древней землей.
Рассматривая «древности русов», Б. А. Рыбаков обратил внимание на то, что в их составе можно выделить четыре группы предметов. Первую составляют вещи нехарактерные, распространенные в это время повсюду на юге Восточной Европы, в частности и у кочевников. Это главным образом разнообразные бляшки, служившие украшением пояса, а также бусы из разноцветной пасты, изготовлявшиеся где-то на юге и распространявшиеся на широком пространстве путем торговли. Далее, среди «древностей русов» имеются вещи, находимые преимущественно в границах «Русской земли»: таковы прежде всего пальчатые фибулы, которых совсем нет в степи. Они свидетельствуют об определенном типе одежды, распространенном в то время среди оседлых племен, но незнакомом кочевникам. Третью группу составляют предметы, характерные в основном для западных частей «Русской земли» – Правобережья. Это зооморфные и антропоморфные фибулы и проволочные височные подвески, один конец которых образует плоскую спираль. Наконец, имеются вещи, встречающиеся только в восточных частях «Русской земли» – двухспиральные (очковидные) височные подвески и круглые медальоны.
На основании всего этого Б. А. Рыбаковым была высказана интересная гипотеза о племенном составе древнейшей Руси. Русы, предполагает он, жили тогда на Днепре между полянами и уличами. Их основная территория находилась в поречье двух правобережных днепровских притоков – Роси и Тясмина, там, где сосредоточена топонимика с корнями «рос» и «рус» (Рось, Росава, Ростовица, Русская Поляна между Днепром и Тясминым, Переяславль-Русский на левом берегу Днепра). Это и была «Русь внутри Руси».
Русам принадлежали древности с зооморфными и антропоморфными фибулами и односпиральными височными кольцами. Ими были зарыты в землю знаменитый Мартыновский клад, найденный на Роси, клад из с. Хацки, клад из с. Малый Ржавец и др. На вещах Мартыновского и Хацковского кладов имеются изображения тамги той же схемы, как известные «знаки Рюриковичей». Поселением русов было Пастырское городище в бассейне Тясмина, где найдено большое количество фибул, височных колец и других характерных предметов убора и украшений VII–VIII вв. Возможно, что древним центром русов был город Родня, находящийся около устья р. Роси, где также были сделаны соответствующие находки.
Восточнее русов, в глубинах лесостепного Левобережья, лежала область еще одного «племени», оставившего клады и другие находки, особенностью которых было наличие двухспиральных височных подвесок. По мнению Б. А. Рыбакова, эти украшения являются непосредственным генетическим предшественником северянских спиральных височных колец XI–XII вв. Здесь, на востоке Среднего Поднепровья, жили древние северяне – север.
Им принадлежали Новый Суджанский клад, клад из Новой Одессы, Колосковский клад и др.
Северными соседями древнейших русов были поляне. Граница между ними и русами, как предполагает Б. А. Рыбаков, проходила по водоразделу Роси и более северного правого притока Днепра – р. Красной. В земле полян, в частности на территории Киева, также известны находки вещей третьей четверти I тыс. н. э. типа «древностей русов». Но особенно характерными для древнейших полян в ранний период являлись, по Б. А. Рыбакову, вещи с эмалью северных типов. Такое предположение было высказано им впервые в 1947 г.[62]62
Б. А. Рыбаков. Поляне и северяне. СЭ, в. VI–VII, 1947, стр. 95—106.
[Закрыть] Территория полян определялась тогда несколько иначе, чем в работе «Древние русы». Она включала в свои границы и Поросье, и бассейн Тясмина. Русы и поляне выступали в работе 1947 г. недифференцированно («поляне-русь»). Теперь, в работе 1953 г., те и другие определились. Поляне и русы отличались друг от друга по предметам убора и украшениям, указывающим на различные связи. «Жители Киевщины, носители эмалевых фибул (поляне, – П. Т.), были связаны с землями радимичей, вятичей, кривичей и литовцев». Вещи из земли русов «свидетельствуют о постоянных связях со степью, с лежащими по ту сторону степи городами Причерноморья».[63]63
Б. А, Рыбаков. Древние русы, стр. 94–95.
[Закрыть]
Итак, русы, по Б. А. Рыбакову, – это первоначально одна из восточнославянских группировок, входивших, возможно, в антский союз племен. «Борьба с гуннами и аварами на всей южной границе славянства, а также начавшиеся в VI в. походы и передвижения славян в глубь Византии перекроили группировки славянских племен. В VI в. юго-западные антские племена были объединены в союз волынян, а на юго-востоке, там, где приходилось прежде всего встречать идущие из степей опасности, сложился союз племен, получивший имя Руси… В состав русского племенного союза несомненно входили сами русы (росы) и северяне (север)… возможно, что несколько позднее в русский союз вошли и киевские поляне… и днепровские уличи».[64]64
Там же, стр. 101.
[Закрыть] В недрах русского племенного союза мало-помалу складывались элементы государства– предшественника Киевской Руси. Вместе с тем этот союз послужил ядром, вокруг которого стала формироваться древнерусская народность.