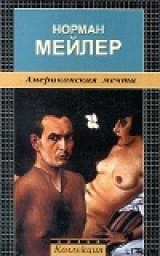
Текст книги "Американская мечта"
Автор книги: Норман Мейлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
– Я боялась, что не увижу тебя.
– С чего ты взяла? Я никуда не денусь.
– Не могу поверить во все это.
Она всегда разговаривала как взрослая. У нее было милое произношение, которое появляется у детей, воспитанных в монастырской школе, нечто бесплотное в ее голосе напоминало чеканную и почти беззвучную речь монахинь.
– Мама не хотела умирать.
– Не хотела.
Слезы прихлынули к глазам Деирдре, словно волны, залившие две ямки в песке.
– Никто по ней не горюет. Это так страшно. Даже дедушка совершенно спокоен.
– Спокоен?
– Чудовищно. – Она зарыдала. – Ох, Стив, мне так одиноко.
Она сказала это голосом безутешной вдовы, а затем поцеловала меня чистыми губами печали.
– Все просто в шоке, а для дедушки это самый страшный шок.
– Нет, это не шок. Я не знаю, что это такое.
– Он подавлен?
– Нет.
Горе унеслось из нее, как ветер. Теперь она была просто задумчива. Я вдруг понял, как сильно она потрясена и как расшатаны ее нервы: только кожа не давала ей рассыпаться, но нервы кричали из каждой поры. Один плакал, другой размышлял, третий тупо озирался по сторонам.
– Однажды, Стив, мы с мамочкой приехали сюда и застали дедушку в очень хорошем настроении. Он сказал: «Знаете, детки, давайте устроим праздник. Я заработал сегодня двадцать миллионов» – «Должно быть, это было страшно скучно», – сказала мамочка. «Нет, – ответил он, – на этот раз скучно не было, потому что мне пришлось здорово рисковать». Ну вот, сейчас он выглядит точно так же. – Она вздрогнула. – Мне невыносимо находиться тут. Я сочиняла стихотворение, когда утром мне сообщили об этом. Но внизу меня никто не ждал, только дедушкин лимузин с шофером. Она писала замечательные стихи.
– Ты помнишь стихотворение? – спросил я.
– Только последнюю строчку. «И хлебу раздай дураков». Такая вот строчка. – Она словно обнимала меня своим взглядом. – Мамочка ведь не хотела умирать.
– Мы уже говорили об этом.
– Стив, я ненавидела ее.
– С девочками такое бывает. Иногда они ненавидят своих матерей.
– Нет, все совсем не так! – Мое замечание явно обидело ее. – Я ненавидела ее за то, что она чудовищно к тебе относилась.
– Мы оба чудовищно относились друг к другу.
– Мамочка однажды сказала, что у тебя душа молодая, а у нее старая. И оттого все беды.
– А ты поняла, что она имела в виду?
– По-моему, она говорила о том, что живет на земле не впервые. Что она, быть может, жила во времена французской революции и в эпоху Возрождения, и даже была римской матроной, и смотрела, как мучают христиан. А у тебя душа молодая, сказала она, ты еще ни разу не жил на земле. Это было очень интересно, но она постоянно твердила, что ты трус.
– Наверно, так оно и есть.
– Нет. Просто люди с молодыми душами испытывают страх, потому что не знают, суждено ли им родиться на свет еще раз. – Она вздрогнула. – А теперь я боюсь мамочки. Пока она была жива, я ее все-таки немножко любила. Время от времени она бывала со мной добра, очень добра. Но все равно я ее страшно боялась. Когда она уехала от тебя, я сказала ей все, что об этом думала, – мы поскандалили. Она задрала сорочку и показала мне шрам на животе.
– Да, я знаю этот шрам.
– Жуткий шрам.
– Да, очень большой.
– Она сказала: «Это проклятое кесарево сечение сделали для того, чтобы ты, детка, могла появиться на свет. Так что не хнычь. Дети, рожденные таким образом, всегда причиняют много хлопот. Ну, а ты Деирдре, стала настоящей крысой». А я сказала: «У тебя на животе крест». Так оно и было, Стив. У нее там складка поперек живота и шрам кесарева сечения рассекает ее пополам. – Что-то вдруг остановило ее, грустное желание не говорить о таких вещах. – Стив, те несколько минут были сущим кошмаром. Мамочка повторяла снова и снова: «Мне очень жаль, Деирдре, но ты стала настоящей крысой». И я страшно обиделась, ведь она говорила правду – я похожа на крысу. Ты ведь знаешь мамочку, когда она что-то говорит о тебе, ты чувствуешь себя насекомым, насаженным на булавку. И никуда не спрятаться. Я знаю, что теперь всегда буду смотреть на себя ее глазами. Ох, Стив, и тогда я сказала ей: «Если я крыса, то ты жена Дракулы». Что было совершенно нелепо, потому что я имела в виду не тебя, а дедушку, и мамочка поняла, что я говорю именно о нем. Она замолчала и заплакала. Я никогда прежде не видела ее плачущей. Она сказала, что в нашей крови живут вампиры и святые. Потом сказала, что жить ей осталось совсем немного. Она была уверена в этом. А еще сказала, что по-настоящему любит тебя. Что ты единственная любовь ее жизни. И тут мы обе заплакали. Никогда раньше мы не бывали так близки с нею. Но она, конечно, все испортила. Она сказала: «Да, несмотря ни на что, он, в сущности, любовь всей моей жизни».
– Она так сказала?
– А я заявила ей, что она тварь. А она говорит: «Берегись тварей. В них есть качества, которые остаются живы еще три дня после того, как тварь умирает».
– Что?
– Это она так сказала, Стив.
– О, Господи!
– И сейчас у меня нет чувства, что она уже действительно мертва.
И тут над нами словно затворились какие-то ворота. Я огляделся по сторонам.
– Знаешь, детка, я просто сопьюсь и умру под забором.
– Ты не имеешь права. Обещай, что не станешь сегодня пить.
Это было невыполнимым требованием, после уже выпитого я не мог не пить. Но я кивнул.
– Великий грех нарушить обещание, – с серьезным видом сказала она.
– Капли в рот не возьму. А теперь пора спать.
Она улеглась послушно, как дитя. И снова стала ребенком.
– Стив, ты возьмешь меня к себе жить?
– Прямо сейчас?
– Да.
Я немного помолчал.
– Знаешь, Деирдре, с этим придется немного обождать.
– У тебя роман? Ты ее любишь?
Я заколебался. Но с Деирдре можно было говорить о чем угодно.
– Да.
– А как она выглядит?
– Она блондинка, очень красивая. С юмором и поет в ночных клубах.
– Поет? – Деирдре была очарована. – Стив, она поет в ночных клубах! Это чудо, найти такую девицу. – Она была просто потрясена. – Я хочу познакомиться с нею, Стив. Можно?
– Через пару месяцев. Понимаешь, у нас все началось только прошлой ночью.
Она мудро кивнула головкой.
– Смерть вызывает в людях желание заняться любовью.
– Замолчи.
– Стив, я не смогла бы жить с тобою. Я только сейчас это поняла.
Тучи печали сгустились до одной-единственной слезы, перетекшей из ее узкой груди в мою. Я снова любил Шерри.
– Благослови тебя Господь, детка, – сказал я и, к собственному удивлению, заплакал. Я плакал по Деборе, и Деирдре плакала вместе со мной.
– Пройдут годы, прежде чем удастся осознать все до конца, – сказала Деирдре и одарила меня детским слюнявым поцелуем в ухо. – «Чаши зачаты в печали». Это первая строчка стихотворения о хлебе и дураках.
– Спокойной ночи, малышка.
– Позвони мне завтра утром. – Она приподнялась на постели, охваченная внезапным приступом страха. – Нет, завтра похороны. Ты на них будешь?
– Не знаю.
– Дедушка просто взбесится.
– Послушай меня, детка. Едва ли я завтра буду в состоянии прийти на похороны. Я не стану пить всю ночь, но и на похоронах быть не обещаю.
Она откинулась на подушки и закрыла глаза, веки ее дрожали.
– Не думаю, что твоей матери хотелось бы, чтобы я был на похоронах. Мне кажется, она предпочла бы, чтобы я просто думал о ней. Так будет лучше.
– Ладно, Стив.
Я на этом и ушел.
Рута поджидала меня,
– Что, было очень скверно? – спросила она.
Я кивнул.
– А нечего было убивать мамочку.
Я ничего не ответил. Я был похож на боксера, пропустившего слишком много ударов. Я улыбался, но с нетерпением ждал конца раунда, чтобы принять стаканчик и выстоять следующий раунд.
– Послушайте, – прошептала Рута, – сейчас нам поговорить не удастся. Он уже вас заждался.
Мы вошли в гостиную. Там был Келли и старуха, которую я сразу узнал. У нее была репутация самой жуткой ведьмы на Ривьере, не более и не менее. Эдди Гануччи тоже был тут. Но в присутствии Келли оба они для меня не имели никакого значения. Он протянул ко мне руки и обнял крепким, весьма удивившим меня объятием, ибо никогда прежде не снисходил ни до чего, кроме рукопожатия, а сейчас он обнимал меня, словно в порыве истинного чувства. Иногда Дебора встречала меня точно так же, но такое случалось лишь когда я, припоздав, в одиночестве прибывал на вечеринку, а она была уже пьяна. Тогда она обнимала меня крепко и торжественно, ее тело замирало в объятии, словно она чувствовала себя виноватой в самых грязных изменах и теперь заглаживала вину, демонстрируя рабскую преданность. Но в глубине этого показного раболепия всегда таилась легкая насмешка, обнимая меня на глазах дюжины или даже сотни людей, она словно сулила мне союзничество, на которое при иных обстоятельствах я не мог бы рассчитывать. В редкие мгновения, когда ледяное предательство, чудившееся мне в наших совокуплениях, съеживалось до привкуса последней опустошенности, обладание Деборой становилось похоже на величественное шествие по дворцу, и каждое движение моей плоти было подобно шагу по красному бархату. Теперь я угодил как раз в такое объятие, я слышал, как бьется сердце Келли – подобно могучему источнику в пещере, – но тут – как в объятиях Деборы – я почувствовал намек на предательство, которое можно распознать лишь во сне, когда спишь один, окна закрыты, а листы бумаги сдувает ветром со стола. Под ароматом церемонности и сдержанности в Келли таился более глубинный запах, похожий на запах нечистого кота, напоминающий о случке, на запах мяса на крюке у мясника и еще некий душок ржави и йода морской водоросли, побелевшей на прибрежном песке. А еще тут был запах богатства, ароматы, таящие в себе скипидар ведьминого проклятия, вкус медяков во рту, привкус могилы. Все это напоминало мне о Деборе. – О Господи, Господи, – бормотал Келли. А потом вдруг оттолкнул меня ловким движением банкира, предлагающего вам первым войти в дверь. В глазах у него стояли слезы, от взгляда на них заслезились и мои глаза, ибо Келли был похож на Дебору, тот же широкий изогнутый рот, зеленые глаза с булавочными искорками света, – и во мне вдруг поднялась волна любви, которую я никогда не мог дать ей, и когда он отпустил меня, мне захотелось обнять его, словно его плоть сулила мне успокоение, словно то были мы с Деборой в один из редких случаев, когда после отчаянной схватки, доведшей нас до полного изнеможения, мы обнимались с некоей грустью, когда исчезало мое восприятие себя как мужчины и мужа, и ее как жены и женщины, и мы оба становились детьми в той сердечной печали, которая взывает к утешительному бальзаму и на мгновенье уравнивает между собой мужскую плоть и женскую. И потому, когда он отпустил меня, я чуть было не обнял его, ибо я чувствовал в нем скорее Дебору, чем его самого. Но тут я понял, что пребываю в том же состоянии, что и Деирдре, что нервы мои расшатаны, – и если то, что я ощущал, можно назвать горем, то оно вдруг взорвалось, как маленькая бомба. В следующую секунду я уже был холоден и бесчувствен, я ощутил настороженность по отношению к нему, так как он, стерев слезы с лица элегантным движением носового платка, вперил в мои глаза взгляд, пронзивший меня, как прожектор, и сразу все понял – если у него до сих пор еще и имелись какие-то сомнения, то сейчас они развеялись: он знал, что я убил Дебору.
– Ладно, – сказал он. – О, Господи, что за жуткий час для всех нас.
И я ощутил, как все его чувства сходят на нет. Я, точно бык, рванулся всей мощью на красную тряпку и вот обнаружил, что атаковал пустоту.
– Извините меня, – сказал он гостям.
– О чем речь, Освальд, – откликнулась дама. – Мне все равно давно пора уходить. Вам надо поговорить с зятем. Это так понятно.
– И не думайте об уходе, – ответил Келли. – Побудьте еще хоть немного. Давайте выпьем. – Он решил представить мне гостей. – С мистером Гануччи ты уже встречался, он рассказал, что вас столкнуло друг с другом. Какая странная история. А это наша Бесси – ты ведь ее тоже знаешь?
Я кивнул. Ее звали Консуэло Каррузерс фон Зегрейд-Трилаун, и она состояла в дальнем родстве с матерью Деборы. Когда-то слыла знаменитой красавицей – и по-прежнему была замечательно хороша собой. Великолепный профиль, сине-фиолетовые глаза, волосы цвета чего-то среднего между ртутью и бронзой, молочно-белая кожа и искорки земляничных румян на щеках. Правда, голос у нее был надтреснутый.
– Мы с Деборой были однажды у вас, – сказал я.
– Конечно. Я как раз рассказывала сегодня об этом Освальду. Освальд, если уж мне придется выпить, то плесни мне еще «Луи Трез».
Рута тут же встала и подошла к столу, чтобы приготовить ей напиток.
– С тех пор как мы виделись в последний раз, вы изменились к лучшему,
– сказала мне Бесс.
– В чем-то к лучшему, в чем-то к худшему, – ответил я.
Я пытался вспомнить одну историю про Бесс. В ее жизни был какой-то широко известный всем эпизод, какая-то скверная история, но сейчас я не мог вспомнить, в чем там было дело.
– О, не трудитесь занимать меня беседой, – сказала она.
– Коньяку за наше здоровье, – пробормотал Келли.
– Не хочу и слышать о коньяке, – сказала Бесс. – Я пью виски с тупицами, кока-колу с правнуками, а коньяк оставляю на самые жуткие часы.
– Перестань, Бесс, – сказал Келли.
– Нет уж. Поплачьте, поплачьте оба. Отрыдайтесь как следует. Вас покинуло самое изумительное создание в этом достославном мире. Что ж тут сдерживаться.
– Сущий персик, – прохрипел Гануччи.
– Слышали? – спросила Бесс. – Даже этот старый макаронник все понимает.
Келли на секунду обхватил голову руками, а потом снова поднял глаза. Он был крепким мужчиной, хорошего сложения, с чрезвычайно белой кожей, не бледной, а именно белой, точно пахта, в красную крапинку. Пожалуй, он был чуть полноват в талии, но очертания тела были столь плавными, что оно казалось великолепным постаментом для головы. А голова у него была большая с маленьким острым подбородком, курносым носом и высоким лбом. Поскольку он уже наполовину облысел, высота лба казалась равной расстоянию между подбородком и глазами. Порой он бывал похож на симпатичного малыша из тех, что в трехмесячном возрасте кажутся пятидесятилетними здоровяками. На самом деле ему было шестьдесят пять, и он был в превосходной физической форме, ибо обладал тем здоровым юмором, что царит в среде генералов, магнатов, политиков, адмиралов, издателей газет, президентов и премьер-министров. Он и в самом деле смахивал на одного из президентов и одного из премьер-министров, у него были две различные повадки – одна британская, другая американская, которые нужно было уметь различать.
Английская была веселой, стремительной, магнатообразной: он мог приказать вас зарезать, но при определенных обстоятельствах подмигнуть вам в момент исполнения приказа.
Американской была твердость его глаз – они становились то серыми, то зелеными, серыми они были, когда лицо его холодело, эти глаза могли купить вас, продать, умертвить, пройти мимо вашей вдовы, они глядели на вас в упор, они были по-ирландски грязными, они могли подсыпать грязного песку вам в бетон.
Тембр его голоса был богат, он играл на нем, как на музыкальном инструменте: мурлыкал и журчал весьма благожелательно. Лишь в самом конце высказывания вы постигали его уничижительный для вас смысл. Люди поговаривали, что Келли способен очаровать любого, кто ему понравится, – но я ему не нравился никогда.
– Выпей коньяку, Стивен, – сказал он.
– Я и так хорош.
– Ничего удивительного. Я тоже на взводе.
Наступило молчание. Келли жестом отослал Руту прочь от бара, сам подошел к нему, налил в большой бокал немного «Реми Мартина» и протянул мне. Его ноготь коснулся моего, оставив электрический заряд утраты, словно меня погладила по руке красавица, и я услышал обещание, что мне предстоит познать восхитительные тайны. Я взял бокал, но, помня слово, данное Деирдре, даже не пригубил. И снова возникла пауза. Я сидел с бокалом в руке, – молчание обволакивало все вокруг своей завесой, от блаженства, охватившего меня при разговоре с Деирдре, не осталось и следа.
– Знаете, мистер Келли, – заговорил Гануччи, голос его скрежетал, как кулак, скребущий по коре, – я начинал в нищете.
– Ну и что, я тоже, – ответил Келли, очнувшись от задумчивости.
– И я всегда чувствовал себя бедняком.
– О себе я, пожалуй, такого сказать не могу, – заметил Келли.
– Всегда чувствовал себя бедняком в одном отношении – я любил класс. Ваша дочь обладала классом, ну просто ангел. Она обращалась с тобой как с равным, вот в чем суть. Поэтому я и пришел сегодня принести вам мои соболезнования.
– Для меня большая честь видеть вас у себя, мистер Гануччи.
– Спасибо, вы очень любезны. Я знаю, что сегодня у вас побывало очень много народу, и вы, конечно, устали, но я пришел сказать вам одну вещь: может быть, в глазах некоторых я – большой человек. Но я себя не обманываю. Вы куда больше, чем я. Вы очень большой человек. И я пришел принести свои соболезнования. Я ваш друг. Я сделаю для вас что угодно.
– Дружочек, – вмешалась Бесс, – вы уже все сказали. Пора закругляться.
– Дорогая, – сказал Келли, – стоит ли сегодня так разговаривать с мистером Гануччи?
– Я вот-вот взорвусь, – сказала Бесс.
Зазвонил телефон. Рута взяла трубку.
– Это из Вашингтона, – сказала она Келли.
– Я подойду в другой комнате.
Как только Келли вышел, Гануччи сказал:
– Так я не разговариваю даже с желтолицым мальцом, который чистит мне ботинки.
– У него все в грядущем, – сказала Бесс.
– Вот именно, – ответил Гануччи, – а мы с вами уже мертвецы.
– Один из нас мертвее другого, дружочек. Одним шипы, другим розы.
– Нет. Мы с вами определенно мертвы.
– Одним шипы, другим розы, – повторила Бесс.
– Вы ведь знаете, что такое мертвецы. Они вроде бетона. Из вас получился бы неплохой участок Четвертой дороги в Нью-Джерси.
– Это та, что ведет к парку Текседо? – осведомилась Бесс.
– Именно та.
– Скверная дорога.
Гануччи закашлялся.
– И пожалуйста, не называйте меня макаронником.
– Но вы же действительно макаронник.
Вернулся Келли.
– Это был Кеннеди, – сказал он мне. – Он передает тебе свои соболезнования. Сказал, что это было для него страшным ударом и он понимает, в каком ты, наверно, состоянии. Я не знал, что ты с ним знаком.
– Мы встречались в Конгрессе.
– А, ну конечно.
– Собственно, я и с Деборой познакомился благодаря ему.
– Да-да, я теперь вспомнил. Помню даже, как она тогда рассказывала мне о тебе. Она сказала: «Следи-ка за мной получше, а то тут завелся один полужидок, от которого я без ума». А я ответил ей: «Валяй-валяй». В ту пору я был против Кеннеди. Конечно, я был не прав. Чертовски не прав. И я был не прав с Деборой. О, Господи, – внезапно голос его упал, точно зверь, в которого угодила пуля. – Извините меня, – сказал он и снова вышел.
– Ну, уж теперь-то нам определенно пора, – сказала Бесс.
– Не уходите, – сказала Рута. – Он рассердится, если не застанет вас, вернувшись.
– Ты, кажется, неплохо знаешь его? А, дорогуша?
Рута улыбнулась:
– Никто не может похвастаться тем, что хорошо знает мистера Келли.
– Глупости, – возразила Бесс. – Я знаю его как облупленного.
– Неужели, миссис Трилаун? – спросила Рута.
– Дорогуша, я была его первой великой любовью. Ему исполнилось всего двадцать четыре, но он уже был что надо. Тогда-то я и узнала его. Узнала как облупленного. Я тебе вот что скажу, дорогуша: он на тебе не женится.
– О-ля-ля.
– Будь умницей и поставь ему холодный компресс. И передай, что мне пришлось уйти.
Едва Рута вышла, Бесс обернулась ко мне:
– Будь начеку, малыш. Барней намерен растерзать тебя сегодня ночью.
– Барней Келли этим не занимается, – возразил Гануччи.
– Разумеется, мистер Гануччи. И вы тоже, уверена, этим не занимаетесь. Вы просто зарабатываете себе на хлеб с маслицем наркотиками, проституцией и похоронами макаронников в кипящем асфальте.
– Прекратите, – сказал Гануччи и закашлялся.
– Боитесь, небось, помереть? – осведомилась Бесс.
– Мертвецы, – сказал Гануччи, – это асфальт. Часть тротуара. И все.
– Ну, вам-то придется держать отчет. Вас отправят к нашему святому покровителю, и тот скажет: «Эдди Гануччи нет прощения. Подвесьте его на крюке».
Гануччи вздохнул. Его живот издал безутешный звук, нечто вроде бульканья в стиральной машине, когда там меняют воду.
– Я очень больной человек, – сказал он.
Увы, это было так. Мы молчали, Гануччи был в мрачнейшем настроении, от него веяло заразой, доносился треск асфальта, из которого безуспешно пытался выбраться замурованный туда червь жизни. Смерть уже коснулась его. Как в вопле птицы, схваченной ястребом, уже слышен стон агонии, издаваемый самой природой, так и Гануччи распространял вокруг себя эссенцию умирания, некий дух с древа смерти. Я знал, стоит к нему приблизиться, и почувствуешь исходящую от него вонь – нескончаемый запах гангрены и разложения. Мне захотелось выпить, мой язык, прижавшись к зубам, требовал алкоголя, словно только алкоголь мог бы смыть частицы, долетающие до меня изо рта Гануччи.
– Позвольте, я расскажу вам одну историю, – сказал Гануччи. – Как-то раз друзья подарили мне попугая. И научили его говорить. «Эдди Гануччи, – говорила эта птичка, – дерьмо. Эдди – дерьмо». А я отвечал: «Дружок, если не переменишь тему, это плохо для тебя кончится». А он говорил: «Гануччи – дерьмо, Эдди Гануччи – дерьмо». А я отвечал: «Продолжай в том же духе, и ты скоро сдохнешь». А он говорил: «Гануччи – дерьмо», – а потом заболел и умер. Очень грустная история.
Бесс достала носовой платок.
– Какая же тут вонища, – сказала она.
Я подошел к балконной двери, открыл ее и вышел на балкон. Он был довольно большой, футов тридцать в длину и двадцать в ширину, я прошел по нему из конца в конец и перегнулся через парапет – каменное ограждение дюймов сорок высотой, – дающий возможность поглядеть на улицу, на все тридцать, а то и более, этажей падения, парения и остановки, полета и падения, и вновь падения, это была целая вечность, простиравшаяся до сырого тротуара, и во мне вновь возникло желание, еще слабое, точно первое прикосновение смычка к струне в пустом зале. Луна продиралась сквозь рваные облака, и по лицу ее пробегали тени. Я знал, что чем дольше буду стоять у парапета, тем сильнее будет искушение, – свежий воздух кружил мне голову, как стихи. И вдруг у меня возникла мысль: «Если бы ты любил Шерри, ты бы прыгнул», представлявшая собой скорее аббревиатуру мысли более пространной
– она зачала от меня ребенка, и поэтому смерть, моя насильственная смерть, даст силы этому только что зачатому эмбриону, и я сам буду зачат вновь, свободный от своего прошлого. Желание броситься вниз было приятным, чистым и смелым, манящим, как все самое лучшее, что мне доводилось делать, но я все не мог решиться. Однако я чувствовал, что возвращение в гостиную будет равнозначно отказу от всего лучшего во мне, и я решил все же забраться на парапет, ибо мое желание логически приближало его исполнение, страх, которым было чревато это решение, не отпускал меня, меня била дрожь, как бывает в подростковом возрасте, когда вдруг понимаешь, что наконец-то дорвался до секса и сейчас все познаешь, – но какой я испытывал ужас! Я весь дрожал. Но тут я вдруг словно вступил в некое царство покоя, того покоя, который я обрел когда-то, карабкаясь вверх по склону итальянского холма, и я встал на кресло и шагнул на парапет. Он был в фут шириной – вполне достаточно, чтобы устоять, и я встал на него, ноги мои обмякли, я впустил в свою душу некую часть небес, некий прохладный свод над входом и ощутил покой, царящий там. «Бог есть», подумал я и хотел уже бросить взгляд вниз, в бездну, но оказался не готов к этому, ибо не был еще столько свят, – улица темнела безумным изгибом тротуаров – я отвернулся, глянул в глубь балкона, спрыгнуть туда было очень просто, и я чуть было не спрыгнул, но понял, что сходить с парапета сейчас преждевременно, желание броситься вниз от этого лишь усилится. «Но ведь и не обязательно прыгать, – сказал мне голос, – можно просто прогуляться по парапету». «Я не в силах сделать и шага», – сказал я. «И все же сделай шаг».
Я продвинул вперед ногу, медленно, дюйм за дюймом: обуреваемая противоположными желаниями, душа моя затрепетала, я взглянул вперед и обмер: я находился на самой середине, в пятнадцати футах от края балкона, в пятнадцати футах ходьбы по парапету шириной в один фут, а подо мной было тридцать этажей бездны. Дойдя до края, мне предстояло повернуть назад и пройти еще двадцать футов до того места, где парапет упирался в стену. Это было выше моих сил. И все же я сделал шаг, потом еще один. Возможно, я бы осилил и весь путь, но тут вдруг подул ветер, словно вихрь, которым обдает тебя проносящийся мимо грузовик, и я чуть не оступился: я был на волосок от падения, на волосок на бритвенном лезвии Шаго, и я соскочил на балкон и увидел у двери Келли.
– Заходи, – сказал он.
На лице его, освещенном светом из комнаты, не было и намека на то, что он видел меня на парапете, может, он и в самом деле не видел, может, он вышел на балкон мгновение спустя или в первый момент не разглядел меня в темноте, и все же он ухмылялся, уверенной и радостной ухмылкой человека, разгадавшего загадку. Когда мы входили в комнату, я ощутил исходящую от него силу, четкую, точно приказ. Он приказывал остальным уйти. Приказ, вольный, точно полет безумия, свет в комнате на секунду потускнел, а потом вспыхнул вновь.
– Да, – сказал Гануччи, – уже поздновато. Не угодно ли прокатиться на лифте? – спросил он у Бесс.
Лицо ее было похоже на маску, теряющую пудру и румяна, сквозь них проступала кость. Это длилось всего мгновение – некое видение того, какою она видела самое себя, – но война, похоже, была безнадежной.
– Да, пойдемте, – сказала она Гануччи.
Келли направился к двери, чтобы проводить их до лифта.
Оставшись наедине со мной, Рута занервничала. Должно быть, ей многое нужно было мне сказать, а времени не было. Я же вздохнул с облегчением. Три шага по парапету лишили меня сил, но усталость была приятной, словно я очнулся от глубокого сна. Конечно, несмотря на мои подвиги на парапете, меня не оставляло чувство неудовлетворенности от того, что я знал: дело не доведено до конца. Но, по крайней мере, сейчас я в комнате, Келли еще минуту-другую не будет, это была передышка, и Рута показалась мне чуть ли не старым другом. Впрочем, ее взгляд, резкий, как запах нашатырного спирта, разом вывел меня из спячки.
– Твоя двойная жизнь, судя по всему, закончилась, Рута.
– Очень жаль. Я люблю двойную жизнь.
– А тебе не было противно шпионить за Деборой?
– Вашу жену милой женщиной не назовешь. Все богатые девушки – свиньи. Но ведь я была не просто служанкой, вы знаете.
– Не знал, а следовало бы знать.
– Разумеется, у меня не было никакого официального поручения. Мне нужно было просто заниматься своей работой. Так хотел Барней, так я и делала. И присматривала за всем.
– За чем, например?
– Ну, за некоторыми занятиями вашей жены.
– Ты давно знакома с Келли?
– Несколько лет. Мы познакомились в Западном Берлине на премилой вечеринке. Не ревнуйте, пожалуйста.
– А теперь ты… – Я хотел было сказать: «стала премилой маленькой шпионкой».
– А теперь я никто. Просто помогаю мистеру Келли.
– Но Дебора водилась со шпионами. Она и вправду была шпионкой?
– Абсолютной дилетанткой.
– Ты ведь не думаешь, что я тебе поверил?
– У нее не было настоящего умения, – гордо заявила Рута.
– И тем не менее она стала причиной каких-то крупных неприятностей?
– Чудовищных неприятностей. Прошлой ночью, должно быть, никто не ложился спать в министерстве по всему миру. Жгли свет всю ночь. – Она говорила с наэлектризованным сладострастием в голосе. – Они-то и велели, чтобы вас оставили в покое. Ведь никто не мог бы сказать, много вы знаете или нет, расследование могло завести черт знает куда. – Она не смогла сдержать улыбки. – Но der Teufel – это вы сами, и вы знаете, чего хотите.
– Рута, но ты еще не рассказала мне главного.
– А если я расскажу, вы мне поможете кое в чем?
– Я попытаюсь ответить на твои вопросы в той же мере, в какой ты ответишь на мои.
– Это было бы неплохо.
– Чего добивалась Дебора?
– Этого не знает никто.
– То есть?
– Никто ничего не знает наверняка. Это ведь всегда бывает так. Мистер Роджек, чем больше вы узнаете, тем лучше поймете, что это всего лишь новые вопросы, а вовсе не ответы.
– И все же я хотел бы узнать, скажем, парочку фактов.
– Фактов? – Она пожала плечами. – Они вам и так известны.
– Мне известно лишь то, что у Деборы было трое любовников.
– А кто они, вы не знаете?
– Нет.
– Ну, ладно, я расскажу вам. Один из них американец, довольно значительная шишка.
– В правительстве?
– Давайте считать, что я не слышала вашего вопроса.
– А другой?
– А другой – атташе из советского посольства. Третий – англичанин, представитель одной шотландской фирмы, во время войны работал в британской разведке.
– И разумеется, работает до сих пор.
– Разумеется.
– И это все?
– Еще у нее были какие-то дела с человеком по имени Тони, он навещал ее раз-другой.
– Ей нравился Тони?
– Пожалуй, не слишком.
– Но чего же она все-таки добивалась?
– Если хотите знать мое мнение…
– Хочу.
– Она стремилась ошарашить собственного папашу. Она хотела, чтобы он сам пришел к ней и на коленях умолял прекратить этот любительский шпионаж, пока все влиятельные люди в мире не решили, что Барней Келли затеял что-то дурное или что он не в состоянии контролировать поведение собственной дочери.
– А что интересовало Дебору?
– Много чего. Очень много. Все и ничего в отдельности, можете мне поверить. Она собирала слухи и претендовала на важную роль. Если хотите услышать мое личное мнение, мне кажется, что это доставляло ей чисто сексуальное наслаждение. Одним женщинам нравятся жокеи, другим – лыжники, третьим – грубияны-поляки, а у Деборы была petite faiblesse[7]7
Маленькая слабость (фр.).
[Закрыть] к лучшим агентам мира. Впрочем, что бы это ни было, для ее отца все складывалось скверно. Он очень переживал.
– Ладно, Рута, спасибо, – сказал я.
Несмотря на приступы ревности, вызванные каждым из трех ее любовников, в сердцевине боли таилось легкое опьянение тем, что я наконец-то что-то узнал.
– Но я еще не задала своих вопросов, – заметила Рута.
– Что ж, задавай.
– Мистер Роджек, как вы думаете, почему я работаю на мистера Келли? На что я рассчитываю?
– Выйти за него замуж?
– А что, это бросается в глаза?
– Нет. Но я верю миссис Трилаун.
– Но все же мои намерения как-то просматриваются?
– В некоторой степени. Но, разумеется, ты очень умна.
– Очевидно, недостаточно умна, чтобы скрыть их. Вернее, умна и достаточно, но у меня нет достаточных козырей. Поэтому мне нужна поддержка.
– Поддержка помощника?
– Скажем, партнера, который руководил бы мною.
– Но, дорогая моя, Бесс права. Он не женится на тебе.








