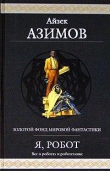Текст книги "Искуситель"
Автор книги: Норберт Винер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
1908 В середине июня я сел на борт "Айлендера" в радужном предвкушении новых служебных обязанностей, исполненный любопытства: какой-то покажется мне Европа после жизни в Америке? На борту я очутился задолго до появления первого пассажира, поскольку в мои обязанности входило присутствовать при загрузке трюмов и наблюдать за работой механизмов. С капитаном Драммондом я познакомился еще раньше, а кабинете Уильямса. Он мне очень понравился с первого же раза: грубовато-добродушный, бывалый мореход, умеющий держать склочных пассажиров на должной дистанции и в то же время снискать их уважение. Бедняга, в дни первой мировой войны ему суждено было пойти ко дну вместе с судном. Капитан лично отвел меня в предназначенную мне каюту. Каюта была пассажирская, одна из самых просторных на пароходе. Вообще-то рейс объявили сравнительно поздно, так как до последнего момента оставалось неясным, когда же судно выйдет из сухого дока. Капитан Драммонд сказал, что на борту едва наберется два-три десятка пассажиров, тогда как в это время года их обычно на судне не меньше сотни. Стремясь держаться поближе к судовым механикам и слышать все, даже случайно оброненные замечания о нашем оборудовании, я решил столковаться с ними, а не с пассажирами. Во время посадки пассажиров я как раз обедал внизу. Потом поднялся на палубу – посмотреть, как выбирают якорь и готовят судно к отплытию. Больше делать было все равно нечего, вот я и направился к своему шезлонгу. Капитан позаботился о том, чтобы его поставили под навесом на солнечной стороне. Бостонский маяк еще не скрылся за горизонтом, а я уже словно перенесся в Англию. Стюард, принесший мне чашку чая, был англичанином, мои товарищи-механики – шотландцами. На другой день я спустился в машинное отделение. Там капитан, его помощники, штурман и механики весьма квалифицированно раскритиковали нашу установку, забросав меня дельными, умело поставленными вопросами. Оказывается, наши новые механизмы покажут наилучшие результаты, если использовать их несколько по-иному, не так, как привыкли на этом судне. В общем, значительную часть плавания пришлось затратить на составление инструкций по эксплуатации оборудования. Таким образом, во время рейса я вовсе не сидел сложа руки. А плавание продолжалось долго, десять дней, поскольку "Айлендер" был, по сути, грузовым пароходом, и путешествовали на его борту те, кто роскоши и быстроте передвижения предпочитают мирный комфорт и покой. Но вот мы бросили якорь в Ливерпуле. До сих пор мои отношения с Англией оставались чисто литературными. Я прекрасно знал, что "промышленная революция" омрачила страну и лишила ее красоты, но все же не был подготовлен к увиденному: по мутной реке плывут старые деревянные ящики и всевозможный мусор – отходы жизнедеятельности кипучего порта; многие мили доков и причалов; сквозь туман маячат торговые склады и одно-два громадных административных здания. Когда я приблизился к туману, он, на расстоянии не лишенный живописности, распался на едкие клубы мягкой угольной копоти, покрывающей решительно асе. Повсюду тянулись улицы, улицы, улицы – жалкие кирпичные домишки, до омерзения похожие один на другой. Меня снабдили рекомендательными письмами кое к кому из ливерпульских судостроителей и корабельных инженеров-механиков. Следующие несколько дней я провел в Мерсее. Увидел там предприятия, широта и размах которых вопиюще не соответствовали старомодным и тесным помещениям их контор. Обойдя британские верфи и посетив два-три электротехнических завода, я решил воспользоваться рекомендациями Уильямса. Приехав в Портсмут на судостроительный завод и передал одно такое письмо сэру Сесилу Кийс-Дартфорду, отставному коммодору британского королевского флота, ныне видному военному кораблестроителю. Значительную часть своего времени он уделял на консультации различных судостроительных фирм, в том числе фирмы "Уильямс и Олбрайт". Коммодор ответил любезным приглашением заглянуть к нему в служебный кабинет. Это был грубовато-добродушный, живой человек с обветренным лицом и проницательными серыми глазами, поблескивающими над седой бородкой установленного образца. Он носил штатское, но его двубортный темно-синий костюм строго следовал покрою морской формы. В походке улавливался чуть приметный намек на моряцкую развалочку. Голос звучный, как и подобает офицеру, привыкшему командовать сквозь рев непогоды. Коммодор мило отозвался об Уильямсе и о различных судостроительных начинаниях, в которых они совместно участвовали. Вспомогательным электрооборудованием он заинтересовался не на шутку. – Между прочим, – сказал он, – век бы рад обсуждать с вами этот вопрос, но мне пора мчаться в Лондон. Сегодня вечером там состоится встреча общества "Руль и поршень". Не хотите ли составить мне компанию? Примерно раз в месяц собирается группа судостроителей, судовых офицеров и корабельных инженеров-механиков, чтобы обменяться профессиональными новостями. Сегодня юный Ирвинг Блок, четвертый инженер-механик с "Пенанг Лойер" Малайской торговой компании, расскажет об усовершенствованиях в электрическом рулевом механизме. Это ведь по вашей части. О Блоке мне известно немногое, но, ему, по-видимому, покровительствует старый ворчун Вудбери. Несмотря на свою еврейскую фамилию, Блок – отличный судовой механик из Глазго. Мальчик способный, но, боюсь, не слишком-то здравомыслящий. Встречи общества "Руль и поршень" происходили обычно в лекционном зале колледжа Доксайд в Ист-Энде. Технический колледж Доксайд представлял собой одни из многообразных компонентов рыхлого и аморфного целого, известного под названием "Лондонский университет"; главная цель колледжа заключалась в том, чтобы сделать техническое образование доступным для механиков, плавающих на океанских судах, и вообще для юношей, так или иначе связанных с судостроением. Общество "Руль и поршень" – это группа инженеров, судостроителей и судовых механиков. Оно возникло в тридцатых или сороковых годах прошлого века, когда лопастное колесо и пар под рабочим давлением десять фунтов на квадратный дюйм только-только начинали приходить на подмогу всемогущему, общепризнанному парусу, который оставался повелителем морей и, судя по всему, во веки веков не собирался сдавать позиции. Учебные аудитории всего мира похожи одна на другую: скамьи и пюпитры отполированы поколениями непочтительных студентов, штукатурка на стенах и грифель на досках выщерблены, всюду пахнет меловой пылью, на лекторской трибуне – наклонная кафедра для заметок, немытые окна смотрят на море крыш и дымоходов, общее впечатление свидетельствует о практической пользе и здравом смысле учебного заведения. Мы приехали несколько рановато: из членов общества собрались лишь немногие. Пока коммодор обменивался приветствиями с председательствующим, я успел осмотреть расставленные по полкам модели судовых механических устройств. В частности, была там модель старинного балансирного двигателя для парохода с лопастным колесом и деревянный макет (ручной работы) какого-то нового винта. На стенах висели всевозможные диаграммы, среди них, помнится, схема зависимости скорости парохода от тяги винта. Коммодор представил меня председательствующему – одному из преподавателей колледжа Доксайд. Поодиночке и по двое начали появляться члены общества "Руль и поршень", и я внимательно вглядывался во вновь прибывших. Среди них были судовые офицеры и механики, одетые в форму и, судя по всему, недавно высадившиеся на берег специально ради того, чтобы не пропустить встречи. Были несколько офицеров военно-морского флота. Кое-кто из одетых в штатское показались мне механиками высшей квалификации: их узловатые руки резко контрастировали с праздничными костюмами. – А вот и они – Вудбери и Блок, – сказал коммодор. Один из вошедших был пожилой, низкорослый, в поношенном костюме, словно с чужого плеча. Быстрота его движений свидетельствовала о нервной раздражительности. Взгляд беспокойно перебегал с одного лица на другое. Очевидно, он был глуховат, так как все время приставлял к уху сложенную чашечкой ладонь. Щетинистая седая бородка, хоть и короткая, была немножко всклокочена. Спутник его, худощавый смуглый юноша с тонким профилем, носил форму четвертого судового механика. Эти двое были увлечены беседой, причем Вудбери, казалось, натаскивал юношу перед докладом. – Старого буку Вудбери все знают, – продолжал коммодор, – Прямо заноза какая-то в теле нашего общества. Между прочим, мы прозвали его Букой, но по-настоящему его зовут Седрик. Когда-то он служил чертежником в фирме "Мэйтленд и Доджерс": это одна из фирм, при которых я состою консультантом. Потом он стал туг на ухо и вообще повел себя до того странно, что фирме пришлось с ним расстаться. На что он теперь живет неизвестно. Говорят, поселился у родственников в Кентиш-тауне, в дряхлом домишке. Непременный посетитель каждого собрания, во всех инженерных обществах, вечно представляет доклады, которых, кроме него самого, никто не в состоянии понять. Ему позволяет печататься кретин-редактор "Судомеханичсского журнала". Его сообщения кишат математическими выкладками его же собственной стряпни – такая математика никого еще к добру не приводила. Тем не менее, в глубине души я симпатизирую старому Буке. Он как никто другой приносит оживление в наши встречи. На слух не воспринимает и половины докладов, но во всем разбирается, ориентируясь на то, что пишется на доске. Уж за этим он следит крайне внимательно. Стоит кому-нибудь допустить даже самый незначительный промах, как старый Бука превращается в дьявола. Меня восхищает смелость, с которой он вступает со мной в споры. Тут председатель постучал по пюпитру, призывая присутствующих к порядку. После традиционных прелиминариев слово было предоставлено Блоку, который начал зачитывать свое сообщение. Оно посвящалось математике электрического рулевого двигателя, в частности, тому, при какой конструкции достигается максимальная эффективность управления. По неуверенным манерам Блока становилось понятно, что он впервые выступает с трибуны, и ряды специалистов, перед которыми он очутился, приводят его в замешательство. Глаза его то и дело обращались к глухому наставнику, а тот следил за каждым значком, выведенным на доске, и время от времени кивал головой в знак согласия. Постепенно, увлекшись, юноша приободрился. Стало ясно, что он всесторонне продумал свое сообщение. Но оно пестрило математическими формулами, и хотя Бука ими, казалось, упивался, формулы эти были выше разумения большинства, не исключая, увы, и меня. Когда Блок закончил свое сообщение, с места поднялся коммодор. – Я восхищен ученым докладом нашего юного друга, – сказал он, – но у меня, должен сознаться, есть серьезные сомнения по поводу того, много ли проку от этих формул. Я мореход-практик. Юность моя прошла под парусами в те дни, когда проблемы нам приходилось разрешать не сходя с места, а в таких условиях книжные познания не очень-то пригодились бы. Мы судили о человеке по тому, умеет ли он быстро сымпровизировать новую мачту взамен сломанной, не имея времени рассчитывать ее карандашом на бумаге. Так вот, рулевое управление кораблями – проблема практическая. На мой взгляд, все, чего можно потребовать от рулевого двигателя, – это чтобы он с максимальной точностью и мощностью придавал рулю заданное направление. От рулевого привода требуются сила, жесткость и прочность, все же остальное – от лукавого. Наш юный друг, несомненно, находит свою писанину страшно забавной и интересной, и я к его искусству не испытываю ничего, кроме уважения. Вот поживет он, наберется опыта – и, я уверен, оставит свои забавы с иероглифами на доске, поняв, что на судне они неуместны. Блок смутился и не находил слов для ответа. Но на его защиту выступил Бука. Он сказал: – По-видимому, наш доблестный друг не сознает, что положение коренным образом изменилось со времен Нельсона и парусных военных судов. Все правильно, болтовня не спасает от шторма, в искусстве мореплавания крайне важно бороться с трудностями по мере их возникновения и быть способным на импровизации, но, джентльмены, современные машины в непокорности и упрямстве не уступят никакому шторму. Вы должны изучить законы, которым они подчиняются, даже если, на вашу беду, за эти законы надо приниматься с помощью математических формул. Возьмем, например, рулевое управление. Это – нечто вроде контрольно-измерительного устройства. Оно – член прославленного семейства контрольно-измерительных устройств, которые, восходя к регулятору Уатта, регулируют скорость парового двигателя, не давая ему выходить из-под контроля. К сожалению, минуло три четверти века, прежде чем перспективы такого регулятора были полностью раскрыты. Исчерпывающее объяснение этого маленького устройства впервые дал в своей работе Кларк Максуэлл в 1868 году. Эта работа, джентльмены, изобилует формулами и тем, что мой доблестный друг называет иероглифами. В частности, Максуэлл разъяснил следующее: если в конструкции регулятора сделать упор только на максимальную силу и мощность, следуя добрым старым традициям британского военного флота, о которых с таким красноречием распространялся здесь наш доблестный друг, то регулятор пойдет вразнос, он разлетится вдребезги, джентльмены, и вдребезги разнесет регулируемую машину. Так вот, рулевое управление на судне весьма сродни регулятору и пусть Максуэлл не писал о рулевом управлении корабля, – все равно, сказанное им применимо и здесь. Таково одно из достоинств тех самых иероглифов, к которым мой доблестный друг испытывает столь неприкрытое моряцкое презрение. Они отвечают на многие вопросы, в том числе и на те, которых никто не задавал, когда эти иероглифы впервые были занесены на бумагу. Я непоколебимо убежден, что не одна авария – да-да даже не одно кораблекрушение – произошли за счет конструкции рулевого управления, конструкции в добром старом простецком британском духе, который нам навязывают как неотъемлемое наше право. Вспомните, как испытывали новый линкор "Жимнотус", который вышел из-под контроля и наскочил на датский лайнер "Целебес", за каковую проказу нам с вами, добрым британским налогоплательщикам, пришлось потерпеть в чужом пиру похмелье на сумму 80 000 Фунтов стерлингов. Отличный корабль "Жимнотус", проектировали его лучшие наши судостроители. Помнится, одним из них были вы, сэр Сесил. Коммодор беззлобно махнул руной в знак подтверждения. – Не знаю, кто именно конструировал рулевое управление, – продолжал Бука, – но конструкторы, отталкиваясь от новой отправной точки, неслыханно ограничили свободу движения и придали ему большую мощность, чем когда-либо делалось на кораблях этого класса. Однако ваша это конструкция или нет, вы ее, несомненно, одобрили, поскольку руководили постройкой всего судна. Вы ведь помните: во время испытаний на крутом повороте штурвал "Жимнотуса" внезапно начал рыскать и качаться, абсолютно выйдя из повиновения, и судно, проделав несколько миль в неуправляемом состоянии, врезалось в "Целебес". Если мне не изменяет память, сэр Сесил, вы сами опубликовали спецификации рулевого управления в "Корабельном инженере и судостроителе". Я имел сомнительное удовольствие изучить эти спецификации в свете теории Максуэлла и вычислить ожидаемые эксплуатационные качества корабля. Точность опубликованных вами данных подтверждается моими выводами. Корабль вел себя в точности так, как я и предсказал бы: жесткость рулевого управления не могла не привести к дорогостоящему бедствию. В свете всего этого, как мне думается, сэру Сеснлу будет труднее так безоговорочно клеймить математику и иероглифы, ему придется допустить вероятность того, что все же в работе мистера Блока есть какой-то смысл. Коммодор совсем не пришел в восторг от этих замечаний, но с обычным для него грубоватым благодушием умудрился пропустить их мимо ушей. Он посмотрел на часы. – К сожалению, я опаздываю в Адмиралтейство. Подвезти вас к отелю, Джеймс? Поблагодарив, я отказался. Мне хотелось получше приглядеться к Вудбери и выяснить, что он за птица. Вудбери как раз обменивался последними словами со своим младшим другом, который явно торопился на "Пенанг-Лойер". Я представился Буке. – Мне знакомы кое-какие ваши работы по механизмам управления, – сказал я. – Я давно надеялся, что мне представится случай побеседовать с автором. Не могли бы вы со мной поговорить? Вудбери как будто ничего не понял. Вспомнив о его глухоте, я повторил то же самое, но погромче. – Да, с удовольствием, – ответил старик. – А как бы вы отнеслись к чашке чаю? Здесь за углом – одна из чайных Лайонса. Кстати, вы, случайно, не тот самый Джеймс, который "магнитная прокладка Джеймса"? Я сознался, что работал в этой области. 0– Неплохое устройство, – сказал Вудбери. – Но вы, по-моему, не до конца исчерпали свою идею. Вот о проблемах контроля и регулировки у вас там представления довольно правильные. Однако вы ограничились только тем, что лежало на поверхности, вместо того, чтобы осмыслить всю работу в целом, с более общей точки зрения. Я согласился с Вудбери. У меня тоже мелькали подозрения, что мы еле-еле сияли верхний слой пенок. В чайной я заказал чашку того напитка, который у англичан именуется "кофе", а Вудбери взял себе лепешку и темный, густой, ядовитый чай. Я сказал: – Не слишком ли круто вы сейчас обошлись с коммодором? До меня доходили слухи о скандале при испытаниях "Жимнотуса", но я думал, что коммодора оправдали по суду. С тех пор мне хочется поподробнее узнать о фактической стороне той истории. – Действительно, суд его обелил, – сказал Вудбери, – и всю вину свалили на юного Паркинсона, который непосредственно разрабатывал узел рулевого управления. Беднягу Паркинсона это доконало. Может, там и есть его доля вины, но, как он сам мне говорил, ему хотелось сконструировать управление более жесткое, а коммодор и слышать об этом не желал. В конце концов, коммодор уговорил Паркинсона развить его, коммодорские идеи прочности и массивности. До того извел несчастного, что у того не хватило энергии отстоять свои собственные идеи. По отношению к коммодору, который пригрел его под своим крылышком, он вел себя вполне порядочно. Хоть коммодор, в общем-то, и старый болван, намерения у него были наилучшие (правда, добрые намерения не оправдывают воинствующей некомпетентности), и Паркинсон, которому так или иначе пришлось бы уйти со службы, не видел смысла в том, чтобы впутывать старого шефа в неприятности. – Примерно так мне и передавали, – сказал я, – но оставим этот занятный эпизод, отошедший в историю, и перейдем к нашим с вами делам. Мне бы хотелось побольше узнать об идеях, которые положены в основу сообщения Блока. – И мне бы тоже хотелось обсудить их с вами, – ответил Вудбери, – но здесь мы, сами видите, привлекаем чрезмерное внимание, ведь чайная неподходящее место для разговоров с глухим. Пойдемте-ка ко мне домой, там нас не будут отвлекать посторонние. Остановка омнибуса тут же за углом. Я с радостью принял приглашение, но предложил нанять кеб. Нас повезли по трущобам восточной части Лондона и кварталам жилых застроек, немногим менее унылым: на много миль тянулись совершенно одинаковые ряды одинаковых кирпичных домиков, ничем не отделенных от улицы; лишь изредка мелькали чахлые, жалкие садики. Я вспомнил гравюру Доре – длинные ряды таких домиков на склоне убогого холма, – достойно иллюстрирующую дантов ад. В доме, у двери которого Вудбери остановил кеб, ютилась жалкая кондитерская. Вудбери открыл дверь ключом. Раздался заунывный звон, и появился тучный, ничем не примечательный человек, которого Вудбери мне представил как своего брата Мэтью. Между братьями замечалось внешнее сходство, но в лице Мэтью начисто отсутствовало выражение бешено работающей мысли, придававшее яркую индивидуальность заурядному облику Буки. – Очень рад познакомиться, – Вудбери-лавочник произносил "р" заднеязычно, как водится на севере Англии; такое же произношение, хоть и гораздо слабее выраженное, можно было уловить и в речи его брата. Бука провел меня на второй этаж, в свою комнату (вернее коморку), обстановка которой состояла из походной койки, двух стульев с мягкой обивкой, явно приобретенных по случаю на распродаже, книжного шкафа, битком набитого техническими монографиями и журналами, да простого ломберного столика взамен письменного стола. Стены были обклеены аляповатыми обоями с рисунком из роз и фиалок. В книжном шкафу я обнаружил собрание работ Вудбери, вышедшее в нескольких томах в одном из известнейших издательств технической литературы. Я крайне заинтересовался. – Скажите, пожалуйста, где можно достать эти тома? – спросил я, – Я их искал-искал, из кожи вон лез, но мой поставщик книг уверяет, что это издание прекращено. – К сожалению, он прав, – сказал Вудбери. – Издатель не нашел для них сбыта. А на складе книги занимали слишком много места, вот он и сжег весь тираж, а набор рассыпал. Зато здесь неподалеку есть букинистическая лавка, где еще завалялись несколько экземпляров; там от них никак не могут избавиться. Если хотите, я вас познакомлю с букинистом. – Конечно, хочу, – ответил я. – Но прежде расскажите мне о том, что содержится в этих томах, – из ваших уст я бы воспринял с наслаждением. Мне кажется, впечатление будет куда глаже и ярче, если не просто читаешь книгу самостоятельно, произвольно толкуя текст, а слышишь его от самого автора, с правильно расставленными акцентами. Вудбери охотно согласился излагать свои излюбленные мысли, а я так и рвался послушать. Начал он с рассказа о своей концепции: контроль и управление – это беседа человека с машиной. Развивая свои идеи, Вудбери постепенно оживлялся. – Эта беседа не должна принимать форму монолога, – говорил он. – Человек не просто отдает машине приказы, и машина не слепо ему повинуется. Должен происходить диалог, в процессе которого машина знакомит оператора с трудностями поставленных перед нею задач и анализирует полученные приказы, чтобы выполнить эти задачи наилучшим образом. А наилучший образ укладывается в рамки четких математических определений. С энтузиазмом говорил Вудбери о языке, на котором следует вести такую беседу, о скрытом языке машин и о том, что многие инженеры склонны чрезмерно упрощать его при переводе. – На сегодняшний день инженеры-электрики лепечут, как грудные младенцы. Они умеют обращаться с сопротивлениями, даже с иидуктивностями, но ведь все эти штуки разговаривают очень уж детским языком. Если в такую аппаратуру ввести два сообщения одно за другим, то они так и останутся рядом и будут только плюсоваться друг с другом. А вот у парового двигателя, электрического генератора или электромотора язык неизмеримо сложнее, он подчиняется законам синтаксиса, и эти машины не просто повторяют различные веденные в них сообщения одно за другим. Разумеется, мы пока знаем лишь начатки их языка, еще не изучили даже грамматики, и вот над нею-то я сейчас работаю. Вудбери продолжал развивать свои мысли об этом языке и его прекрасной грамматике. Передо мною предстал новый технический мир: в том мире поняли принципы машин и их изысканного языка и овладели этими принципами; в том мире изобретение – не случайная удача мастерового в цехе, внезапно увидевшего, что две детали, соединяясь, образуют третью, а великое начинание, запланированное с самого начала и до конца, причем многообразные поставленные проблемы неизбежно ведут к стройному решению. Для этого необходимы два условия: арсенал элементов, более гибких, чем те, которыми располагает нынешний инженер, и система принципов конструирования, иначе говоря, техника как наука. Эту-то техническую науку обрисовывал в своих словах Вудбери, и мне стало ясно, что его концепции разумны и верны. Однако элементы, необходимые для того, чтобы эти идеи воплотились в жизнь, находились в ту пору в зачаточном состоянии. Элементы, которых требовали идеи Вудбери, можно было заменить различными устройствами, но для этого нужна была единая, всеобъемлющая программа, сделавшая бы их дешевыми и общедоступными. Боясь переутомить старика, я решил, что мне пора закругляться. Сквозь запахи тушеной баранины и капусты, а также интимные ароматы кое-как ведущегося домашнего хозяйства Вудбери повел меня к двери. Он проводил меня в окрестную букинистическую лавчонку, где я приобрел полное собрание его сочинений. Затем он усадил меня в кеб на стоянке. Нет, не зря я пошел к нему в гости.
Мне еще предстояли поездки по судостроительным и электротехническим заводам континентальной Европы. Я сел на пароход, идущий в Голландию. С первыми лучами солнца высадился на берег и впервые в жизни очутился в стране, где ни словечка не понимал из того, что говорилось вокруг. Первым в моем списке числился Роттердамский судостроительный завод. Программа визитов, надо сказать, была у меня напряженная. Зато тамошние коллеги, с одинаковой беглостью говорившие по-английски, немецки и французски, отнеслись ко мне с теплотой и пониманием. Из Нидерландов я направился в Рурский бассейн – этакую промышленную пустыню с оазисами угольных шахт, терриконов и сталелитейных заводов. Затем через Вильгельмсгавен, Бермен и Гамбург приехал в Киль. Там я окунулся в иную атмосферу: своеобразную смесь несколько педантичного интеллигентского отношения к технике с верой в историческое предназначение Германии, агрессивной уверенностью в том, что Германии как обладательнице лучшей техники предначертано мировое господство. Следующую после Германии остановку я сделал в Швейцарии. Меня удивило, до чего важную роль играет судостроительная техника в этой сухопутной стране. Швейцария не только производила судовые двигатели и судовое электрооборудование для сопредельных морских держав, но и сделала своей монополией конструирование и изготовление двигателей для озерных и речных судов, а также для барж, плавающих по Рейну. ...Обратному пути домой из Триеста был свойствен осенний привкус, столь отличный от духа освобождения и предвкушения, которым проникнута поездка в отпуск в Европу. Во время плавания я успел заново продумать сделанную работу. Много времени уделял я чтению и перечитыванию трудов Вудбери. Благодаря тому, что он снабдил меня ключом к своему строю мыслей, мне стали ясны многие положения, которые иначе от меня бы ускользнули. Литературный стиль Вудбери отличался резкостью и колкостью, как и следовало ожидать, судя по характеру старика. Эти труды с удовольствием прочел бы и непосвященный. Математическая мысль у него работала не строго научно, а скорее интуитивно, и значение многих формул я осилил лишь после того, как самостоятельно проделал долгие выкладки с карандашом и бумагой. Отношения с профессиональными математиками у Вудбери сложились натянутые. Профессиональные математики поносили его за недостаточно строгую научность изложения. Он, в свою очередь, клеймил их как узколобых формалистов, играющих в искусственно надуманную игру по произвольным правилам методологической корректности.
1909-1913 В Америку я вернулся, убежденный в том, что Вудбери открывает нам новую эру математической техники. Правда, я понимал, что до окончательного торжества его усилий далеко: пока ведь нет новых практичных устройств, невозможно реализовать его новые принципы. И даже с появлением таких устройств эти принципы не будут реализованы полностью, пока другие умы не научатся поспевать своею тяжелой поступью за безудержным полетом титанического воображения Вудбери. Я отчитался перед Уильямсом о результатах поездки и получил от него новые задания. Мой доклад он выслушал, со вниманием и интересом. Попутно вставил несколько метких реплик о людях, с которыми я встречался, и о том, как различие национальных мировоззрений проявляется в технике. Особенно заинтересовала его моя встреча с Вудбери и, в частности, то, как я оцениваю потенциальные возможности его работ. – Никогда не мог одолеть ни одной его статьи, – сказал Уильямс. Человеку, не подкованному в математике вроде меня, они недоступны. Но я неоднократно ломал голову над тем, нет ли там чего-то важного, такого, что рано или поздно нам пригодится. Весьма рад, что и вы придерживаетесь такого же мнения. Держите меня в курсе того, чем он занимается, и делитесь своими соображениями. Вы правы, а ближайшее время мы этого не сможем использовать. Но ведь мы, надеюсь, не сворачиваем своей деятельности. А чтобы не пришлось сворачивать деятельность фирмы, надо шагать в ногу с последними достижениями. Я решил поменьше распространяться о том, как провел отпуск. Наверное, Уильямс заметил этот пробел в рассказе, ибо в глазах у него сверкнул благожелательным, но ехидный огонек. Впрочем, на подробностях он не настаивал. – А теперь, когда вы рассказали о своих приключениях, выслушайте новости у меня их целая куча. Во-первых, я решил перебросить нашу контору в Нью-Йорк. Даже в лучшие свои времена Стейт-стрит была всего лишь придатком к Уолл-стрит. С каждым годом превосходство Нью-Йорка растет. А ведь "Уильямс и Олбрайт" становится крупной фирмой. С такого расстояния мы уже не сможем присматриваться к рынку, как делали прежде. Да и Салемские верфи не очень-то меня устраивают. Уж очень они тесны. Водоизмещение судов неуклонно растет, и для кораблей, которые мы собираемся строить и ремонтировать, гавань недостаточно глубока. Есть у Салема и еще более серьезный недостаток. Судостроение нуждается в постоянном притоке тяжелых грузов, доставляемых товарными составами. Так вот, мало того, что в Салеме для прибывающих составов слишком мало запасных путей, – поездам к тому же приходится делать крюк на Бостон, а там их задерживают на несколько дней. Откровенно говоря, я вообще не уверен, подходящее ли место для судостроения Новая Англия. Лично я охотно перебазировался бы в Чезапикский залив. Но Олбрайт мыслит иначе. Он считает нас новоанглийской фирмой и хочет, чтобы мы такими и остались. Я выбился из сил, пытаясь уговорить его перебраться куда-нибудь из Салема. Когда речь заходит о Чезапике, он просто-напросто упирается, как мул; я уж боюсь, как бы он не сорвал нам планов. Но теперь я и сам не рвусь в Чезапик. Мы завладели славненьким участком земли на полпути между Салемом и Наррангасетским заливом. Это снимает проблему круговых перевозок по периметру Бостона. Наш участок расположен вблизи глубоких вод, причем так, что углубить подход к ним будет не слишком трудно. Туда мы перебазируем судостроение, а заодно и значительную часть механических мастерских. Теперь перехожу к тому, что касается вас еще больше. До сих пор во всем, что относится к организационной стороне дела, мы работали по старинке. История нашей фирмы сводилась, в основном, к истории случайностей. Новые наши мероприятия требуют новой организации, достаточно современной и соответствующей нашему повысившемуся статусу. Реорганизацию надо проводить сейчас, не то пройдут годы, прежде чем еще раз сложится такая благоприятная ситуация. Как вы смотрите на то, чтобы дорасти до главного инженера фирмы? Нет-нет, на ближайшее время придется поставить над вами фиктивного главного, хотя мы еще и не нашли подходящего человека. Фактически же исполнять обязанности главного инженера будете вы. На ближайшее время придется подыскать на эту должность человека постарше; правление не утвердит вашей кандидатуры, поскольку вы чуть-чуть молоды. Но помните: когда ваш шеф выйдет в отставку по возрасту, руководящая должность за вами. – И все же это как-то несправедливо, – заметил я. – Уотмен здесь служит дольше меня. Он прекрасно справляется с обязанностями. Я не хочу шагать через голову коллеги. Уотмен – мой добрый друг. – Об Уотмене я подумывал, – ответил Уильямс. – Он превосходный инженер, не спорю, и я прослежу за тем, чтобы оклад у него был не меньше вашего. Меня в нем тревожит полное отсутствие делового чутья. В цехе ему, конечно, нет равных. Но нам нужен человек, разбирающийся в проблемах конкуренции. Надо полагать, в них разобрался бы и Уотмен, поставь он перед собой такую цель. Беда в том, что он не желает ставить перед собой такую цель. У вас же недюжинные деловые способности. Вы мыслите, как я. В интеллигентном человеке это просто поразительно. – Рад, что вы позаботитесь об Уотмене, – сказал я. – И все же мне это не нравится. Я должен с ним переговорить, прежде чем со спокойной душой принимать ваше предложение. – Я с ним об этом уже говорил, – сказал Уильямс. – Он нисколько не возражает. Наоборот, ему же лучше, он продолжает работать в фирме, оклад ему повысили, но теперь ничто не отвлекает его от лаборатории и цехов. Но согласен, лучше будет, если вы сами выясните с ним отношения. Между прочим, контору мы перебрасываем в Нью-Йорк весной. Я тут прикидывал, как вы устроитесь с жильем. Вы человек холостой и в обозримом будущем как будто не собираетесь жениться. Хотите жить в одном нью-йоркском клубе? Я состою членом клуба "Да Винчи". Он мне очень нравится. Это не клуб художников. Имя ему присвоено в честь другой стороны да Винчи, о которой мало кто осведомлен. Насколько я понимаю, старикан был по совместительству инженер, к тому же талантливый, хоть и примитивный. На днях я просматривал его блокноты. Текста мне не удалось разобрать (говорят, записи зашифрованы), но чертежи показались мне удивительно современными. Клуб "Да Винчи" состоит из инженеров и бизнесменов вроде меня, связанных с техникой. На той неделе поезжайте-ка вместе со мной в Нью-Йорк. Все равно вы мне там будете нужны применительно к моим новым планам. Заодно осмотрите клуб. Если он вам понравится, я проведу вас в члены. Он расположен совсем рядышком с тем участком, где будет наше новое административное здание, и по идее это как раз то, что вам нужно. Я поблагодарил Уильямса за доброту и за новое мое служебное положение. Ничего подобного я не ожидал, во всяком случае, в ближайшие годы. Упоенный успешностью поездки, счастьем отпуска и теперешним продвижением по службе, я от ликования ног под собой не чуял. Оставалось переговорить с Уотменом, удостовериться, что я не встал у него поперек дороги и что меня повысили с его согласия. Разговор прошел легче, чем я ожидал. Уотмен – добрейший и скромнейший малый из всех, кого я знаю. Вместо того чтобы позавидовать моему повышению, он растрогался тем, что из уважения к нему я отказывался от предложенной должности и, прежде чем соглашаться на нее, дал себе труд испросить его согласия. – Уильямс совершенно прав, – сказал он. – Я люблю цех и конструкторское бюро, контора же меня угнетает. Не нахожу никакого удовольствия в ситуации, когда кто-то норовит со мной разделаться, а я должен успеть с ним разделаться первый, иначе с меня сдерут шкуру заживо. Покер – игра не для меня. А вот ты, старый торгаш, – я ведь вижу, когда надо помериться смекалкой с другими, ты так и кидаешься в бой. Упиваешься этим, как солдат упивается зовом трубы и приказом "в атаку". Брось обо мне думать, Грегори. На эту должность Уильямс выбрал самого достойного. Я бы ее не принял, даже если бы подносили на серебряном блюдечке, а вот ты должен принять. Душевно рад твоему успеху. Всегда можешь рассчитывать на мою неизменную поддержку. На душе у меня полегчало. Я стал разбирать горы корреспонденции, скопившейся на столе в мое отсутствие. Мгновенно оказался по горло загружен работой: два-три патентных дела, составление доклада о новом заводе, который собирался купить Уильямс, несколько жалоб заказчиков, масса каталогов, циркуляров и рекламных объявлений. Во всю эту сутолоку я окунулся охотно и энергично. К тому времени вера в Уильямса дошла во мне до той черты, когда я бы без угрызений совести выполнил любое его задание. Когда я, чуть не захлебнувшись в скопившейся работе, все же вынырнул на поверхность, для меня окончательно прояснилось значение административных перемен, введенных Уильямсом. Новым главным инженером фирмы стал Картер Андерсон. Этот пятидесятилетний человек, много лет прослуживший в одной из крупнейших американских технических фирм, вызывал к себе бурный интерес, обусловленный множеством своих изобретений. Изобретения шумно рекламировались в печати, а Картер Андерсон мало-помалу превратился в национального героя. Прежний его наниматель считал его чем-то вроде дополнительной торговой марки в производстве и сбыте. Предложив ему баснословный оклад, мы закрепили за собой его услуги и славное имя, а также унаследовали от прежнего нанимателя почти весь престиж той фирмы. В жизни Картер Андерсон был щепетильным, педантичным коротышкой, далеко не таким внушительным, как Картер Андерсон легенды. Работалось с ним легко, и все десять лет, проведенные у нас, он служил превосходным щитом и заслоном для младших служащих, которые не могли сами высказаться с его авторитетностью. Андерсон был в фирме новой фигурой и привлекал к себе наибольший интерес общественности, но гораздо важнее для будущего фирмы оказался А. Р. Паттерсон, наш новый специалист по рекламе. Позднее мы, отдавая дань веянию времени, переименовали его должность в "начальника отдела общественных сношений", но этот этап настал еще не скоро. Паттерсон перешел к нам из рекламного агентства "Акме". Еще раньше он подвизался в качестве репортера в "Нью-Йорк патриот". Это был щуплый молодой человек с нетерпеливыми манерами, общительный до агрессивности. В нем поразительно уживались бывалость и наивность. Он досконально изучил все приемы рекламного искусства, все способы выдать солонину с капустой за натуральный английский бифштекс и все штампы, на которые охотно клюет публика. Пусть он не верил в сочиняемые им рекламные байки, зато свято верил в те штампы, глубже укоренившиеся, которые лежат в основе рекламы как таковой. Он верил в нерушимость конкуренции и частной инициативы, в массовое производство как способ довести недорогие товары до широких слоев населения и в искусственно формируемое мнение искушенного покупателя как лучший метод обеспечения сбыта, необходимого при массовом производстве. В повседневной жизни он повиновался предписаниям текущих реклам, словно сам не нюхал закулисной стороны и не ведал, как создается всякая реклама. Он всеми силами стремился курить те сигареты, есть самому и впихивать в детишек ту пищу, носить именно такие костюмы и шляпы, в каких джентльмены романтически элегантной наружности щеголяют на рекламных полосах. Новую нашу контору предстояло разместить на 4-й авеню в старинном особняке, который одиноко, словно корабль на мели, торчал посреди делового района: город буйно разрастался. Этот особняк мы полностью перестроили, стараясь достигнуть компромисса между несовместимыми вкусами Олбрайта и Уильямса. Снаружи мы почти ничего не меняли. Внушительное здание из бурого песчаника, с улицы каменные ступени высокой лестницы ведут туда, где прежде находились холл и парадная гостиная. То и другое мы объединили, превратив в приемную. Центральный кабинет оборудовали в бывшей задней гостиной. Лейтмотивом его отделки было ореховое дерево, тускло поблескивающее полировкой. Темно-красные драпри, скромные ореховые панели, широкий, покрытый стеклом письменный стол Уильямса – тоже из ореха. Насколько я помню, стол ничто не загромождало, кроме телефона, проволочной корзинки для бумаг, заполненной упорядоченными кипами входящих, да ониксового чернильного прибора (последний – чей-то подарок). Над столом повесили копию портрета первого Олбрайта – салемского купца, в дни федералистов основавшего фирму. Он стоял на фоне богатого парчового занавеса, в нанковых панталонах и рубашке с кружевными гофрированными манжетами, с подзорной трубой в руке и вглядывался в пейзаж – китайские пагоды и джонки. На заднем плане разгружалось одно из судов олбрайтова флота. Створные, до полу, окна кабинета выходили в бывшую оранжерею, ныне миниатюрный садик с несколькими деревьями в кадках, стиснутый брандвахтами соседних административных зданий. Возле этих окон, поодаль от письменного, водрузили длинный, тоже ореховый, стол для заседаний, окруженный деревянными креслами, каждое из которых было украшено фамильным гербом Олбрайта: фирма взяла его в качестве эмблемы. Остальные помещения на втором и третьем этажах заняли клерки и младшие администраторы вроде меня. Удобные комнаты, в них приятно работать, но отделаны и обставлены с сугубой практичностью. Кстати, фирма "Уильямс и Олбрайт" не отставала от времени еще в одном вопросе: о женщинах-сотрудницах. Женский персонал вовсе не был фирме в диковинку. Уже много лет назад рукописные бумаги, тщательно заполненные каллиграфическим и, как правило, мужским почерком, уступили место листам, сходящим с пишущих машинок того времени, – что греха таить, чрезвычайно громоздких. За машинками сидели молодые женщины с высокими прическами а-ля помпадур, в белых накрахмаленных блузках и черных мериносовых юбках. В ту пору женщин на работу брали далеко не всюду, в коммерческих учреждениях положение их еще не определилось. Они служили секретаршами у руководителей фирмы, и в целом их роль сводилась к роли служанок, а не нужных, хоть и подчиненных, членов рабочего делового коллектива. Уильямс опередил свое время, поняв, какую важную работу могут выполнять в конторе женщины в качестве личных доверенных секретарш, сотрудниц фирмы и даже ответственных администраторш. В верхних помещениях безостановочно цокотали пишущие машинки, взад-вперед сновали стайки молодых женщин. Что до личных секретарш, то руководящему составу он советовал подбирать компетентных молодых женщин, способных досконально изучить наше делопроизводство. Само собой разумеется, у Уильямса секретарши сменялись как перчатки. Наконец, он нашел такую, которая справлялась с работой и даже стала незаменимой. Звали ее Мэриен Сомерсет. Много лет подряд она была в курсе всех дел конторы и еще много лет после этого разделяла все жизненные интересы Уильямса, поскольку ей суждено было стать его второй женой. С тех пор она ничуть не изменилась, такая же тихая, застенчивая, компетентная, внимательная к другим, деликатная, но сразу превращается в тигрицу, стоит только кому-нибудь задеть Уильямса или его друзей. Мы с ней сразу подружились. Нас объединяли общее восхищение Уильямсом и беззаветная преданность ему. В том, что касалось его секретов, мисс Сомерсет была тверда, как скала, но все же ухитрялась держать меня в курсе общей атмосферы, общего положения вещей. Не кому иному, как ей, обязан я многими материалами своих мемуаров – теми материалами, с которыми мне не приходилось непосредственно соприкасаться по службе. С частью она познакомила меня тогда же, а с остальными – много позже, когда описываемые события отошли в прошлое и никто уже не страшился огласки. Наступил период новых назначений. Долгое время Сойер фактически возглавлял строительные работы на стапелях, не имея никаких официальных полномочий; теперь его сделали начальником отдела. С тех пор Паркер попал к нему в подчинение. Адамса официально назначили главным механиком. Этот долговязый сутулый блондин отличался практической сметкой опытного механика и знал решительно обо всем, что творится на заводе. Я неоднократно пользовался удобным случаем поговорить с ним, но ни разу не заметил и проблеска интереса к чему бы то ни было, выходящему за пределы его обязанностей. Уильямс повел меня обедать в клуб, как и обещал. Мне всегда импонирует клубная обстановка, клуб же "Да Винчи" особенно привлек меня. Мне понравилась атмосфера небрежного приятельства пополам со сдержанностью, при которой личные излияния не только не обязательны, а прямо-таки неуместны. Мне понравились вечерние партии в бридж, давшие мне возможность дружески общаться с прочими членами клуба и в то же время сохранить внутреннее одиночество. Я понял, что, предложив мне рекомендацию а члены клуба, Уильямс сделал за меня мудрый выбор. Его предложение я принял с сердечной признательностью. На другой же день он выдвинул мою кандидатуру. Она прошла, и я перебрался на новое жилье. Однако все свое время я не мог там проводить, поскольку у меня в Наррангасетском заливе было забот по горло: предстояло сперва развернуть там новые предприятия, а позднее ознакомиться с их работой. На заводе у меня был просторный, хоть и непритязательно обставленный кабинет, в смежной с ним комнате стояла для меня койка. Из-за моего неамериканского происхождения Уильямс с крайней готовностью посылал меня иногда в заграничные командировки. Светлыми пятнами в моих поездках были собеседования с Вудбери. К тому времени я освоился с идеями старика и без особых затруднений самостоятельно одолевал новые его статьи. А они появлялись в большом количестве, и это доказывало, что концепция проблемы управления у него беспрерывно развивается, а ее отдаленные последствия растут. Не стану утверждать, будто его статьи читались легко; легкость чтения так и не пришла, но, по крайней мере, я наталкивался только на те трудности, которые были неизбежно обусловлены самим предметом, а также своеобразным складом ума Вудбери и нестандартным путем самоучки, каким он продвигался к своим выводам. Вудбери всегда был личностью, иногда – чудаком, но обскурантистом – никогда. Узнав его получше, я понял и простил ему многие странности. Родился он на Тайне в семье рабочего-судостроителя, семье настолько бедной, что, хотя нормальным питанием там считали трехразовое, трижды в день им удавалось поесть лишь от случая к случаю. Братья у него были покрепче здоровьем, радовали отца энергичностью и ярко выраженным стремлением вырваться из своей среды в низшую прослойку среднего класса. Мать Вудбери умерла, когда он был еще мальчиком. Ребенок рос хилым, но обещал успешно бороться с обстоятельствами, которые складывались для него крайне неблагоприятно, да как будто и не испытывал особого желания побороть их. Должно быть, именно в детстве он перенес мастоидит (воспаление сосцевидного отростка), приведший его к глухоте. Все это я выведал у владельца Тайнсайдской верфи, у которого работала вся семья Вудбери и который сам любопытствовал о курьезном старом чудаке, занимающем столько времени на заседаниях и столько места в журналах. Когда Вудбери подрос, отец пристроил его было на работу клепальщиком. Силенок ему не хватало даже на день. Видимо, он не был пригоден ни к какому труду, кроме самого легкого, и в конце концов его взяли уборщиком в чертежную. Подметал он с усердием. По правде говоря (он сам мне рассказывал), его снедало любопытство, разжигаемое чертежами на кульманах да обрывками случайно подслушанных разговоров между чертежниками и конструкторами. Дважды сторож застигал его в тот миг, когда он раскрывал снятую с полки техническую книгу, и оба раза делал ему суровое внушение. Один из чертежников, расположенный к Вудбери, предостерег: – Берегись, как бы тебя опять не застукали, иначе выгонят. Но если ты действительно хочешь знать, что написано в этих книгах, то их ведь можно найти в городе, в Рабочем институте. И вот Вудбери стал часто посещать Рабочий институт, просматривать там книги по технике. Он столкнулся с множеством препятствий: целые страницы были написаны совершенно неведомым ему языком математики. Он даже не знал, что это и есть математика: в школе его обучали только начаткам арифметики, алгебра же осталась для него за семью печатями. В конце концов, собравшись с духом, он заговорил со своим покровителем-чертежником, спросил, что означают странные значки. Последний снял с полки несколько учебников алгебры, геометрии и тригонометрии и посоветовал Вудбери поискать такие же в Рабочем институте. Так состоялось знакомство Вудбери с математикой. Поначалу дело шло со скрипом, но постепенно он понял, что чудные закорючки все же имеют смысл и могут пригодиться инженеру. Вудбери приходилось не просто учиться, а в известном смысле самостоятельно "открывать" математику с самых азов. В результате он постиг глубины предмета, но подход и терминология остались у него свои, не так-то легко передаваемые другому. Тщедушным человечком, который на вопросы отвечал лишь после того, как их повторят дважды, и так мужественно искоренял в себе ограниченность, заинтересовались и прочие чертежники. Кончилось тем, что его зачислили самым младшим чертежником, положив такой оклад, чтобы он только-только ног не протянул с голоду. Новая работа пленяла Вудбери, и он прилежно выполнял все то, что имело к ней хоть какое-то отношение. Спустя несколько лет он начал посылать редакторам всевозможных научных журналов заметочки о своих наблюдениях, оформленные как письма в редакцию. Постепенно в узком кругу серьезных инженеров он приобрел известность как человек, чьи замечания зачастую оказываются дельными. Вскоре он стоял на верном пути к тому, чтобы превратиться в одну из мелких знаменитостей технического мира. И пусть благодаря этому он получил постоянную работу, все равно на ступенях лестницы, ведущей к преуспеянию, он так и не закрепился. Кому нужен чертежник, который, когда ему дают срочную работу, бессмысленно сидит да размышляет о теориях, лежащих в основе этой работы? Добро бы еще предлагал практичные, реальные усовершенствования, годные к немедленному внедрению! Но нет, хоть Вудбери так и сыпал идеями, идеи эти могли окончательно вызреть не ранее чем лет через пять. К тому же повышению по службе препятствовала растущая глухота. Тот, кто не хочет упускать удобного случая, должен знать каждую сплетню, улавливать каждую мелочь, каждую необычную интонацию. Глухота, ставшая помехой продвижению, замкнула Вудбери в самом себе и позволила всесторонне продумывать проблемы техники. Итак, способности Вудбери, принесшие ему какое-то подобие репутации в стороне от службы, на самой службе завели его в тупик. Даже чертежником он продержался недолго. Лет в тридцать пять, когда к большинству мужчин только-только приходит второе дыхание, Вудбери уволили. Во-первых, глухота его, прогрессируя, достигла такой стадии, что с ним трудно стало общаться; но мало того – на нем сильно сказывались вторичные последствия глухоты. По мере того как общаться с ним становилось все сложнее в физиологическом отношении, он наращивал в себе эмоциональную компенсацию, из-за чего общение еще пуще усложнялось в отношении психологическом. Он знал о своих зарытых в землю талантах и прозревал, что ему не суждено преуспеть в мире сем. И вот он нацелил себя не на то, чтобы завоевать репутацию человека, чего-то достигшего, а на то, чтобы по-настоящему чего-то достигнуть. В нем росли неуемная всепожирающая гордыня и решимость никогда не поступаться своею независимостью, невзирая ни на какие лишения. В нищете Вудбери родился, в нищете жил. Поистине и умереть ему было суждено в нищете. При своем образе жизни, которого он не выбирал, но с которым смирился, Вудбери нажил множество врагов, виной чему были его язвительный язык, язвительное перо и нежелание идти на компромиссы. Даже уважавшие его люди называли его чудаком и придурком. Правда, по малейшему поводу он хорохорился, как бойцовый петух. Правда, даже очень привязанным к нему людям (а таким, льщу себя надеждой, был я) он неразборчивой рукой наносил удары, и люди терпели. Но все же те, кто дали себе труд сойтись с ним покороче, под устрашающей оболочкой обнаруживали море чуткости, дружелюбия и ребяческого отсутствия эгоизма. Он вовсе не был персонажем рождественской пьески, не был милым старым джентльменом, отбрасывающим прочь заскорузлую личину ворчливости, за которой укрывался вплоть до последнего акта. Никогда не был Скруджем из первой части диккенсовской повести, он так и не стал Скруджем из второй части. Он весь щетинился, он критиковал всех и вся, он ненавидел сантименты и лживость их изъявления. Но зато любой безвестный юный коллега мог рассчитывать на столь же внимательное выслушивание и столь же критическое, но честное обсуждение, какими Вудбери удостоил бы, скажем, новоиспеченного лауреата Нобелевской премии. После такого собеседования с Вудбери (это я отлично знаю, ибо несколько раз присутствовал на обсуждении своих работ и выслушивал комментарии Вудбери, а также участников помоложе) появлялось ощущение, будто ты выскочил из адского пекла и окунулся в прозрачный, прохладный ручей. Бывало, посоветуешься с Вудбери относительно своих работ, и все неясные пункты, все смутно ощущаемые недочеты начинали сиять вовсю, как звезды в ясную зимнюю ночь. Вудбери заставлял меня осознать мои же идеи, хоть при этом и навязывал свое прозрение, критичность и дисциплинированность. Он проделывал большую часть работы, но никогда не притязал даже на ничтожную ее долю. Мне он щедро приписывал авторство на идеи, которые, возможно, и мелькали у меня в невразумительной форме, но по-настоящему я их не понимал. Более того, перед всяким похитителем идей, который, возможно, только и подстерегал удобного случая выкрасть и прикарманить одно из изобретений Вудбери, он был беззащитен. Не один раз публиковал Вудбери какую-нибудь заметку, которая, позаботься он только о том, чтобы защитить свой приоритет, послужила бы отличной основой для патента. Подобное безразличие к собственным интересам отчасти объяснялось, скорее всего, наивностью, отчасти же, безусловно, сознанием того, что внедрение этих идей – дело далекого будущего, и защищать их до тех пор, пока они не созреют, под силу только богачу. Вудбери был горд. Гордости его сопутствовали сознание своей высокой миссии и нежелание, чтобы его беспокоили по мелочам. Встречи с Вудбери были для меня интеллектуальным и духовным пиршеством. Верю, что они приносили радость и Вудбери, у которого близких было не много. В ту пору, как я надеюсь и верую, он считал меня настоящим другом. Часто задумывался я над тем, что подвигает Вудбери на научную работу. Как и всякий ученый творческого склада, работал он в основном потому, что не работать не мог. Бурлившие в нем идеи рвались наружу. Научные теории он развивал с той же естественностью, с какой рифмует поэт или щебечет птица. Однако на природу его самовыражения, на эмоциональную окраску деятельности влияло множество посторонних факторов. Врожденная вспыльчивость в сочетании с проницательностью направляла его стрелы туда, где они ранили больнее всего. Глухота, невзрачная внешность, ссоры с людьми преградили путь к карьере инженера. Скромное происхождение наглухо закрыло перед ним двери английских университетов, какими они были в то время. Естественным результатом ущемленности стала насущная потребность что-то делать и чего-то добиться, наперекор всем внешним силам проявить способности, которыми, как ему было известно, он одарен. Он родился в семье нонконформистов, получил нонконформистское воспитание, но с формальной религией порвал. Тем не менее зароненные в детскую душу искры нонконформистской праведности разожгли во взрослом Вудбери пламя неистовой принципиальности. В 1912 году Хелен проводила со мной последние свои каникулы. На Балканах уже вспыхнула война. Будущее Европы представлялось всем в мрачном свете. Хелен показалась мне постаревшей и изможденной, от прежней веселости и ясности уцелела только напускная оболочка. Что-то тяготило Хелен, но я так и не сумел выяснить, что же именно, да и не хотел усугублять ее настроение назойливыми расспросами. Ко мне она проявляла тоскливую нежность, не сравнимую с прежним ее отношением. При расставании вложила мне в руку запечатанный конверт.