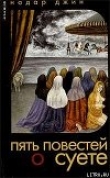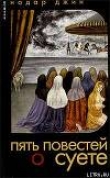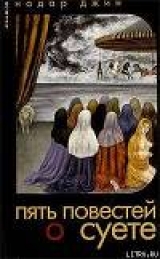
Текст книги "Повесть об исходе и суете"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
7. Олень наслаждался безразличием к жизни
– Завтра праздник, а мы ещё ничего не раздали… Пару коробок и три молитвенника, – пожаловался Шифман.
– Ничего не поделаешь: не берут! – ответил зоотехник и, повернувшись ко мне, добавил по-русски. – Им, тутошним, невдомёк, что нашего брата к Богу уже не затащишь.
– А зачем? – сказал я. – Из двух людей, которые не встречали Бога, ближе к Нему тот, кто к Нему не идёт.
– Наш брат Бога не отрицает: просто не знает что с Ним делать, – и перешёл на английский. – Шифман, я вспомнил ещё одну!
– Я собираю шутки о беженцах, – извинился Шифман.
– Прилетает, значит, он в Вену…
– Кто? – потребовал Шифман.
– Наш брат.
– Так и говори!
– Прилетает и заявляет, что в Израиль ехать не желает. В Америку? Нет. В Канаду? Нет. В Австралию? Тоже нет. Вот тебе глобус и выбирай – куда! Крутит наш брат глобус, рассматривает, а потом вздыхает: «А у вас нет другого глобуса?»
Шифман хихикнул, а мне стало грустно.
В шею и в грудь била на рытвинах маца – плотные квадратные коробки с бесхитростным рисунком египетского исхода: пустыня, пальма, пирамида и много кривых палочек, то есть обретающих свободу братьев.
Текст под картинкой гласил, что продукт изготовлен в бруклинской пекарне под наблюдением Рабби Соловейчика и что слово «маца» имеет два значения: «хлеб свободы» и «хлеб бедствия», из чего, дескать, следует, будто свобода обретается только через страдания, с которыми связан исход…
Шифман с зоотехником умолкли. В заднем окне, по обе стороны экспрессуэй, плыли опрятные домики, разноцветные церквушки и игривые кладбища, покрытые гладкой, как замша, травой и ласкающие глаз, как витрины кондитерских лавок.
На одном из кладбищ, у белого креста, стоял олень. То ли тихо думал о чем-то, то ли наслаждался безразличием к жизни.
– Нью-Йорк! – воскликнул хасид, и я обернулся.
В лобовое стекло, в просвет между коробками мацы и связками молитвенников, ворвался высокий слепящий сноп из фаллических конструкций. Я узнал Эмпайр Стэйт Билдинг, самый необрезанный из необрезанных небоскрёбов. Внутри у меня ёкнуло и наступила тишина. С каждым мгновением сноп разгорался ярче. Потом в ушах возник тревожный звон – как большая духовая музыка.
Когда интенсивность свечения достигла пугающей степени и мелькнула мысль, что всё вокруг может взорваться, стало вдруг тихо и темно: пикап юркнул в подземный тоннель, наполненный мягким шелестом шин. Как шум в репродукторе при музыкальном антракте.
– Нью-Йорк! – повторил хасид. – Труднейшее место для Бога!
Я подумал, что хасид прав: увиденное не оставляло Богу шанса на присутствие. Увиденное не оставляло и сомнения, что – в отличие от приписываемой Всевышнему сдержанности – человеческая дерзость не знает границ. Ещё больше удивляла догадка, что идея о сотворении увиденного могла придти в голову именно изгнаннику и беженцу, каковым по происхождению и является американец…
Пикап вынырнул из тоннеля, задохнулся ярким светом и пристал к тротуару.
– Здесь мы тебя высадим, – сказал Шифман и протянул мне визитку. – Звони, если надумаешь познакомиться с Ребе.
Я вышел, взглянул вверх и ощутил себя чужеземцем. Не верилось, что когда-нибудь смогу привыкнуть к этим зданиям и пройти мимо не задирая головы. Вспомнились забытые слова из петхаинского молитвенника:
«Что такое человек, Боже, за что чтишь его? Начало его прах, и конец прах, и он подобен хрупкому черепку, засыхающей траве, увядающему цветку, мелькающей тени, убегающему облаку, дуновению пыли, исчезающему сну».
Ни этим словам, ни какой-либо иной фразе, вложенной в уста Бога, никогда не удавалось внушить мне страх, что я есть не больше, чем человек. Слово не в силах стать ощущением. На это способен только образ, потому что глаз бесхитростней уха.
Страх за себя как за человека я ощутил впервые именно при виде нью-йоркских башен.
Опустив голову и оглядев нью-йоркцев, я подумал теперь, что хасид был неправ, считая этот город трудным для Бога: передо мной толкались обыкновенные люди – «мелькающие тени», запустившие в небо этот устрашающий сноп из металла и стекла. Именно тут, в Нью-Йорке, становилось очевидно, что ничтожное способно творить величественное благодаря силе, которую сообщает ему истинно Величественное.
Сперва в памяти вскочила фраза, в происхождении которой я не разобрался: "Есть люди, у которых всё не как у людей, а как в Вавилоне!" Потом пришло в голову другое сравнение: "Вот люди, которые – стоит вдруг Богу чихнуть – хлопнут Его по плечу и пожелают Ему здоровья!"
Особенно надменно смотрелись сновавшие мимо красотки, обдававшие меня жаром ярких красок и ароматом незнакомых духов. Я попытался заговорить с ними. Не столько по повсеместному праву зазываемого красками и запахами самца, сколько по мандату дорвавшегося до свободы человека. Отвечали мне не одним только молчанием. Не оборачивались даже.
Я мстил им как мстят недоступному: осознанием того, что оно мне не нужно.
8. Эрогенный центр торгующего мира
Затесавшись в толпу, я шагал в неизвестном направлении.
Все вокруг меня, казалось, торопились на вакханалию торговых сношений.
С двадцаткой в кармане я чувствовал себя неловко, но догадавшись, что презреннейшей формой инакомыслия считается тут отказ от приобретения вещей, рванулся в драгстор. Изо всего ненужного выбрал коробку презервативов с репродукцией плодородной рафаэлевской мадонны и её двух печальных отпрысков на крышке.
Вместе с коробкой мне всучили листовку, подписанную комитетом противников аборта. Комитет призывал патриотов рожать как можно чаще. На фоне непролазной уличной толпы этот призыв поразил меня непрактичностью. Разве что в его основе лежал прагматизм высшего порядка: чем больше людей – тем больше покупателей, а значит, тем меньше вещей на откуп Сатане.
Поединок с Сатаной, между тем, сулил нескончаемый праздник. Согласно рекламам, обступавшим меня со всех сторон и свисавшим даже с застывших меж небоскрёбами дирижаблей, обмен денег на вещи есть полезный эротический опыт. Да и сами вещи, любая из них, воплощали непристойные символы – от оголённых губных помад с заточенными головками до обнажённых кур, нанизанных гузками на острые шесты.
Мне стало ясно, что нахожусь я в эрогенном центре торгующего мира.
Откликнувшись на эту догадку, передо мной – посреди тротуара – возникла голая самка с месоморфической фигурой, прильнувшей в экстазе к собственным сиськам. Я не удивился, поскольку люди месоморфического строения – с грудною клеткой шире, чем бёдра – отличаются страстью к шокированию. Приблизившись к ней, я выяснил, что, вырезанная из фанеры, она выступила из фильма, который крутили в кинотеатре за её спиной.
У входа, в углублении под аркой, свисал на тросе телеэкран, демонстрировавший финальную сцену ленты. Вместе со мной из толпы вычленилась юная пара. Оба с эндоморфическими, грушевидными, фигурами, намекавшими на доверчивость натуры.
Поначалу мне показалось, будто история нагой месоморфички исполнена печали: облокотившись на зеркальную стойку в баре и уронив голову на кулаки, она рыдала взахлёб и содрогалась всем корпусом. При этом грудь её, растёкшаяся по стойке, не тряслась. Потом рыдания утихли и перешли в затяжные всхлипывания: слёзы бежали в тесную ложбинку между сиськами. У меня мелькнула знакомая мысль об уникальности кино при раскрытии трагизма бытия. Обнажённость героини и её бессловесность придавали сцене дополнительный смысл, ибо одежда и речь скрывают истинное состояние души.
Стоило, однако, камере отпрянуть с крупного плана к общему – стенания страдалицы обрели иное значение.
Стало очевидно, что мир её отнюдь не отвергал. Наоборот. Представленный мускулистым ковбоем с задумчивым лицом и приспущенными штанами, этот мир притирался животом к пышному заду месоморфички и хозяйственно держался за него жилистыми ручищами. Время от времени ковбой сгибался в дугу и резко распрямлялся, поправляя при этом шляпу на лбу.
После каждого рывка счастливица громко повизгивала, укрепляя меня в давнишнем подозрении, что суть вещей непостижима, пока не взглянешь на них издалека.
Вскоре ковбой начал постигать нечто очень заветное и поэтому задвигался быстрее. Когда камера вернулась к крупному плану счастливицы, она вопила благим матом и тряслась, как в предсмертной агонии. Потом, на фоне заключительных титров, степенно, но бессмысленно качнулся на экране задохнувшийся от переживаний палач – натруженный половой отросток столь же бессмысленно глазевшего теперь на зрителя ковбоя…
Возмутившись, я отвернулся и заметил, что эндоморфический юноша рядом со мной среагировал на сцену иначе. Лениво пожёвывая резинку, он держал на своём плече каштановую головку эндоморфической спутницы и указательным пальцем, который тоже показался мне натруженным, дырявил ей в волосах игривые кудряшки.
После титров на экране появился ухоженный мужчина в пенсне. Он сообщил, что в киоск при кинотеатре поступили в продажу новые видеофильмы: самоучитель групповой мастурбации и каталог приборов для повышения сексуальной раздражимости. Помимо вибраторов, питавшихся световой энергией, эпизод из каталога эрогенной механики включал в себя двухдверную модель «Мерседеса» с откидной крышей и двухместную яхту бирюзового цвета.
Когда яхта на экране стала властно подминать аппетитно заснятую толщу воды, эндоморфичка рядом со мной взволновалась. «Ой!» – пискнула она и, задрав голову вверх, вцепилась дрожащими губами в напрягшуюся шею друга. Забеспокоился и друг, принявшийся потуже накручивать на выпрямленный палец каштановую кудряшку.
Вернувшись из-под арки в толпу, я уже ощущал себя участником широкого блядохода.
Уткнувшись глазами вниз, перебирал ногами в такт мелькавшим передо мной мужским штиблетам, женским каблукам и бисексуальным сникерсам. Решил следовать за темносиреневыми «шпильками» из замшевой кожи. Был знаком с ними по рекламным щитам на автобусах.
Итальянские туфли из гардероба ”Бандолино“, продаются в магазинах ”Мейсис“: «Актуальность и изящество, символ властного присутствия и ненавязчивой изощрённости, ничто другое не сопрягает богатство традиции с бегом времени, 145 долларов».
Бледносиреневые чулки в белую крапинку – «Трикотажная мастерская Фогал, Швейцария, в магазинах ”Лорд энд Тейлор“, только для ваших ножек, нежность прикосновения и мудрость контроля, 80 долларов».
Белоснежная миниюбка из габардина – ”Платья Энни Клайн“ в магазинах ”Леонард“, «триумф счастливого союза между чувственностью и деловитостью: убедительность шёпота, 210 долларов».
Тёмносиреневый портфель из замшевой кожи фирмы ”Бэл-Эйр“, 110 долларов.
Позолоченные ручные часы с бледносиреневым ремешком фирмы ”Жюль Юргенсен“, 165 долларов.
Сиреневая косынка из шёлкового шифона фирмы ”Саньо“: «исключительно в магазинах ”Кашмир-Кашмир“, 35 долларов».
Наконец – ”Дама Цезаря“. Духи, смутившие меня ароматом порочности в том самом драгсторе, где я купил презервативы: «Карнавал в окружении сиреневых веток, персидских пряностей и сандаловых деревьев; самое надёжное оружие в бесшумной войне полов; фирма ”Ив-Сан-Лорен“, 165 долларов за унцию».
Итого, 885 долларов. Не считая запаха.
Кто такая? Что за «Дама Цезаря»? И почему так много сирени?
Хотя я следовал за дамой с бездумностью отставного следопыта, что-то в ней настораживало. Меня всегда угнетала эта форма женской ноги – тонкая голень с неожиданно крупным мышечным бугром посередине: змея, заглотившая то ли апельсин, то ли страусово яйцо.
Но сейчас на илистом дне памяти шевельнулось ощущение, давно покрытое плесенью и неразличимое под толщей воды. Шевельнувшись, оно стало всплывать к свету – тем быстрее, чем ближе я подступал к женщине и чем отчётливей слышал запах сирени.
Когда я подошёл к ней почти вплотную, всё развиднелось: в мутных водах моей памяти застрявшие в змеях апельсины или страусовы яйца принадлежали, как выяснилось, жирной тридцатилетней персиянке по имени Сильва. Она душилась дешёвым одеколоном ”Белая сирень“ и много лет назад лишила меня девственности на туше издыхавшего быка.
9. Грех не в заклании
В самом начале зимы много лет назад в петхаинскую скотобойню пригнали небывало много быков. В отличие от коров их решено было забить на мясо из-за нехватки корма для всей скотины.
Днём в нашем квартале, где располагалась скотобойня, стоял истошный рёв закалываемых животных, а вечерами по улицам и дворам всего Петхаина расползался сладкий запах палёной бычьей плоти. Впервые на моём веку петхаинцы кутили без внешнего повода: новогодний праздник уже миновал, а до других было не близко.
Из-за отсутствия повода петхаинцы кутили особенно остервенело, хмелея не столько от вина, сколько от огромного избытка мяса, из-за чего выражение лиц у них стало ещё более глухим и диким. Я удивлялся, что люди, нажравшись шашлыков, горланят меланхолические песни о любви и что пожирание живности может так искренне радовать человека.
Мой дед Меир, бывший не только раввином, но и резником, – чего, кстати, отец, прокурор и вегетарианец Яков, очень стеснялся, – заметил по поводу моего удивления, что Бог ждёт от человека не святости, а понимания. То есть – не отказа от убиения живности, но сострадания к ней при убиении.
Только евреи, твердил он, умерщвляют с пониманием. Сострадальчески.
Я рассмеялся.
Тою же ночью – в ответ на мой смех – дед забрал меня с собой на бойню, где ему предстояло умертвить очередного быка к свадьбе, поначалу намеченной на конец весны, но теперь наспех приуроченной к завозу дешёвой скотины.
По дороге он объяснил, что иноверцы закалывают её остроконечным ножом. Метят в сердце, но, промахиваясь, бьют повторно.
Беда, однако, в другом. Если даже удар и приходится в цель с первого же раза, скотина умирает, мол, медленно и пребывает в полном сознании свершающегося над ней насилия. В этом, собственно, и заключается грех. Не в заклании, а в осознании скотиной акта насилия над ней.
Вдобавок, сказал дед, нож, врываясь в плоть, разрывает, а не рассекает мышцы, тогда как при выходе из раны кромсает живую ткань и доставляет жертве оскорбительную боль…
10. Сплетен я из плоти зыбкой
Бойня, служившая в войну госпиталем, представляла собой длинный ангар, разбитый на отсеки.
В переднем, утопая в земле, стояли огромные весы, придавленные грудой разделанных туш. В следующем стоял мерзкий кисло-сладкий запах неостывшего мяса и нечистот. Несмотря на поздний час, этот отсек оказался забит множеством молчаливых и небритых мужиков. Не глядя друг на друга, они – по двое у каждой вздёрнутой на крюк туши – с наслаждением орудовали топорами и колунами. В паузах между доносившимися из дальнего отсека отчаянными криками скотины слышались близкие, но глухие звуки ударов металла по кости и треск сдираемой шкуры.
Дед протащил меня за руку ещё через несколько отсеков и, наконец, пнув ногою дверь, ввёл в крохотное помещение, в собственно бойню, освещенную тусклым красным светом заляпанной кровью лампочки на низком шнуре.
Стоял густой солёный смрад. Как в зверинце.
Стены были вымазаны темно-серой известью, а на полу, в середине, зияла овальная ямка для стока крови.
Под потолком, выкрашенным в неожиданный, серебристо-бирюзовый, цвет, в дальнем углу, свисал с гвоздя забрызганный кровью репродуктор довоенных времён:
Этот стих неисчерпаем, потому что он – душа.
Речь поэта стоит много, – жизнь не стоит ни гроша.
Что захочет – то услышит в этой речи человек:
Потому я за стихами коротаю этот век.
Сплетен я из плоти зыбкой, грешен я и уязвим;
Лишь в стихах я – отблеск Божий: негасим, неуловим…
– Иэтим Гурджи! – кивнул дед в сторону репродуктора и, раскрыв кожаную сумку, вытащил из неё плоскую деревянную коробку, в которой хранил ножи.
Под репродуктором спиной к нам стояла грузная женщина с высокими тонкими голенями и неправдоподобно круглыми икрами. Плечи, как крылья огромной птицы, были заправлены вперёд – от спины к грудям.
– Иэтим? Поэт? – спросил я, наблюдая как, откинув крышку коробки, дед бережно взялся за рукоятку ножа и поднёс его к глазам.
– Нет, он не поэт: поэты выбирают слова, а потом записывают на бумагу. Иэтим этого не делал, он был занятый человек. Перс. Сирота и бродяга… Он ничего не писал – только разговаривал в рифму, – и, проведя ногтём большого пальца по острию ножа, дед добавил: – Персы очень чувствительный народ. Скажи что-нибудь, Сильва!
Сильва ничего не сказала, но обернулась. Лицо у неё оказалось круглое, с влажными печальными глазами, а в белках покачивались и пульсировали очень тёмные зрачки.
– Я обещал: всё у тебя уладится, ей-богу! – сказал ей дед. – Ты пока молодая; найдёшь себе другого человека или подождёшь пока твой Бакри отсидит своё, а потом снова заживёте с ним, понимаешь? Вы оба молодые, у вас ещё впереди тридцать лет сплошной жизни, слышишь? Вытри-ка лучше слёзы и гони быка! Тебе в эти дни полезнее заниматься делом, а не слушать грустные стихи, слышишь? Подожди, пройдёт время и будешь счастливая!
– Я – не из-за стихов, – ответила Сильва глядя в сторону. – Я плачу потому, что я на жизнь злая… – и всхлипнула. – «Подожди»… А как ждать, если приходится жить? Я не еврейка, мне ждать некогда…
– Вытри, говорю, слёзы! – буркнул дед.
Она кивнула, вытащила из резинового передника платок и приложила его к растёкшейся под глазами сурьме.
– Тоже персиянка, – шепнул мне дед. – И тоже сирота, как этот Иэтим. В Персии у неё много родни, но её туда не пускают. А вчера вот… У неё есть жених, – бухарский еврей, Галибов фамилия, – и вчера ему дали десять лет.
– А за что? – пожалел я её с женихом, потому что, действительно, люди живут каждое мгновение, и ждать счастья ни у кого нет времени. – Почему так много – десять лет?
– Долгая история, – отмахнулся дед. – Я рассказал твоему отцу, и он говорит: в России дали бы больше!
– Меир! – воскликнула Сильва и направилась к нам.
Меня удивило не столько её фамильярное обращение к деду, кого даже бабушка величала всегда «раввином», сколько внезапное преображение персиянки. Плечи выпрямились, а в глазах вместо печали стояла теперь какая-то испугавшая меня мысль.
– Меир! – повторила она и, подойдя ко мне вплотную, опустила на шею прохладную ладонь. Ладонь пахла сиренью, – запахом, не соответствовавшим ни облику её, ни окружению. – Что за мальчик?
– Я не мальчик! – вставил я, не убирая её руки.
– Это мой внук, – снова буркнул дед, копаясь в сумке. – Хочет посмотреть как режут евреи…
– А ты похож на перса: очень гладкий, – сказала мне Сильва и притянула мою голову к кожаному переднику на просторной груди, от которой, однако, несло не сиренью, а кровью.
– Куда девался точильный камень? – спросил её дед.
– Вернула Сурену.
– Сбегаешь?
– Сам пойдёшь! – велела женщина.
К моему изумлению, дед покорно кивнул головой и удалился, передав нож Сильве.
Не отпуская меня от себя, она занесла нож мне за спину и, притянув ближе к себе моё туловище, замкнула его в тесном кольце мясистых рук. Впервые в жизни тогда и обожгло мне лицо дыхание, исходившее из женской плоти. Дух был пряный и подгорченный анисом. Я ощутил в ногах слабость, будто меня подменили.
– Не бойся! – ухмыльнулась она и разомкнула кольцо. – Проверяю нож, – и, подражая деду, провела ногтём по лезвию. – Он прав: вот тут вот зазубрина. Попробуй!
Отступив на шаг, я протянул руку к ножу и, полоснув по острию ногтём большого пальца, рассёк на суставе кожу. Сильва обрадовалась, поднесла мой палец к своим глазам и сильно его сдавила. Сустав покрылся кровью. Пригнув голову и лизнув языком по ране, она осторожно забрала палец в рот. Потом подняла на меня взгляд исподлобья, стала яростно скользить языком по пальцу и глотать вырывавшуюся ей на губы кровавую слюну.
– Что это ты делаешь? – повторил я шёпотом.
Ответила она не сразу. Вынув мой палец изо рта, осторожно подула на раненый сустав и, облизнув губы, проговорила:
– Нож этот с зазубриной… Это плохая кровь, её надо отсасывать…
– Плохая кровь? – бездумно переспросил я, продолжая ощущать пальцем упругую силу её горячего языка.
– Евреи не употребляют мясо, если нож был с зазубриной… Это нечистая кровь: от плохого ножа скотине больно.
Я думал не об этом.
– Нож должен быть широкий и сильный, но гладкий, как стихи, чтобы животному было приятно…
– Острый? – вставил я.
– А длина должна быть вдвое больше толщины шеи… И им нельзя давить: полоснул раз – вперёд, и два – назад, как по скрипке. И кровь будет тогда мягкая…
Наступила пауза. Я снова перестал ощущать собственное тело. Персиянка вернула мне на шею свою руку и произнесла:
– Не мальчик, говоришь?
– Нет, – тихо ответил я и осторожно поднял на неё глаза.
– Дай мне тогда твою ладонь! – выпалила она и, схватив моё запястье свободной от ножа рукой ладонью, притянула меня к себе и прижала мою ладонь к своему паху. Медленно её потом отпустив, персиянка вытянула из-под моей руки подол передника вместе с платьем – и кулак мой оказался на её коже. Где-то внутри меня – в горле, в спине между лопатками, в бёдрах, в коленях, даже в лодыжках ног – возникла мучительная энергия, повинуясь которой мои пальцы на её лобке поползли к источнику жара.
– Хорошо делаешь! – шепнула Сильва и прикрыла глаза задрожавшими веками. – Как мальчик! Как даже гусь!
– Что? – опешил я. – Как кто?
– Ты не останавливайся… В Персии женщины сыпят себе туда кукурузные зёрна и дают их клевать голодному гусю… Это очень хорошо… Ты только не останавливайся…