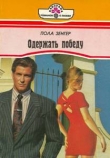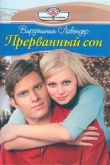Текст книги "На виду у всех"
Автор книги: Ноах Мельник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
К назначенному часу собралась большая толпа, ее я и видел за оградой гетто. Прибыли немцы. Литовцы и полицаи плотным кольцом окружили евреев. Селекцию провел немец из "арбайтсамта" в штатском (гитлеровцы изобрели набор наукоподобных терминов, маскирующих геноцид: акция – массовое убийство мирных жителей; селекция – деление людей на тех, кто подлежит немедленному уничтожению, и тех, кого следует оставить до следующего раза; экстрадиция – отправка людей к месту уничтожения). Налево направляли семьи с детьми и стариками. После окончания селекции начали вывозить оказавшихся в левой группе. В это время белорусские полицаи шныряли по домам в поисках спрятавшихся евреев.
На крыльце юденрата стоял Изаксон со своими сотрудниками. Председатель юденрата всматривался в знакомые лица увозимых на смерть. Рушились его надежды сохранить жизнь всех узников гетто. Сколько пришлось вынести унижений и бессонных ночей! В сторонке, в окружении усиленной охраны, стояли "геттополицаи". Начальник СД, командовавший "парадом", махнул рукой, и их тоже загнали на грузовики. Немец-учетчик крикнул: "Есть четыре тысячи!" (Немцы – народ аккуратный. Все должно соответствовать дневной норме.) Акция закончена, и начальник СД приказал отпустить только что приведенных старушку с ребенком. Однако сверх нормы отправил на смерть Изаксона и его помощницу Мень, которую звали "ди гетто мамэ". Накануне им заявили в СД, что в гетто слишком много нетрудоспособных и поэтому юденрат должен составить списки на четыре тысячи ненужных и с помощью геттополиции собрать и отправить их следующим утром к воротам для экстрадиции. Изаксон отказался выполнить приказ и тем самым подписал себе смертный приговор.
В нашем доме тоже не досчитались многих. Мою родственницу с мужем и детьми отправили "налево". Убили отца и сестер Переца. Уцелели его мать с двумя младшими сестрами. Они вместе с другими нетрудоспособными спрятались в подвале.
Вечером началось выселение из дальнего анклава. Территория гетто сокращалась соответственно сократившемуся числу его жителей (опять немецкая расчетливость). Оттуда шли люди, нагруженные чемоданам и узлами, несли посуду, белье, одежду... Путник! Выезжая из города Барановичи по старой дороге в направлении автострады Минск – Брест, увидишь в котловине между двумя высокими железнодорожными насыпями памятник – скорбная пожилая женщина оплакивает убитых. Это здесь в марте 1942 года немцы и их пособники убили на виду у всех четыре тысячи узников гетто.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Назначили нового председателя юденрата. Он, как и все последующие за ним, оказался серой личностью. Я даже не запомнил их фамилий.
Немцы заверяли, что больше расстрелов не будет. Необходимо лишь вести себя примерно, выполнять все предписания и старательно работать. Однако эти предписания становились все жестче. Евреи уже не имели права самостоятельно ходить к месту работы даже при наличии "аусвайса". В крайнем случае при отсутствии конвоя они могли передвигаться по городу в сопровождении нееврея, работающего на том же предприятии.
Оттепель. Евреи возвращаются с работы. В сгустившихся сумерках плотная людская масса месит грязь в узких переходах гетто. Теперь уже все равны: бывшие богатые и бывшие бедняки, бывшие коммунисты, бундовцы и бейтаристы. Сейчас они осознали, что судьба у всех одна и решается она где-то в кабинетах немецкого начальства. Вспоминается картинка из прошлогодней немецкой газеты, где богато одетая еврейская парочка не обращает внимания на умирающего соплеменника. У нас, в отличие от Варшавского гетто, где о массовых расстрелах, вероятно, и не слышали, первая акция всех уравняла.
Оптимисты нашего гетто считают, что больше расстрелов не будет. Ведь тысячи евреев работают на предприятиях города. Если нас не станет, рассуждают они, то жизнь в городе будет парализована. Неужели немцы будут поступать себе во вред?
Однако в гетто еще остались дети и старики, поэтому расстрел может повториться. Сразу же, когда земля оттаяла, начали строить всевозможные тайники, которые послужили бы убежищем в случае повторной акции. Окрестили эти хитроумные сооружения польским словом "схрон".
Был первый по-настоящему теплый весенний день. Воскресенье – нерабочий день – одновременно и еврейская пасха, Песах. Двор наш раскопан. Вокруг на веревках развешено белье, маскирующее наши земляные работы по сооружению схрона. Греюсь на солнышке. По телу разлита приятная истома, не хочется двигаться и о чем-либо думать. По ту сторону колючей проволоки вышагивает полицай. Видно, ему не терпится дождаться смены, и он часто поглядывает на часы. Спешит, наверно, домой к жене и счастливым сытым деткам. Что бы ни случилось, его деткам ничто не будет угрожать.
Остроумно соорудили схрон жители дома Переца. В дощатом сарае был большой бетонированный подвал. Вход в подвал засыпали строительным мусором и плотно утрамбовали. Впритык к подвалу построили клозет, а через него вход в подземный тоннель, ведущий к подвалу. Войти можно было в тоннель, опустившись в клозет, а оттуда – через боковое отверстие, закрываемое дощатым щитом. Увидеть вход в тоннель, прикрытый щитом, можно было лишь всунув голову в очко клозета. Но немцы и полицаи навряд ли додумаются до этого.
Убежища с двойными стенами в комнатах, сараях или чердаках, с подземными тоннелями, с входами даже через печки имелись уже во всех домах не только в нашем гетто (некоторые схроны, в которых имелся большой запас продуктов, подключенные к городскому водопроводу и электросети, гитлеровцам не удалось раскрыть до самого ухода; через многие годы появились в польских газетах сообщения о "пещерных" евреях, скрывавшихся там и после войны, не зная, что она давно окончилась).
Перец считал, что нужно вооружаться, быть готовым к новым акциям. Мне вспомнился рассказ Янкеля из нашего дома, работавшего истопником, что рядом с котельной имеется сарай, который немцы превратили в слесарную мастерскую. Там много навалено безучетного ломанного советского оружия. Уходя обедать, солдаты оставляют помещение открытым. Я договорился с Янкелем, что в обед приду к нему с большим портфелем. Надо брать стволы автоматов, магазины. Приклады приспособят в гетто. Отправляясь к Янкелю, я переодевался в приличную одежду без лат. Немцам и остальным шоферам Перец говорил, что иду покупать продукты для семьи. Вся добыча с большими предосторожностями переносилась в гетто. В чьи руки попадало оружие, кто занимался его ремонтом и сборкой, я не знал.
Однажды Перец нашел на пустыре запаянный оцинкованный ящик с винтовочными патронами. Но при их переправке в гетто чуть не случилась катастрофа. Переносили мы патроны небольшими партиями в корзинках. Поверх патронов укладывали купленные на базаре яйца, а на них – пучки редиски. К зелени, переносимой в гетто, гитлеровцы не придирались. Перец прошел через ворота, а меня полицай задержал, отобрал корзинку, вошел в будку, выбросил редиску и стал выкладывать яйца. Захотелось полицаю полакомиться яичницей, но вот-вот увидит патроны. Я стоял как вкопанный. Однако Перец не растерялся, оставил свою корзинку на той стороне за воротами, вернулся, вбежал в будку, всучил полицаю пачку па пирос и, не дав ему опомниться, выхватил корзинку и бросился в ворота гетто.
В свободное время я копаюсь на пустыре в сгоревших советских автомобилях и нахожу сгоревшие винтовки. Перец уверял, что в гетто есть мастера, восстанавливающие эти винтовки, В гетто не хватает дров для приготовления пищи и люди стали на виду у охраны вносить обрезки дров и досок. Иногда появлялось немецкое начальство и тогда начиналось вытряхивание досок, сопровождаемое руганью и мордобоем. С этими дровами стало легче проносить оружие. Надо было лишь предварительно выведать обстановку у ворот гетто.
Однажды я увидел несколько евреев в сопровождении белорусского подростка. Я решил, что также смогу справиться с этим делом. Сначала взялся "сопровождать" Переца. Я шествовал по тротуару, а Перец – сбоку по проезжей части. Потом он давал мне задания провожать нужных товарищей. В обеденный перерыв я приходил к указанному рабочему месту евреев. Посвященные подходили ко мне, и я с ними направлялся в нужное место. К концу перерыва мы успевали вернуться не замеченными немецким начальством.
Я чувствовал, что становлюсь популярным. Несколько раз мне встречались конвоируемые немцами узники гетто, и я замечал, что в колонне шепчутся, поглядывая на меня. Вдобавок Янкель рассказал дома, зачем я навещаю его на работе. Это подогревало мое мальчишеское самолюбие, но становилось опасным. Перец завел меня в сарайчик недалеко от его дома:
– Вот здесь будешь ночевать, – сказал он, – сейчас тепло. На прежнее место жительства не возвращайся, и чтобы никто из твоих знакомых не знал, где ты ночуешь.
В этом сарае я познакомился с двумя его обитателями. Один – коренастый блондин – Нёма Иоселевич, а второго, долговязого, звали Левой. Это были доверенные друзья Переца. Лева был неплохим художником. Еще ранее я заметил, что от постоянного трения в кармане, на картоне паспорта стираются буквы. Паспорт этот фактически не нужен. Для выхода из гетто достаточно предъявить аусвайс, а на расстрел повезут и без паспорта. Лева удалил надпись "юде" и другие компрометирующие данные. У меня появился "арийский" паспорт, и я стал Владимиром Ивановичем.
Немцы создавали "армии освободителей", которые должны были добить большевистскую власть. Объявили об организации "Белорусской Краевой Армии" (БКА). Батальон "Беларусь" (командир Степанов) сформировали в лагере военнопленных Колдычево, недалеко от Барановичей. Появились и батальоны украинцев. Сколачивали "войско" и из советских нацменов. Однажды нам встретилась колонна военнослужащих монголоидной внешности: не то казахи, не то калмыки. В другой раз по городу строевым шагом с пением "Катюши" бодро прошла колонна из бывших военнопленных в советской поношенной, но чисто выстиранной форме. Это была "Русская освободительная армия" (РОА). В некоторых деревнях оккупанты уже создали "самаахову". Члены ее получили трофейные винтовки и должны были, не отрываясь от своих крестьянских хозяйств, охранять деревню и вылавливать беглецов из гетто.
Опять горе. Расстреляли слонимских евреев. При организации слонимского гетто осенью прошлого года туда переселили евреев из окрестных деревень. До сих пор на Гродненщине не было расстрелов. Западную часть области – Гродно, Скидель, Волковыск и Зельву включили в состав Восточной Пруссии. Мы считали, что в близком к новой границе Слониме евреев не будут убивать, чтобы об этом не узнали в Польше и Германии.
Казик рассказал, что слонимское гетто находилось между двумя рукавами реки Щара. Этот остров внутри города был застроен деревянными хибарками, где прежде ютилась еврейская беднота. Когда полицаи и немцы двинулись на грузовиках к мостам, с гетто начали стрелять. Гитлеровцы отступили и открыли ответный огонь. Гетто превратилось в море огня. Многие бросались в воду, и, по мнению Казика, некоторым удалось прорваться сквозь оцепленеие и уйти из города.
Через некоторое время расстреляли остатки евреев в мини-гетто Клецка, Несвижа и Ляховичах. Однако акции уже не проходили так гладко, как прежде. Немецких пособников встречали выстрелами и бутылками с горючей смесью. Евреи живьем горели в своих домах. Лишь отдельным группам удавалось уйти в леса.
Однако потери гитлеровцев мизерные. Мы ведь практически безоружны. В июне 1941 года Красная Армия бросила много винтовок, гранат и даже пушки. Белорусы и поляки прятали это добро: "В хозяйстве все пригодится". Только мы, евреи, этим не занимались: нам нельзя раздражать гитлеровцев. Напрасно мы послушались наших мудрецов, утверждавших, что нет альтернативы покорности и выполнению всех немецких приказов. Сейчас еще как бы пригодились те винтовки и гранаты, чтобы гитлеровцы и их пособники почувствовали, что геноцид евреев – невыгодное дело. А батальон "Беларусь" возвращался в свои казармы с песней: "...и кровь жидовская потечет рекой". И текла она дымящейся рекой, пока вся не иссякла.
Мы завидовали нашим соплеменникам на Западе, уверенные, что убивают лишь евреев оккупированной территории СССР. Но летом 42-го на станции остановился товарный состав, охраняемый немцами. В вагонах – евреи. Они кричат, просят дать им воды. Перец со свойственной ему решительностью обратился к офицеру с просьбой разрешить принести воды заключенным. Немец разрешил. Зачем ему возиться с умершими в пути узниками? Перец быстро раздобыл ведра и с помощью наших евреев разносил воду по вагонам. Оказывается, там евреи из Варшавы. Оттуда вывозят мужчин на восток, сказали – на строительные работы. Перец предупредил их, что немцы здесь расстреливают евреев, поэтому при первой же возможности следует бежать.
Через несколько дней на запасную ветку загнали состав пассажирских вагонов. Сквозь окна видны богато одетые женщины и дети. На ступеньках охрана. К вагонам подъехали голубые автобусы. В автобусах нет боковых окон, лишь высоко в крыше имеется большое зарешеченное окно. Пассажиры, оказывается, евреи, беззаботно усаживались в автобусы, которые увозили их за город. Вскоре автобусы возвращались порожними, и погрузка продолжалась.
После обеда в швейную мастерскую, где работали наши девушки, привезли много одежды для сортировки. Это была одежда умерщвленных австрийских евреев. Одна женщина показала мне найденный в одежде паспорт. В паспорте фотография молодой элегантной еврейки из Вены.
В последующие дни продолжали прибывать эшелоны с евреями из Австрии, Чехословакии и Польши. Одних разгружали тут же, другие следовали дальше, где их тоже ждали расстрельные команды (мы тогда не знали, почему в нашу сторону везут этих евреев. Оказалось, Газовые камеры, построенные и запущенные только что в Польше, не в состоянии были пропустить всех предназначенных к уничтожению узников). Так много привозили одежды западноевропейских евреев, что сортировали ее несколько месяцев. Затем немцы расстреляли и наших девушек, не дождавшись завершения этой работы.
В тот летний день Перец болел, и на работу я выбрался один. Перед воротами выстраиваются, как обычно, колонны рабочих. На той стороне ворот нас ожидают конвоиры. По улице, ведущей из гетто, движется колонна за колонной. Вскоре они должны разойтись, направляясь в разные концы города. Но на первом перекрестке фельджандарм приказывает конвоирам следовать прямо. Это повторяется и на следующем. Все колонны загнали в тупиковую улицу. На тротуарах – густая цепь немцев.
Плохо! Наверно, отсюда нас будут вывозить на расстрел. Я пробираюсь ближе к краю. Мне эти места хорошо знакомы. За ближайшими воротами проходной двор. Дожидаюсь момента, когда рядом эсэсовец глянет в сторону, и ныряю между двумя немцами. Всем телом бросаюсь на калитку в воротах. Калитка захлопывается за мной, и немцы меня уже не видят.
На бегу сбрасываю шапку и пиджак с желтыми латами, и вот я уже на следующей улице. Иду спокойно, ничем не выделяясь среди остальных прохожих. Из того двора выбегают еще несколько евреев, они пересекают улицу и скрываются в каком-то дворе. Издалека видны их желтые звезды. Чудаки, почему их не сорвали? В таких экстремальных случаях пример заразителен. Стоит бежать одному, как его примеру следуют другие. На тупиковой улице крики и выстрелы. Одна девушка убита. На помощь эсэсовцам бегут полицаи. Немцы стараются утихомирить толпу, кричат, что расстрела не будет, нужны мужчины для срочной работы.
Добираюсь переулками к дому Володи Таргонского. В обед узнаю подробности. Немцы погрузили тысячу мужчин в товарные вагоны и увезли их на север. Среди них оказался и наш друг Лева. Потом говорили, что наших евреев вывезли на строительство дороги под Молодечно. Примерно через месяца два, когда работу завершили, их всех расстреляли.
Вместо увезенных узников гетто немцы доставили в Барановичи евреев из польского города Межеричи – мужчин и подростков. Колонну межеричских евреев встретила в воротах большая толпа. Приезжих угощают хлебом или картошкой, делятся с ними последним.
А эшелоны с евреями все шли и шли. Узнали, что в Минск привезли евреев из немецкого города Гамбург (не поленились гитлеровцы устроить им такое дальнее путешествие). Они пишут домой, что благополучно прибыли на место "переселения". Затем их расстреляют вместе с местными евреями. Эти дальние перевозки в военное время нужны были, чтобы остававшиеся еще на Западе евреи не знали об ожидавшей их участи.
Да, наше будущее рисовалось все более мрачным. В прошлом году мы надеялись, что в больших городах акций не будет. Тогда расстрелы в местечках казались самодеятельностью местного начальства и к зиме прекратились. Явная перемена произошла в 1942 году. Еврейских женщин и детей, даже из стран Запада, убивали уже под руководством немцев на виду у всех. Казалось невероятным, что эта участь уготована даже немецким евреям.
Несмотря на запрет и смертельную опасность, некоторые поляки слушали передачи лондонского радио. Я спросил у Казика, как в Англии реагируют на истребление евреев под корень.
– Лондонское радио ничего не сообщает об этом.
Странно. Немцы соблюдают общепризнанные запреты: не убивают пленных поляков, французов и англичан, не применяют отравляющих газов. Теперь же, не страшась ответственности, на виду у всех убивают сотни тысяч еврейских стариков и детей. Почему же на злодейства гитлеровцев не реагируют союзники? Почему не используют все это в антигерманской пропаганде?
Говорят, в лесах появились советские партизаны. На днях привезли несколько десятков убитых жандармов. Они попали в засаду в Налибокской пуще севернее Новой Ельни. О, если бы я знал, как добраться до этих партизан! Но где их найти?
Перец сказал, что надо уходить из гетто, но вместе с семьями, а для этого нужно приготовиться. Через несколько дней он дал мне задание:
– Сходишь в скверик, в котором до войны размещалась радиостанция, там увидишь несколько повозок, обратишься к старшему возчику, и приведешь обоз на товарную станцию.
В то время на товарной станции стоял в тупике вагон с солью. Наши парни мигом нагрузили телеги мешками с солью, и обоз ушел из города. Соль в те годы была дефицитнейшим товаром, и в ней особенно нуждались партизаны.
На следующий день Перец похвалил меня за выполненное задание и дал новое:
– Завтра в обед пойдешь в кафе на бывшей улице Шептицкого (в том кафе обедали преимущественно чиновники и полицаи). Сядешь с левой стороны от входа при крайнем столике. К тебе подойдут и спросят: "Можно суп посолить?" Скажешь: "Соли хватит, можно еще добавить". Вот тебе талоны на обед и тысяча рублей на расходы.
В кафе оказалось немного людей. Я ел свой обед не спеша, стараясь дождаться того, с кем должен встретиться. Однако никто из посетителей не обратил на меня внимания. В зал вошли четыре парня и заняли столик поодаль. Я почувствовал, что они заинтересовались моей особой. Одного, сидевшего напротив меня, я узнал. Это был мой соученик по гимназии Ярошевский. Мы с ним не ладили. Он один раз обозвал меня пархатым жидом, и мы подрались. После 1939 года я ничего о нем не слышал. И вот встреча через три года. Ярошевский безусловно узнал меня, парни перешептываются, смотрят на меня. Еще бы, еврей – и в таком месте! Но на чьей стороне эти парни? Бежать нельзя, все равно не успею. За столиками полицаи, да и по улице их немало ходит.
Перекусив, Ярошевский и его спутники поднимаются из-за столика, медленно идут к выходу. Поравнявшись со мной, Ярошевский тихо говорит:
– Честь, Мельник! (Словом "честь" приветствовали друг друга гимназисты в довоенной Польше.)
Все перепуталось. Многие "восточники", направленные ранее в Западную Белоруссию для укрепления советской власти, теперь заняли высокие посты в управах и полиции, а польский антисемит стал нам, евреям, сочувствовать.
Проходит еще час, зал опустел, оставаться в кафе не имело смысла. Так мне не удалось связаться с людьми Переца.
На следующий день, к концу рабочего дня, в гараже оказались приезжие автомобили.
Перед дальней дорогой их надо было вымыть. Перец был на погрузочных работах, а я один в оставшееся время не мог управиться. "Шеф" обещал, что сам отвезет меня в гетто. Вернувшись с работы, я узнал, что Переца арестовали, искали и меня. Оказывается, к концу рабочего дня в контору приехали немцы из СД. Вызвали Переца, а
позже на крыльцо вышел начальник и приказал позвать меня. Узнав, что "Пи-пеля'' нет, он отправил колонну в гетто без Переца.
– По-видимому, произошло что-то серьезное, – сказал Нёма, – завтра утром выходи с другой колонной и убирайся из города.
Из гетто я вышел с евреями, маршрут которых пролегал мимо гаража. Надо забрать "арийскую" одежду. В гараже уже знали об аресте Переца. Видели, как его, распухшего от побоев, увезли немцы.
Зазвонил телефон. "Шеф" снял трубку, покосился на меня.
– Он здесь, вчера я задержал его на работе, а потом лично отвез в гетто. Ведет себя примерно.
– Тобой, Пипель, начальство интересуется, – сказал Дитрих, – смотри, не шляйся больше по городу.
Позже, по отрывочным сведениям, я узнал о причине провала Переца и по ним представил себе ход событий и случайные обстоятельства, благодаря которым я уцелел.
Оказывается, сторож товарной станции догадался, что операция с солью незаконна, написал донос, указав на Переца, как главного организатора хищения. Видимо, в доносе было сказано, что обоз привел мальчишка, которого сторож раньше видел среди евреев.
Поэтому эсэсовцы спросили, нет ли среди евреев подобного мальчишки? Но меня не было на сборном пункте (в это время я единственный раз за все 180 дней работы не оказался у конторы; бывает же такое счастье – по теории вероятности). Не зная причины моего отсутствия, опасаясь ответственности за плохо налаженный присмотр, начальник вернулся и сказал, что подобного подростка среди евреев нет. Назавтра, узнав от "Шефа" причину моего отсутствия, он решил не связываться с СД, а ждать дальнейшего хода событий. Несмотря на побои, Перец ни в чем не признался, а через две недели немцы передали его белорусской полиции, и они его расстреляли (еврея, попавшего в полицию по малейшему подозрению, ожидал только расстрел). Кладовщика-поляка за соучастие отправили в концлагерь.
"Шеф" запил. Он и раньше выпивал, с тех пор как начали заправлять автомобили спиртом. Экономили бензин. Сейчас немец не просыхает. Поскольку я часто без дела околачиваюсь в гараже (после гибели Переца мне незачем ходить по городу), старик использует меня в качестве слушателя его душевных излияний. Дела у него действительно незавидные. Его старуха с дочерью голодают в Берлине, два сына погибли на Восточном фронте, а сейчас туда отправили последнего, самого младшего. По пути на фронт он заехал повидаться с отцом. Это был совсем молодой парнишка, на вид не более семнадцати лет.
Дитрих нашел себе достойных собутыльников в лице солдат аэродромной прислуги. Всем за пятьдесят: плешивые, пузатые и кривоногие. Забиралось это общество в каморку, разводили спирт водой и осушали помутневшее пойло графин за графином. Бывало, шеф зазывает меня туда, сует стакан спирта: "Пей, Пипель!"
– Не могу, мне от спирта тошнит и голова болит, – отказываюсь.
– Не можешь пить, так поешь, – и дает мне хлеб, намазанный свиной тушенкой.
Из-за жары я снял пиджак с желтыми звездами, и солдаты спрашивают шефа, откуда у него взялся этот "юнге" с берлинским акцентом? Они уверены, что я немец.
Дитрих, прищурившись, смотрит на меня и смеется.
Однажды, придя на работу, застаю его пьяным с утра. Он возбужденно говорит собравшимся вокруг шоферам:
– О дерьмо, мы им вчера дали. Представьте себе, зашли мы (он со своими собутыльниками) в ресторан, а за столиком рядом сидят эти собаки из латышского СД. Вот дерьмо! Мы им говорим, чтобы убрались подальше, не хотим рядом сидеть, у них руки в крови. Они обиделись и полезли в драку. Ну, мы их и побили. Прибежали жандармы, скандал... Но всё это дерьмо.
Назавтра Дитрих не явился на работу. Говорили, что ночью его забрали. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Через несколько дней появился новый шеф по фамилии Кестнер. Был он высокий, худой, с болезненным лицом землистого цвета. Спиртного не употреблял, глотал пилюли и запивал их водой. Говорили – "желудочник". Компании он ни с кем не водил, ко мне относился хорошо. Однажды, когда нового шефа послали в Варшаву, я попросил его взять меня с собой и высадить за Бугом в польской деревне. Кестнер покачал головой:
– Ты хочешь, чтобы твоего шефа арестовали?
Он, конечно, прав. С какой стати немец будет рисковать ради еврея?
На днях у нас появился новый шофер. Веселый парень из пригородной деревни. Ему дали кличку "Инженер", хотя его образование ограничилось начальной школой.
Инженер был честолюбив, и коллеги почему-то невзлюбили новенького.
После гибели Переца у меня в гетто остался лишь один близкий друг Нёма. Однажды вечером он показал мне под своей кроватью яму, в которой оказался ящик с ручными гранатами.
– Недолго здесь пробудем, – сказал Нёма, – уйдем к партизанам, но с оружием. Без оружия никто нас не примет.
Через несколько дней на находившемся близка от гетто еврейском кладбище, забегали немцы и полицаи. Говорили, что обнаружили потайной ход, прорытый из гетто, по которому ночью уходили евреи в партизаны.
Раннее утро. У выхода из гетто собираются колонны рабочих. Вдруг у ворот возникло замешательство. Кто-то заметил, что колонны направляются немцами по одной улице. Опять немцы задумали что-то против нас. Подбегают мальчишки и передают приказ не выходить из гетто – будем сопротивляться. Рабочие разбегаются по домам. Я спешу в свой сарай. Яма раскрыта, ящика с гранатами в ней уже нет. Опоздал я. Что же делать? Забираю из-под матраса свой "арийский" паспорт, может, еще пригодится. За колючей проволокой почти впритык стоят немцы из фельджандармерии, вооруженные автоматами и в касках, даже с противогазами на боку. К ограде подходит еврейка, по-видимому, уже сошла с ума. Она без конца повторяет:
– Зачем вы нас убиваете? Мы же вам ничего плохого не сделали.
Эсэсовцы скалят зубы. Видно, как в том конце гетто полицаи сгоняют евреев к грузовикам. Вблизи ни души, здесь все уже попрятались. Куда же мне деться? Из соседнего дома выглянул мальчишка. Узнаю, он из дома Переца. Машет мне рукой. Мы спускаемся в схрон.
Тускло горит коптилка. В подвале преимущественно женщины, дети и пожилые мужчины. Здесь мать и две сестры Переца. Дети притихли. С напряжением ждем дальнейших событий. Время медленно тянется. Коптилка погасла – не хватает кислорода. Душно. Медленно нарастает издалека гул, как будто на гигантском току молотят в сотни цепов. Гул приблизился, уже можно различить отдельные удары топоров. Послышались отрывистые голоса, лай собак, быстрые шаги. Ищут, ищут нас на расстрел. Убийцы бегут в наш сарай, копают над самой головой, слышен стук лопат о камни, наступают последние минуты, люди прощаются с жизнью. Дети начинают тихо плакать, им затыкают рты, чтобы там, наверху, нас не услышали. Опять удары, бьют топором по стенам сарая, слышен скрежет отдираемой доски. Недалеко выстрелы, взрывы гранат. Кажется, прошла вечность, но шаги стихают, удары стали глуше, гитлеровские пособники ушли дальше.
Ночью выхожу наружу. Светит полная луна. Держась в тени построек, бегу в дом. На кухне развалена печь, кое-где пробиты стены, разворочены нары, на полу валяются дверные и оконные косяки. Полицаи поработали, не щадя сил, искали не только вход в схрон, но и драгоценности. В сарае местами гитлеровцы копали землю над самым подвалом, они искали места с рыхлой землей, свидетельствующие о наличии схрона. Но здесь они наткнулись на камни и кирпичи, которыми давным-давно засыпали бетонированный свод подвала. Если бы они копнули ближе к стене, то сразу наткнулись бы на обводной тоннель нашего схрона.
На другом конце гетто, вблизи кладбища, разгорается стрельба, слышны даже взрывы гранат, но затем всё стихает. Гитлеровцы на ночь ушли из гетто, боятся, но усилили охрану забора. Все же можно было бы попытаться выбраться, но светит луна. Надо дождаться темных ночей. Когда же это будет?
Возвращаюсь в схрон. Захватил с собой найденное на кухне ведро с водой. Вода еще пригодится. Мои друзья по несчастью толпятся у входа, стараются хоть сейчас подышать свежим воздухом. В темноте кто-то сует мне галету размоченную в воде.
На следующий день все повторяется: медленно нарастающий гул, отдельные выстрелы, а потом – близкие удары топоров, опять копают над головой. Какой-то полицай забежал по "большой нужде" в наш сортир. Теперь уже не догадаются, что туалет "фиктивный". Зато в подвале густой запах человеческих экскрементов, тем более и в схроне в углу испражняются в ямке, которую тут же засыпают песком. Дышать всё труднее. Последующие ночи опять лунные. Днем моросил дождик, а ночью светло как днем. Нельзя незамеченным подползти к проволоке. Как долго мы сможем здесь продержаться?
Прошло около пяти дней, когда под вечер послышались еврейские голоса, забегали люди. Оказывается, акция закончена, вернулись рабочие. Их все это время держали на рабочих местах. Опять убили четыре тысячи узников гетто.
По улице медленно движется телега. На телеге лежит убитый, накрытый окровавленной простыней. Из-под простыни торчат ноги в кирзовых сапогах. За телегой идет обезумевшая от горя дочь убитого. Она оборачивается к прохожим:
– Евреи! Сопровождайте. Будьте добры, воздайте последние почести.
Никто не обращает внимание на ее причитания, у каждого свое, не меньшее горе. Следом везут еще несколько растерзанных трупов. Оказывается, в соседнем с нами доме гитлеровцы обнаружили схрон. У входа еврейский парень схватил полицая за отвороты мундира, ударил его ножом, и из отобранного пистолета обстрелял полицаев. В ответ полицаи забросали схрон гранатами. Чудом спаслась эта еврейка, спрятавшаяся в ответвлении тоннеля. На крыльце другого дома причитает молодая женщина:
– Прости меня, Розочка, я не хотела, чтобы они погнали тебя к яме.
Она сама убила свою шестилетнюю дочку. При приближении полицаев девочка начинала плакать. Мать зажимала ей рот, чтобы палачи не услышали плач ребенка. Девочка просилась:
– Мамочка не души меня, я больше не буду.
Но в критический момент, когда казалось, что схрон раскрыт, мать задушила свое дитя. Женщина уже была невменяема. Ночью она повесилась. Таких случаев, когда матери душили своих малюток, было немало. О бедные еврейские матери! Кто измерит вашу предсмертную боль за ваших гибнущих детей?