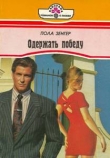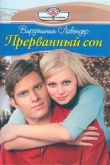Текст книги "На виду у всех"
Автор книги: Ноах Мельник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Хальт!
Я поднял руки. Немец подошел ближе. Он невысок, немолодой, лицо обросло рыжей щетиной, видно, немцы так загружены "работой", что некогда побриться.
– Ци ты зид, ци ты поляк?
Только теперь до меня дошло, что на еврея я не похож. На мне гимназическая шинель без желтых лат.
– Я, пане, поляк, пришел оттуда, – показываю на виднеющуюся за рекой деревню.
Но немец приказывает идти вперед и выводит меня на улицу. Там стоит молодой знакомый поляк. Немец подзывает его и, указывая на меня, спрашивает:
– Ци он зид, ци поляк?
Парень пожимает плечами, он меня не знает. Но немец ведет меня дальше, в центр города. Немцев там не видно, попадаются военные в незнакомой форме. Это и есть литовцы. Они добровольно участвуют в этих "ратных" делах, лучше немцев разбираются в наших евреях. На площади за сетчатой оградой сквера темная масса тесно сбившихся людей. Рядом со взрослыми видны дети. Отдельных лиц различить нельзя, может, маме и сестричке удалось спрятаться и их здесь нет? На другой стороне ограды охрана из полицаев и литовцев. Подходит литовский офицер. Он высок, красив, подтянут, чисто выбрит. В другой обстановке не мог бы поверить, что такой человек руководит убийством тысяч женщин и детей. Литовец хорошо говорит по-польски. Доказываю ему, что утром пришел с деревни к сапожнику. Почему бежал? Так ведь услышал, что стреляют, и побежал напрямик домой. Литовец говорит немцу, что я не жид: мальчишка испугался и побежал домой в свою деревню.
Иду обратно по той же улице. На меня гитлеровские пособники не обращают внимания. Литовские солдаты срывают ставни, вламываются в еврейские дома, выгоняют спрятавшихся евреев. У обреченных на смерть окаменели лица, кажется, до них не доходит смысл происходящего. Вот мальчик машинально ступил на тротуар. Здоровенный солдат бьет его сапогом в спину. Мальчик качнулся, с трудом удержался на ногах, ему очень больно, но он не плачет. Евреи идут молча, не просят пощады. Дальше улица пустынна, палачи там прошли. На окраине города уже нет оцепления. Из деревни в город толпа женщин идет грабить. Они спешат. Еще живы евреи, а их дома уже разграблены соседями. Немцы не возражают, самое ценное они изъяли у евреев заранее.
Наугад бреду по безлюдному полю. Словно в насмешку, природа подарила нам еще один теплый солнечный день ушедшего бабьего лета. Издали, со стороны полустанка, доносится пулеметная очередь, затем одиночные выстрелы. Убивают. Эти выстрелы – будто вбиваемые в голову гвозди. Нет слез, лишь тупая боль внутри. Гибнут мои близкие, товарищи, знакомые, гибнет окружающий мир, с которым я был связан тысячью невидимых нитей, вне которого я себя не представлял. Это кажется невероятным, будто кошмарный сон.
Опять выстрелы. Они торопятся. Предстоит большой объем работ во имя идеи, начертанной фюрером. Ведь это они привели убийц – солдата, целовавшего мою сестричку, и интеллигентного штабного офицера.
Я подался в Барановичи. Как-никак, областной центр, в котором только евреев больше 10 тысяч. Не могут же там на виду у всех убить столько людей. Держась подальше от дороги, я уходил навсегда из своего родного города.
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ
В Барановичах евреи жили в своих домах, свободно передвигались по городу с нашитыми желтыми звездами. Город большой, с пригородами, мастерскими, подземными сооружениями, который окружить и тщательно прочесать в поисках евреев казалось невозможным. Поэтому евреи чувствовали себя здесь в большей безопасности, но регулярно выполняли требования по сдаче золотых вещей.
Приютили меня Сухаревские – добрые знакомые моих родителей. Как и всем евреям, им предстояла тяжелая зима, и долго пользоваться гостеприимством этой семьи я не мог. Я знал, что недалеко от Слонима в деревне Полонка живет последняя оставшаяся в живых двоюродная бабушка – Мерча Бревда. Женщина из Полонки рассказала, что в имение вернулась прежняя помещица вдова польского полковника, хлопочущая перед немецким начальством, чтобы не трогали евреев ее деревни. Эта еврейка скоро возвращается домой и согласна взять меня с собой.
На окраине города Барановичи мы сняли желтые "латы". Пробираясь перелесками, держась подальше от дорог, нам удалось добраться к вечеру в Полонку. Дом, в котором жили мои родственники, представлял собой длинное приземистое строение, крытое соломой, передняя часть которого состояла из жилых комнат с маленькими подслеповатыми окнами, за ними был сарай для скотины, а дальше – гумно с ржаной соломой и необмолоченным овсом.
В доме властвовал матриархат во главе с двоюродной бабушкой. Это была худенькая, согнутая годами тяжкого труда, но еще весьма подвижная старушка. Ее муж – дед Шахнюк Бревда был высоким, могучего телосложения стариком с окладистой бородой, единственным занятием которого была трехкратная ежедневная молитва и изучение Гемары. Два сына, такие же крепкие, как отец, ежедневно уходили в имение работать на лесопилке. Младшая дочь (старшая вышла замуж за раввина и перед войной уехала в Америку) Дебора или, как ее ласково звали, Доба, была веселой плотно сбитой девушкой лет двадцати с округлым румяным лицом. Она редко бывала дома – уходила помогать польским соседям: шла молотьба.
Я целыми днями сидел у окна, смотрел из-за занавески на единственную улицу деревни, изрезанную по всей ширине колесами телег, с многочисленными лужами, покрытыми по утрам тонким льдом. Улица была пустынна, лишь изредка проедет телега, груженная сеном или соломой. Часто шел дождь или мокрый снег. За стеной слышен был монотонный речитатив деда, от которого еще тоскливее становилось на душе. Дом оживлялся лишь к вечеру, когда вся семья собиралась за ужином. На столе появлялась большая миска с картошкой в мундире. Очищенную картошку макали в поджаренное льняное семя и посыпали солью. Про новые расстрелы евреев не стало слышно, и разговоры касались лишь скудных деревенских новостей. Иногда попадалась мне "Баранавицкая газэта", в которой описывались радужные перспективы, открывшиеся перед белорусским народом благодаря германскому рейху. Подчеркивалось, что все беды человечества от жидов. Они в сговоре с большевиками и капиталистами Англии и Америки собирались поработить весь мир. Это удобрялось стишком, например:
Кали прийшли саветы,
Паны пайшли у лозы,
Мужики у калхозы,
А жыды алзели акуляры
И засели у канцылярыи.
Заканчивалось все призывом вступать в белорусскую полицию и записываться в организацию "Саюз беларускай моладзи" под руководством партии "Беларуская самапомач".
Староста деревни предупредил бабушку, чтобы я не появлялся в деревне, но и оставаться дома без дела стало невмоготу. Однажды бабушка привела знакомого крестьянина, одетого в длинный овчинный тулуп и валенки. Оглядев меня, он сказал:
– Да, не похож, пускай у меня поживет, скажу – родственник.
Уселись мы в розвальни, и небольшая лошадка резво помчала нас прочь от Полонки. Долго мы сидели молча, слышен был лишь скрип полозьев и стук снежных ошметков из-под конских копыт о передок саней. Василь (так звали крестьянина) обернулся ко мне и спросил:
– Как тебя назовем?
– Владимиром, – сказал я, подумав.
– Хорошо, будешь Володькой.
К обеду мы приехали на хутор Василя. Здесь, вперемежку с молодым березняком были разбросаны небольшие участки пашни, занесенные снегом. Прижавшись к лесу, поодаль друг от друга стояло несколько домов с хозяйственными постройками: гумнами, сараями и хлевами. Из дома выбежал мальчик моих лет, раскрыл ворота, с любопытством приглядываясь ко мне. Во дворе отец сказал:
– Вот, Колька, привез тебе товарища, наш родственник, Володькой звать.
Дома нас встретила молодая приветливая хозяйка. Она, видно, была в курсе дела.
На столе появилась, картофельная бабка, заправленная салом. Здесь можно было поесть досыта. После обеда мы пошли с Колькой молотить. В гумне пахло хлебной нивой. Казалось, что в необмолоченных снопах сохранилось летнее тепло. В раскрытые ворота лилось яркое зимнее солнце, помещение наполнилось стылым воздухом. Колька сбросил на ток и уложил в ряд несколько снопов ячменя. Мне вручил цеп, а себе взял другой, раскрутив бич над головой, ударил по снопу. Брызнуло, золотом засветившееся на солнце зерно. Я попробовал сделать то же, но цевьем ткнулся в землю, а бич едва не угодил мне по голове. Вскоре я освоил это нехитрое орудие крестьянского труда. После обеда мы взялись резать солому на корм. Но оказалось, что мне не хватает силы раскрутить колесо соломорезки.
– Да, силы у тебя маловато, – заметил Колька. – Мамка говорила, что уж очень ты бледный и худой.
В последующие дни мы вдвоем молотили, кормили скот, запрягали коня, заготавливали в лесу дрова. Колька показывал следы зверей. Вот пробежала лисица, а дальше – вязь заячьих следов. У стога кормились куропатки, из-за морозов они жались к хозяйственным постройкам, на снежном фоне ярко выделялись красные гребешки петушков. Постепенно я отъелся, окреп. Хозяева заботились обо мне, как о родном ребенке. Я уже надеялся, что в этой белорусской семье смогу отсидеться до теплых весенних дней. Однако война снова дала о себе знать.
В окрестных деревнях и хуторах жили попавшие в окружение командиры Красной армии. Рядовым бойцам трудно было скрыться. Немцы, сбив шапку и, заметив стриженную под нулевку голову молодого человека (всех бойцов срочной службы стригли под нулевку), заключали: "рус". Командиры, переодевшись в гражданскую одежду, ничем не отличались от окружающего населения. Этим окруженцам, которых местное население называло "восточниками", охотно крестьяне давали приют, поскольку в единоличном хозяйстве (колхозы не успели организовать) всегда нужны молодые крепкие руки. Немцы в этом деле не разобрались. Однако после организации полиции из местных жителей, знавших всех в округе (некоторые "восточники", в том числе и бывшие милиционеры, добровольно вступили в полицию), были взяты на учет все окруженцы. В декабре 1941 года объявили приказ властей: всем "восточникам" собраться у волостной управы для отправки в лагерь военопленных. К указанному сроку пришли окруженцы в сопровождении своих хозяев, женщин и даже детей. К этим людям успели привыкнуть. Их искренне жалели. Ведь им предстоит тяжелая участь военнопленных. Подъехал грузовик с немецкими автоматчиками. Немцы и местные полицаи, окружив военнопленных, повели их по дороге. Отойдя с полкилометра, всех с ходу расстреляли. Расстрел безоружных людей на виду у местных жителей произвел тяжелое впечатление на моих хозяев. Я заметил, что они боятся, как бы им не попасть из-за меня в беду. Не дожидаясь, пока мне об этом скажут напрямик, я на следующий день вернулся в Полонку. Однажды поздней ночью раздались удары в дверь, и в избу ввалился парень, одетый в мундир литовского солдата. Размахивая винтовкой, он стал угрожать расправой с "жидами". Выкрикивая ругательства по-белорусски, стал хвастаться, как расстреливал евреев. Он надеялся, что перепуганные люди приподнесут ему какие-либо драгоценности, чтобы откупиться. Но тут появились сыновья. Их мощные плечи и решительная поза охладили пыл бандита. Он понял, что здесь ему не поживиться. Разразившись очередной бранью, гитлеровский пособник хлопнул дверью. На улице послышался скрип полозьев. Уехал.
Наступил январь 1942 года. Однажды, когда я остался дома один, вбежал еврейский мальчик с криком:
– Бежим! Много полицаев приехало.
Мы кинулись через сарай во двор, а оттуда – в лес. Отдышавшись, стали с беспокойством смотреть в сторону деревни. Но там было тихо. Мороз пробирался сквозь нашу ветхую одежонку, мерзли ноги и уши. Потоптавшись в лесу час, мы вернулись домой. Оказалось, что полицаи на санях проехали через деревню, не задерживаясь.
Сидеть в бездеятельности в деревне я больше не мог. Недавно убили "восточников", так что им стоит расстрелять здесь сотню евреев? Хватит ли авторитета помещицы, чтобы ее заступничество уберегло нас? Ведь со всех окрестных деревень и местечек, где евреев не расстреляли осенью прошлого года, их согнали в гетто Слонима. Надо уходить в Барановичи. Город большой, "Баранавицкая газэта" сообщила, что немецкие власти переселяют евреев в гетто, защищая от местного населения.
Барановичи, январь 1942 года. Внешне город изменился не только тем, что улицы и дома покрылись снегом. Значительно возросла численность полицаев, они уже не были в гражданском с белыми повязками на рукавах, им выдали черную форму белорусской полиции. Встречались и литовские солдаты. Зато меньше стало немцев. Но что с ними? Вот едут два немца на повозке. Ее медленно тянет пара тяжеловозов с куцыми хвостами. Телега с налипшим на колеса толстым слоем снега вязнет в сугробах. Неужели в Германии не знают, что такое сани? Не менее нелепый вид у мерзнущих солдат: уши обмотаны зелеными шарфиками, отвороты пилоток опущены. Их обмундирование оказалось явно не к месту в условиях нашей зимы.
Евреев уже загнали в гетто. В наступающих ранних сумерках вижу кучку евреев. Они возвращаются с работы. Я подошел к ним, нацепил заранее заготовленные желтые звезды. Построившись по четыре в ряд, мы двинулись в сторону гетто. Вскоре показался забор из колючей проволоки, охраняемый медленно вышагивающими белорусскими полицаями, вооруженными советскими винтовками. У ворот при сторожевой будке стоит полицай. Он внимательно осматривает входящих в гетто евреев. С другой стороны ворот – такая же сторожевая будка. Около нее топчется еврейский парень. На нем ватник с желтыми "латами" и валенки в галошах. На рукаве повязка с желтой шестиконечной звездой и надписью на немецком "геттополиция". Его единственный атрибут власти – короткая деревянная палка. Присутствие парня здесь явно ни к чему. Он с тоской смотрит на возвращающихся узников. Советуют зайти в юденрат – единственное двухэтажное здание, освещаемое электричеством. В комнате перед кабинетом председателя сидит его помощница – красивая средних лет женщина с ярко накрашенным ртом. Внимательно выслушав мою невеселую историю, она идет со мной в соседнюю комнату к пожилому еврею. Они подбирают для меня дом, где я буду жить. Осмотрев мою убогую одежонку, пожилой еврей говорит, что завтра распорядится, чтобы меня лучше одели.
В сопровождении парня из геттополиции захожу в назначенный для меня дом. В полутьме на кухне около горящей плиты столпились женщины, на столе и подоконнике груда кастрюль, сковородок и мисок. Входим в жилую комнату. Вдоль стен – деревянные нары в три яруса. На нарах свалена постель и одежда. С верхних нар свесились детские головки, а на нижних сидят мужчины и женщины. Оказывается, власти выделили по квадратному метру жилой площади на одного еврея, и в одной комнате теснятся несколько семей. В помещении стоит смешанный с сизым дымом коптилки тяжелый дух бедной немытой толпы.
Парень из геттополиции говорит, что юденрат направил меня в этот дом на жительство. Женщины доказывают, что у них и так тесно, все нары заняты, повернуться негде. Я смотрю на опустившихся людей, на бледные, голодные лица детей. Здесь уже доведены до крайней степени унижения. Не в состоянии больше сдерживаться, я отвернулся и заплакал, единственный раз за всю войну. Подошла невысокая незнакомая женщина и стала расспрашивать, кто я и откуда.
И вот она громко заявила, что я ее родственник. На ее нарах найдется место и для меня. Оказывается, она родственница дяди Даниила, живущего в Аргентине. В гетто она с мужем и двумя маленькими детьми семи и пяти лет. Они делились со мной своим пайком, пока я сам не начал добывать себе пропитание.
Гетто огородили колючей проволокой в начале зимы. В его территорию включили лишь ветхие дома, оставив за его пределами лучшие постройки, поэтому территория гетто имела неправильную форму. Местами изгородь расходилась, включая отрезок нескольких улиц, и снова сходилась, образуя узкие переходы в которых не разминулись бы две телеги. Эти "узости" легко можно было перерезать, разбив гетто на изолированные участки. Наряду с главными воротами вблизи юденрата имелись еще одни ворота в противоположном дальнем конце.
Все работоспособные евреи, включая девочек и мальчиков, достигших 15-летнего возраста, обязаны были являться на работу. Всем, работавшим за пределами гетто выдавали нового образца паспорта и "аусвайсы" с места работы. Евреи трудились в портняжных и сапожных мастерских, на фабриках и заводах, на погрузочно-разгрузочных работах и обслуживании воинских частей. Рабочие получали продуктовые карточки на себя и иждивенцев, по которым в гетто выдавали скудный паек, способный лишь отсрочить голодную смерть.
Но при переселении в гетто евреи успели перевезти запасенную на зиму картошку. Этой картошкой, зачастую мерзлой, узники пополняли свой рацион. При этом женщины, немного сдобрив ее жирами, ухитрялись сварить субботний чолнт. Несмотря на запрет, удавалось у знакомых поляков или белорусов обменять кое-что из одежды на муку, а затем тайком перенести это домой.
Немцы проявили к евреям "либерализм", предоставив нам автономию. По официальной версии выходило, что гетто охранялось от ненавидящего нас населения. Не только полицаи, но и немцы, за исключением начальства из СД ("служба безопасности", которой подчинялись оккупированные территории), не имели права заходить в гетто. Немецкое начальство надеялось, что невероятно скученные в гетто евреи передерутся и перемрут с голоду. Но они просчитались. Осознав свое положение, оказавшись даже в одной комнате, люди различного общественного положения и культурного уровня старались поддерживать друг друга. Даже в переполненных кухнях не слышно было ссор. Насколько мне известно, за все девять месяцев пребывания в гетто, не слышал я, что кто-то умер с голоду. Не успевали.
Главой юденрата был Изаксон – бывший адвокат, среднего роста, худощавый, энергичный сорокалетний мужчина. Он подобрал себе небольшой штат исполнительных работников и сотню парней для геттополиции. При юденрате организовали сапожную и швейную мастерскую, в которых шили и перешивали одежду для неимущих, главным образом переселенцев из соседних местечек и деревень. Рядом располагался дом престарелых с кухней для самых бедных. В другом каменном здании размещалась больница. Врачи и медсестры лечили больных и даже оперировали.
Выходить из гетто имели право лишь евреи, направлявшиеся на работу. При этом надо было предъявить аусвайс дежурившему у ворот белорусскому полицаю. Лишь в еврейскую баню, оказавшуюся за пределами гетто, отправлялись все желающие. Колонну вел работник юденрата.
В юденрате мне оформили документы для получения паспорта. В мастерской веселый сапожник снял мерку и заявил, что скоро я буду обут "как король". Выдали ватник и нижнее белье, а через несколько дней я стал обладателем крепких сапог. Холод уже не казался таким страшным. Вскоре я получил паспорт – сложенный вдвое грубый желтый картон. На лицевой стороне, рядом с типографским латинским шрифтом словом "паспорт" был поставлен красными чернилами штамп: юде, аусфорт ферботен (выезд запрещен). На внутренней стороне паспорта – фотокарточка с печатью, а по-белорусски от руки написано, что такой-то жидовской национальности проживает в гетто, имена родителей, год и место рождения. Внизу подпись немецкого начальника.
Встретил знакомого парня Шаю Переца. Он обещал устроить меня на хорошее место работы – истопником в гараже. Назавтра у меня уже был аусвайс, где по-немецки было напечатано, что юдэ такой-то является рабочим "Гандельсгезельшафт Ост" (торговая организация "Восток") и имеет право выхода из гетто на место работы. Уклонение от маршрута угрожало расстрелом. Запрещалось находиться на рынках, продавать, покупать что-либо. Ходить только с левой стороны проезжей части улицы. Группа больше двух евреев должна двигаться колонной. Наша колонна в 30-35 человек расходилась у центральной конторы по объектам. Большинство направлялось грузчиками на товарную станцию, а мы с Перецом, пересекая две улицы и большой пустырь выгоревшей центральной части города, шли в гараж. В гараже находились две грузовые советские машины и несколько немецких легковых автомобилей.
Никакой торговлей "Гандельсгезельшафт Ост" не занималась. Она переправляла в Германию собранное по деревням масло, яйца и зерно, а также снабжала армию запчастями для автомобилей, другим оборудованием и солью. Вот и нужны были евреи на погрузочно-разгрузочные работы. Руководили всем немцы в штатском. На некоторых должностях (кладовщики) находились местные белорусы и поляки.
В гараже Перец представил меня присутствующим, назвав "Малый" (я тогда был еще мал ростом), а немцы тут же присвоили кличку "Пипель". В гараже всеми делами заправлял личный шофер начальника конторы – невысокий, с брюшком, на вид добродушный пожилой немец по фамилии Дитрих, которого все звали "Шеф". Был еще один немец-шофер, молодой, по имени Франц. По его рассказам, он разбился, когда был сброшен с парашютом при захвате Амстердама. Затем заболел туберкулезом, и его комиссовали. Если у бывшего парашютиста и был гитлеровский пыл, то сейчас уже весь вышел. Из остальных шоферов выделялся Казимеж Пежинский – стройный поляк с красивым породистым лицом молодого шляхтича. До 1939 года он окончил местную гимназию, а при Советах устроился шофером у какого-то начальника. В июне 41-го Казик добрался со своим начальником только до Могилева, участвовал в обороне города, а после падения Могилева вернулся домой. Перец и прежде знал семью Нежинских. Мать Казика заведовала детским домом, в котором воспитывались сестры Переца, и он считал ее добрейшим человеком. Казик спросил меня:
– Со мной учился в гимназии Михаил Мельник. Это твой старший брат?
Они, видно, дружили, и это чувство Казик впоследствии перенес на меня. Второй был житель города Барановичи Володя Таргонский – лет двадцати пяти, женатый, но бездетный. Остальные два – водители грузовых машин – были "восточники". О том, кем они были до войны, парни не распространялись.
В середине гаража стояла печка, переделанная из большой железной бочки. В мои обязанности входило топить печку и греть на ней воду из топленого снега для заливки в радиаторы. С Перецом я пилил и колол дрова для печки. У Переца в гетто были отец, мать, две старшие и две младшие сестры. До 1939 года они жили в Варшаве, и эта большая семья бежала на восток с подходом немцев. Они гордились тем, что их близким родственником был известный еврейский писатель И.Л. Перец.
Обедать мы ходили в контору – там в подвале собирались все евреи. В бачке приносили из ресторана суп и по кусочку хлеба. Но сильно голодать мне не приходилось. Иногда Казик или Володя приносили мне бутерброд или полбуханки хлеба, Давал мне что-нибудь поесть и "Шеф". Были и другие источники пополнения рациона. Однажды Перец, который всегда знал, чем занимаются наши грузчики, повел и меня на погрузочную работу (была оттепель, и печку не надо было топить). Мы переносили в грузовик длинные плоские ящики, в которых под соломой были упакованы яйца. Закончив погрузку, мы забирались под брезент и по дороге на товарную станцию угощались яйцами. Нужно было лишь тщательно затолкать под солому скорлупу, чтобы, следящий за погрузкой вагона немец не заметил ничего подозрительного. При загрузке вагонов пшеницей мы набирали зерно в карманы. В гетто пшеницу толкли в ступах и получалось что-то наподобие муки.
В нашем доме было несколько мальчишек и девочек моего возраста. Вечером забирались на нары, пересказывали прочитанные перед войной книжки. Нашелся потрепанный песенник, и мы пели вполголоса "Катюшу", песни про Щорса и Буденного.
В одну из пятниц я выбрался в баню. В колонне было много стариков и детей, они с любопытством оглядывались по сторонам. За месяцы пребывания в гетто они уже забыли как выглядит воля. Территория бани тоже была огорожена колючей проволокой, а над воротами – большая желтая звезда, свидетельствующая, что это анклав Барановичского гетто. Здесь хлопотали два банщика, вымазанные угольной пылью. Лишь грязные желтые латы свидетельствовали, что эти существа принадлежат к несчастному еврейскому роду. Одежду нашу унесли для прожарки.
Рядом со мной мылись два парня. У них еще сохранился предвоенный загар. Я с интересом прислушался к их разговору:
– Немцам здорово всыпали под Москвой. Говорят, без оглядки бежали до Смоленска. Америка также объявила войну Германии, так что скоро пойдем в Берлин добивать Гитлера.
Видимо, в самом деле немцы задумались о последствиях. Помню, в 30-х годах много говорили о будущей химической войне. Немцы всегда славились своей химической промышленностью, у них сейчас в запасе немало отравляющих газов, но ведь не применяют, боятся ответных действий. США, вступив в войну осенью прошлого года, видимо предупредили гитлеровцев, что в отношении евреев следует придерживаться по крайней мере тех же правил, что и по отношению к военнопленным западных стран. Вот почему уже полгода, как прекратились расстрелы еврейских местечек. В репрессированных местечках немцы создали мини-гетто, заключив там отобранных ранее нужных рабочих, а также нетрудоспособных, которым удалось спрятаться в те дни от полицаев и литовцев.
Неоднозначным оказалось и отношение немцев к нам. Раньше вывесили приказ: при встрече с немцем евреи должны "резким движением" сдернуть шапку с головы. За невыполнение приказа – расстрел. Но с этим приказом начальство оконфузилось. Вот мы идем по улице и снимаем шапки перед немцами. Те, как правило, делают вид, что нас не замечают, но некоторые, или по рассеянности, или из сострадания, прикладывают пальцы к козырьку. Недалеко от центральных ворот гетто жил в особняке немолодой генерал. По утрам он прогуливался около дома. Рядом -адъютант с овчаркой. В это время выходят на работу колонны евреев и дружно снимают шапки перед генералом, а тот отвечает воинским приветствием. Но чтобы немецкий генерал приветствовал евреев? Появляется новый приказ гитлеровцев: при встрече с немцем шапки не снимать, за нарушение приказа – стандартное наказание – расстрел.
Однажды на одну ночь привезли несколько ляховичских евреев. Попался мне навстречу наш бывший сосед Борух Спровский. Рассказал, что во время расстрела они спрятались в погребе. Вторую половину дома Спровские сдавали квартиранту – сапожнику Куликовскому. Он-то и показал литовцам, где прячутся евреи. Из всей семьи уцелел лишь Борух, накрылся кучей трапья, и его не заметили. Куликовский тут же объявил себя хозяином всего дома, и из награбленного выдал Боруху лишь полушубок.
Еще об одном открытии. Был у нас в гимназии "возьны" (вахтер) верзила со злым лошадиным лицом. Изъяснялся он на малопонятном силезском наречии. Признаться, я его побаивался, чувствовал, что он ненавидит меня. После прихода Советов вахтера повысили, назначив заведовать общежитием. В кругу учеников он рассказывал, что он пролетарий, бывший силезский шахтер. В доказательство демонстрировал свои большущие руки. Однажды, находясь за забором в гетто, я наблюдал, как на арийской противоположной. стороне улицы, где находилось управление СД, шныряют туда и обратно офицеры этого зловещего учреждения. Вот на крыльцо легко вбежал офицер в черном мундире, задержался, чтобы поговорить с выходящим немцем, повернулся ко мне боком, и я его узнал. Это был бывший "возьный" гимназии. Теперь этот бывший шахтер, пролетарий и борец за коммунизм остался в Барановичах в настоящем своем обличий. Оказывается, НКВД и здесь прошляпило. Вместо немощной старухи Рейтановой надо было в Сибирь отправить настоящего немецкого шпиона.
Евреи, проходившие на работу мимо центральной площади, рассказали, что под видом партизан повесили несколько привезенных из деревни белорусов. Вешали литовцы.
В тот год на 14 марта выпадал веселый праздник Пурим. В далекие времена царя Ахашвероша коварный царский вельможа Аман добился декрета об истреблении евреев. Однако единственный раз за всю историю галута евреям разрешили защищаться. Они, взявшись за мечи, победили врагов. Но гитлеровцы решили нам показать, что XX век – не древняя история. Накануне праздника я пришел в обеденный перерыв в гетто, благо от гаража это было недалеко. Вдруг по улице забегали люди. По их взволнованным лицам видно было: случилась беда. Оказывается, закрыли ворота в дальнем конце гетто и оттуда уже никого не выпускают. Но недалеко находятся главные ворота, а там еще все по-прежнему. Предъявляю полицейскому "аусвайс" и выхожу из гетто. Отойдя метров на
пятьдесят, оборачиваюсь и вижу: из здания комендантуры выходят немцы с полицаями и закрывают главные ворота. Выпуск евреев из гетто прекращается. В гараже – обычная работа. Если выйти из боковой двери гаража, за пустырем просматривается ближний угол гетто. У ограды уже усилена охрана: полицаи через каждые 10-15 метров. Проходит несколько часов, за оградой гетто людей не видно. Где-то запропастился Перец. Вечереет, в гетто возвращаются колонны рабочих. Я решил туда не идти. Прячусь в легковой машине, стоящей в темном углу. Последним уходит Шеф. Щелчок замка и удаляющиеся шаги. Я прижался к теплой печке и задремал.
Наконец рассветает. У ограды гетто – густая цепь полицаев. За колючей проволокой – темная, неподвижная толпа людей. Из ворот гетто евреи не выходят. Дальше оставаться здесь опасно. Я срываю свои "латы" и бегу в контору. Спускаюсь в подвал. У стены на ящиках сидят евреи нашей группы. Они здесь прячутся со вчерашнего дня. Проходит в тоскливой безвестности час. Но вот по улице проносятся на большой скорости грузовики, и, хотя окошки в подвале на уровне земли, видно, что в крытых брезентом грузовиках полно евреев, а у задних бортов – литовцы. Из машин доносятся отчаянные женские и детские крики. Эти крики разносятся по всему городу. Везут людей на расстрел на виду у всех, на виду у всего города. Это длится час, второй, третий. Одни прохожие смотрят вослед с сочувствием, другие делают вид, будто ничего не замечают, есть и злорадствующие. Движение машин с обреченными на смерть прекратилось в полдень. С окраины города слышны мощные взрывы, рвут мерзлую землю, чтобы засыпать убитых. Появился Перец, он провел ночь на чердаке у Володи Таргонского.
Вечереет, мы возвращаемся в гетто. Там плач и уныние. Лица почернели, с трудом узнаю знакомых. Нет семьи, которую не постигло бы горе утраты родственников. Убили четыре тысячи человек, каждого третьего узника. Вот и устроили нам гитлеровцы веселый праздник Пурим! Они в курсе, и делается это нарочно.
Узнаём подробности. Вчера вечером объявили, что все рабочие должны получить новые "аусвайсы" с перечислением иждивенцев и всей семьей явиться к пяти часам утра на площадь в гетто. Юденрат работал всю ночь, заполняя анкеты, которые должны были стать "картами жизни". Одинокие старики, женщины, а также не поверившие в чудодейственную силу "аусвайсов" попрятались. Врачи прятали больных и пожилых дома престарелых.