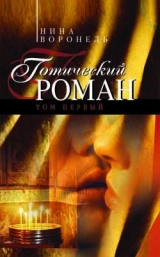
Текст книги "Готический роман. Том 1"
Автор книги: Нина Воронель
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Отто
С минуты отъезда Инге Отто ждал ее возвращения. Сперва он просто хотел, чтобы она сидела рядом с ним возле телевизора, дышала, двигалась, подавала ему чай и грелку, а он бы ее любил и радовался, что она такая красивая, высокая и независимая. Но постепенно его любовь стала привычно переходить в ненависть, и чем дольше длилась мука его ожидания, тем больше он ненавидел дочь. Как всегда в такие минуты, именно ее красота и независимость становились ему особенно непереносимы – его воображение рисовало ему ужасные картины ее похождений неизвестно где и неизвестно с кем. Теперь он уже ждал ее, чтобы наказать и уязвить побольнее.
Отто с удовольствием смаковал все прошлые случаи, когда ему удалось сделать ей больно. А случаев таких было немало, – было! было! – хоть ему это всякий раз давалось непросто: вся правая сторона его тела была парализована полностью, а кисть левой, частично подвижной руки, оторвало снарядом во вторую мировую войну в танковом бою за гиблый городишко с косноязычным названием Курск. Это название многократно выкрикивали вороны, кружась над трупами после битвы: «Кур-р-с! Кур-р-с! Кур-р-с!» Отто, истекая кровью, слушал их крики из-под нависшей над ним гусеницы подбитого русского танка и думал, что будет, когда его найдут русские солдаты, отрывистая перекличка которых не могла заглушить надсадного карканья пирующих ворон.
Ему тогда повезло, и русские солдаты его не заметили. Когда они ушли, унося своих раненых и гоня перед собой пленных, Отто исхитрился зубами затянуть обрывки рукава над зияющей дырой повыше запястья и пополз в противоположную сторону, то и дело теряя сознание. Он так и не узнал, кто и где его подобрал, но когда он через пару дней очнулся в немецком полевом госпитале, на месте кисти левой руки у него была туго забинтованная культяпка. К этой культяпке ему со временем приладили хитроумный протез, напоминающий двузубую вилку, с которым он научился довольно ловко управляться. Так что много лет он прожил неплохо и без руки, пока его не разбил паралич и он не попал в полную зависимость от своей слишком красивой и независимой дочери, у которой на уме были одни только мужики.
Отто уже издалека услышал, как взревывает фургон, взбираясь по крутой дороге к замку, – за последние годы его слух, на тренированный долгими ожиданиями, необычайно обострился. Он откатился к окну и стал следить, как Инге паркует фургон. Его комнаты были расположены в полуподвальном этаже, – для удобства, чтобы он мог сам вкатывать и выкатывать кресло во двор, – и потому он мог видеть только колеса и ноги.
Что-то явно было не в порядке. Вместо того, чтобы поставить фургон в гараж – а это следовало бы сделать сразу в такую дождливую ночь – Инге подкатила задним ходом к его, Отто, специальному входу. Кузов фургона заслонял Отто дверь, он видел только, как ноги дочери в высоких белых сапогах прошагали вдоль колес фургона в сторону входа. Отто думал, что она первым делом зайдет проведать его, и приготовился встретить ее гневными упреками, как она того заслуживала, но она к нему не зашла вовсе. Погрохотав чем-то железным в коридоре, она снова появилась во дворе и скрылась за фургоном. Ноги в белых сапогах мелькали так быстро, будто она отбивала чечетку, но толком рассмотреть, что она там делает, Отто не мог, и от этого раздражение его стало совершенно невыносимым. Он больше не мог сдерживать свой гнев и начал изо всех сил колотить своей стальной лапой в рельс.
Дочь наверняка не могла его не слышать, однако она не обратила на его призывы никакого внимания, а продолжала свои странные пляски вокруг фургона. Рядом с ее сапогами толклись по лужам серебристые лапы Ральфа. Тяжелая зависть к Ральфу сдавила горло Отто, и он прикрыл глаза, обессиленный и покинутый, – кто угодно, даже пес, имел право на участие в ее делах, но только не он. Когда он снова открыл глаза, и ноги, и лапы исчезли из-под фургона, который так и остался торчать перед его окнами, загораживая ему вид на все ночное пространство, залитое дождем. Отто подождал еще немного, надеясь, что теперь она найдет время заглянуть к нему. Он отъехал от окна и невидящими глазами уставился на экран телевизора, на котором по случаю позднего часа давно уже мерцала неподвижная цветная заставка.
Прошло еще сколько-то времени, он не мог сказать – сколько, а она так и не зашла. Тогда Отто решил действовать самостоятельно. Он направил кресло к выходу. Он не очень любил выезжать из своих комнат без посторонней помощи, потому что на это уходили все его силы, но сейчас выбора не было.
Необходимо было узнать, что у нее там стряслось. И если понадобится, принимать меры.
Ури
Конечно, это был бред. Над головой высоко-высоко смыкался обрамленный черными балками красный кирпичный свод, напоминающий церковный. Но все же лежал он не в церкви, а в том отделе преисподней, где туши грешников разделывают для обжарки. Все инструменты, необходимые для освежевания и расчленения грешных тел, были милостиво представлены ему для обозрения на противоположной стене: начищенные до блеска, они поражали разнообразием: топоры, топорики, секачи, секачики, ножи, ножики, ножищи, трезубцы, двузубцы, пилки, пилочки, пилы, ковши, ковшики, черпалки – для крови, конечно. Ури попытался их пересчитать, чтобы собраться с мыслями, но цифры в голове разбегались и не сходились, а уж о мыслях и говорить было нечего. Мысли всплывали, барахтались на поверхности сознания и тут же тонули, как мусор в сточной канаве после сильного ливня.
За высокими стрельчатыми окнами царила беспросветная тьма. И вдруг в черной заоконной пустоте возникла косматая голова лешего Губертуса, не такая огромная, как на стене кабачка, но достаточно грозная – прижавшись бородатым лицом к стеклу, леший внимательно и недобро разглядывал Ури.
Ури с трудом повернул голову в сторону окна, и Губертус тут же исчез, оставив после себя на оконном стекле переливчатый узор дождевых капель.
Значит, все-таки бред.
Ури приподнялся на локте и огляделся, с трудом преодолевая качнувшую его назад дурноту. Черт его знает, а может, все-таки не бред? Уж очень реалистически выглядела эта огромная кухня с круглым столом на резных ножках в центре и с изразцовой печью в углу. Стену, на которой были экспонированы режущие орудия, снизу подпирала облицованная бордовым гранитом буфетная стойка, сплошь уставленная современными кухонными агрегатами.
Ури потрогал пальцами наброшенный на его плечи черный махровый халат и порылся в своей слабо мерцающей памяти, но никакой логической связи между собой, этой кухней и этим халатом не нашел. Тогда он ухватился за поручни кресла и попытался встать. Пронзительная боль в правой ноге швырнула бы его на пол, если бы у него не были такие сильные руки. С трудом удержав равновесие, он откинулся назад на подушки кресла, которое под натиском его тела сдвинулось с места и, поскрипывая колесиками, покатилось к резным двустворчатым дверям. После этого пируэта его охватила такая парализующая слабость, что он почувствовал себя совершенно беззащитным и закрыл глаза в предчувствии неминуемого удара больной ногой о дверь. Но в лицо ему дохнул порыв холодного ветра, и кресло внезапно остановилось.
Он с трудом разлепил свинцово отяжелевшие веки и тут же поспешно прикрыл их: упершись в кресло длинной ногой в белом сапоге, в темном дверном проеме стояла мать. Не сегодняшняя, раздражающая и покорная, а давняя, почти забытая, всегда ускользавшая от него к другим.
Чужой, очень немецкий, голос произнес властно:
– Куда это вы разогнались, господин парашютист?
И кресло, все так же поскрипывая колесиками, покатилось обратно в угол к изразцовой печи. Ури опять разлепил веки и глянул в склонившееся над ним лицо – ничего похожего на мать в нем не было, кроме тяжелой, цвета меда, обрамляющей волны волос. Глаза под упавшими на лоб прядями были большие и плоские, как озера в степи, белки их, не закругляясь, были вправлены под надбровья вровень с глазницами. Дома у него таких глаз не носили – там глазные яблоки у всех были круглые, как и положено яблокам.
Лицо отодвинулось и исчезло. Так поразившая его мгновенная иллюзия сходства шла от ног в высоких белых сапогах. Белые сапоги сделали шаг влево. Ури с трудом повернулся всем телом вслед за ними, и взгляд его уперся в резную горку для хрусталя – там, в сумеречном застекольном пространстве, стояли ряды разноцветных прозрачных бутылей и переливчатых темных флаконов. Рука в синем комбинезонном рукаве плеснула в стакан немного воды из чайника, потом взяла с полки флакон, вынула из него граненую пробку и перевернула над стаканом. Из узкого горлышка начали сочиться тяжелые лиловые капли.
Рядом с ногами бесшумно появился недружелюбный серебристый зверь, при виде которого Ури сразу все вспомнил: и фургон у дверей кабачка, и неудачно открытую им дверцу фургона, и схватку на мокрых булыжниках. И билет, срок действия которого кончался в семь тридцать. И последние две марки, которые он оставил на стойке. И владелицу белых сапог и властного голоса – только тогда вместо синего комбинезона на ней был туго перетянутый поясом белый плащ. И главное – мать, которая (о ужас!) будет напрасно встречать его утром в аэропорту Бен-Гурион.
– Который час? – спросил Ури хрипло, не узнавая собственный голос.
– Какая разница? – ответила женщина, сосредоточенно считая капли. – На свой самолет вы все равно уже опоздали.
– Как опоздал? Который час? – повторил Ури.
– Без двадцати четыре. А ваш самолет в семь, так что шанса успеть нет.
– Откуда вы знаете про самолет? – ощетинился Ури.
– По линиям ладони, – усмехнулась она, аккуратно возвращая флакон на место и снимая с полки другой. – А кроме того, пока вы тут метались в бреду, Ури, вы всю свою жизнь успели мне рассказать.
И опять принялась считать капли, на этот раз оранжево-желтые.
– И имя свое я вам тоже сказал? – не поверил Ури, тщетно пытаясь сообразить, как он тут оказался.
В ответ она приложила палец к губам, опустила флакон на стол, ловко перевернула стоящие рядом крошечные песочные часы и встряхнула содержимое стакана. Смесь вспузырилась и начала быстро краснеть. Ури заметил, что губы женщины шевелятся в такт взмахам стакана, и подумал мимолетно: ворожит она, что ли? Словно в подтверждение этого предположения она, дождавшись, пока нижний конус часов наполнился до первой черты, обхватила стакан с двух сторон и начала бережно крутить его в ладонях, словно согревая. Губы ее по-прежнему размеренно что-то шептали, взгляд был неотрывно устремлен на пузырящуюся в стакане жидкость, отчего в плоских синих зеркалах ее глаз вспыхивали и гасли малиновые искры.
Когда нижний конус часов наполнился до второй черты, она сняла с крючка на стене длинную серебряную ложку странной формы и склонилась над Ури:
– А теперь надо выпить это до дна. Можно не спеша.
Ури с опаской поглядел на густой темно-красный напиток:
– Я надеюсь, это не кровь невинных младенцев?
Женщина засмеялась:
– Неужели я выгляжу такой злодейкой? – она зачерпнула ложку жидкости и поднесла к губам Ури. – Пейте!
Может, злодейкой она и не выглядела, но ложку-то выбрала из знакомой коллекции пыточных орудий. Поэтому Ури заупрямился и отвел ложку в сторону подальше от себя:
– Но я не знаю, что это. И вообще – кто вы и как я сюда попал?
– Я – Инге, мы это уже выясняли. Вы что, ничего не помните? – она с досадой прикусила губу, раздраженно плюхнула напиток из ложки назад в стакан и стала стягивать с себя сапоги. Бросив сапоги под стол, она, оставляя мокрые следы на лакированных досках пола, прошла к буфету, сняла с полки фарфоровый чайник и начала заваривать чай. Эти лакированные доски мимолетно зарегистрировались в сознании Ури знаком дополнительной опасности: ему в жизни не приходилось видеть лакированный деревянный пол в кухне. Надо было срочно уносить ноги из этой ловушки.
– Где моя одежда, Инге? – спросил он, намеренно делая ударение на ее имени, словно надеясь этим ее разоблачить, хоть он сам не знал, в чем.
– В сушке, Ури. – Она тоже сделала намеренное ударение на его имени, явно пытаясь заслужить его доверие. – А что?
– Я, пожалуй, попробовал бы добраться до Мюнхена.
– Мне кажется, вы уже пробовали встать, Ури. – Она налила себе чай в цветную кружку и стала жадно пить. – И ничего не вышло, правда?
– Вы что, ясновидящая?
Она пожала плечами:
– А как еще вы могли бы с такой скоростью раскатить кресло мне навстречу? С вашей поврежденной ногой?
– А что с моей ногой? – испугался он.
– Сейчас мы это выясним.
Она поставила пустую кружку на стол и бесцеремонно подняла сильной рукой его правую ногу, на которой он с удивлением обнаружил чужой шерстяной носок. Упершись в его колено одной рукой, она стала другой бережно склонять его ступню носком вперед, пока острая боль не перехватила ему дыхание.
– Вывих в щиколотке, как я и думала, – объявила она, – придется потерпеть.
И не дав ему времени на возражения, она умело рванула его ступню на себя, слегка выворачивая ее наружу неуловимым спиральным движением. В глазах у него потемнело, в щиколотке что-то хрустнуло, и ему на миг показалось, что ступня его отделилась от остальной ноги. И сразу же наступило облегчение – отломанная нога больше не беспокоила, будто перестала существовать.
– Вот и все, – сказала женщина. – Завтра вы сможете пешком идти в Мюнхен. Если удастся сбить вам температуру, – ее прохладная ладонь мгновенно коснулась его лба и упорхнула. – Ну и жар у вас: тридцать девять и пять, не меньше.
И она опять поднесла к его губам свой кровавый напиток, на этот раз уже без ложки.
– Лучше пейте залпом, потому что горько.
Готовый сдаться, он спросил, не настаивая и без подвоха, а просто так, чтобы оставить за собой последнее слово:
– Вы что – врач?
– Нет, – устало усмехнулась она. – Я – местная ведьма. Два века назад меня бы за такое сожгли на костре.
Клаус
Когда я проснулся утром, дождь уже не шел. Я не стал одеваться, а пошел на кухню посмотреть, что мамка приготовила сегодня на завтрак. Но там не было ни булочек, ни колбасы, а кофейная машина стояла пустая – без воды и без кофе. И тут я вспомнил, что мамка уехала ночевать в город к тете Луизе, а меня с собой не взяла.
Ну, раз мамки не было, я мог не умываться и не принимать душ. Колбасу я нашел в холодильнике, а с кофейной машиной я научился управляться сам с тех пор, как мамка начала часто ночевать в городе без меня. После завтрака мне очень захотелось поехать в замок и узнать, что фрау Инге сделала с парашютистом. Я точно знал, что она увезла его в своем фургоне – ведь я сам помог ей втащить его туда.
По дороге я думал про парашютиста – как я спрошу его про парашют, если увижу его в замке. И как он мне расскажет, куда он его спрятал, и как я пойду туда и найду. И принесу его фрау Инге, а она удивится и скажет:
– Какой ты молодец, Клаус! А я тебе не верила.
И, может, даже даст мне те пять марок для автомата, которые я не получил из-за мамкиной забастовки.
И тут я остановился, как вкопанный, на крутом подъеме – ведь я совсем забыл про забастовку! Ведь раз у нас забастовка, мне нельзя ехать в замок! А замок уже поднимался прямо передо мной – отсюда с поворота можно было видеть сразу все три его башни – две старинные, низкие, разрушенные, с дырами вместо окон, и одну целую, высокую, в которой можно было жить. Если подъехать к замку ближе, то старые башни увидеть уже нельзя – их закрывает высокая зубчатая стена, перед которой много веков назад был вырыт глубокий ров, чтобы враги не могли ворваться в ворота. С того места, где я стоял, можно было даже разглядеть старинную картинку, выложенную мелкими камешками над парадным входом. На картинке пять рыцарей на конях барахтались в мыльной пене, которая сливалась на них сверху из какой-то не видной нам стиральной машины.
Я знал, что мне не следует заходить в замок, но все же подъехал совсем близко, проехал через висячий мост надо рвом, остановился у ворот и посмотрел вниз, в сторону деревни. Мамки нигде не было видно, а значит, и она не могла меня видеть, так что я отпер ворота своим ключом и вкатил велосипед во двор, хоть все время думал о том, что мамка не велела мне приходить сегодня сюда помогать фрау Инге.
– Пусть она обойдется без нас! Где она еще найдет таких дураков, чтобы вычищали говно ее свиней за такие гроши? – кричала мамка, пока примеряла свое новое платье, которое делало ее ноги еще короче, чем они были на самом деле. Но мамка этого не замечала – она себе очень нравилась в этом платье, она все одергивала его на заднице и повторяла:
– Какую шикарную фигуру оно мне делает, правда?
И опять возвращалась к фрау Инге:
– Она бы умерла от зависти, если бы она меня сейчас увидела.
Я почему-то не думаю, что фрау Инге умерла бы от зависти, если бы она увидела мамку в любом платье, но вот мамка точно умерла бы от злости, если бы увидела меня в замке, когда у нее забастовка. Никто меня еще не заметил, кроме Ральфа, который помахал мне хвостом, но навстречу не пошел. Так что я еще мог развернуться, нажать на педали и уехать домой. Но мне очень не хотелось уезжать, не повидав парашютиста, и я подумал, что вполне мог бы забыть про забастовку. Ведь мамка сама часто говорит, что у меня голова, как дырявая корзина. Вот я и забуду – пусть знает, как говорить про меня такое!
В замке было тихо, все, наверно, еще спали, и я пошел в свинарник. Свиньи очень обрадовались, когда меня увидели. Они всем скопом бросились мне навстречу, и самые смелые стали тереться об мои ноги. Они так толкались, стараясь протиснуться ко мне поближе, что чуть не опрокинули меня в грязь. Я почесал за ухом серого борова Ганса, которого я сам вырастил из маленького розового поросеночка, а потом пошел в кормовую и принялся готовить им еду, а Ганс увязался за мной. Он, наверно, здорово соскучился по мне за вчерашний день, а может, даже обиделся на меня, но я ничего не мог ему объяснить, он бы все равно не понял про забастовку.
Пока я смешивал в миксере отруби и витамины, я рассказывал Гансу про парашютиста. Ему можно было рассказать всю правду. И про поезд, и про окно, и про знаменитого тренера Эриха Кройца, – уж он точно не мог ничего разболтать Дитеру-фашисту. Он мог только хрюкать и просить меня еще и еще почесать ему спину. У него спина всегда чешется, но он ничего не может с этим поделать, кроме как тереться спиной о косяк двери или об стенку.
Ну, я почесал его, разлил смесь по кормушкам и покатил их в свинарник. И вдруг я увидел фрау Инге. Она стояла возле крана в своем синем комбинезоне со шлангом в руке, но воду не открывала, потому что слушала мой рассказ. Я остановился на пороге и уставился на нее. Волосы ее были перехвачены на лбу плотной синей повязкой, и оттого она была сегодня особенно красивая.
Мне очень хотелось узнать, как много она успела подслушать из того, что я рассказал Гансу, но она не подала виду, что вообще что-то слышала, а улыбнулась и спросила:
– Что, забастовка уже кончилась?
Надо же – ведь у нас забастовка! А я опять про нее забыл и не знал, что сказать в ответ. Фрау Инге поняла это по моему лицу и спросила:
– Мать не ночевала дома, да?
Я молча кивнул и покатил кормушки к свиньям, которые при виде еды подняли ужасный шум.
– Она небось опять отправилась на свои всенощные радения?
Я ни слова не понял из того, что она сказала, но снова молча кивнул, чтобы не связываться. Свиньи с радостным визгом столпились у кормушек, а фрау Инге включила, наконец, воду и направила сильную струю из шланга вниз, чтобы смыть грязь, которая собралась на полу за вчерашний день. Обычно это делает мамка, но сегодня мамка не пришла и мне тоже не велела приходить.
Представив себе, как она рассердится, когда узнает, что я кормил тут свиней, я стал пятиться к выходу и, конечно, зацепился ботинком за шланг – я всегда за все зацепляюсь. Шланг взвился, как живой, и вырвался из крана, окатив меня и фрау Инге холодным душем. Ну и хорошо, я ведь сегодня утром душ не принял, а теперь это стало неважно. Я испугался, что фрау Инге сейчас на меня рассердится, но она только засмеялась и сказала, стряхивая капли воды с волос:
– Да не бойся ты ее, я не стану ей рассказывать, что ты кормил свиней.
Откуда она узнала, что я боюсь мамку? Может, она и вправду ведьма? Потому что она добавила:
– Ладно, теперь ты можешь пойти к Отто и помочь ему завтракать. Ведь ты, наверно, хочешь рассказать ему про парашютиста?
Как она догадалась, что мне хотелось поговорить с Отто? Я люблю с ним разговаривать – не так, как с Гансом, конечно (Ганс – мой друг), но больше, чем с другими: ведь он не может обругать меня и назвать идиотом. Или выдать меня Дитеру-фашисту. Разве только если у Дитера хватит терпения выслушать, как Отто отстукивает ему мой рассказ своей стальной лапой. А на это ни у кого никогда не хватает терпения, даже у меня, тем более, что я не все его стуки понимаю. Я понимаю только что-нибудь простое – как например, если он просит подать ему горшок, или дать ему попить, или включить свет. Фрау Инге долго меня учила, а я никак не мог научиться, но она очень упрямая, фрау Инге. Она хоть и добрая – не то, что мамка, – та просто зверь, когда сердится, – но она тоже умеет заставлять. Особенно если у нее плохое настроение. А последнее время у нее всегда плохое настроение. Тут я вспомнил, как она только что смеялась, когда стряхивала капли воды со своих мокрых волос, и мне показалось, что сегодня настроение у нее было гораздо лучше, чем все прошлые дни, – с тех пор, как сбежал Карл.
Я сказал про это Отто, когда кормил его завтраком, а он почему-то так страшно на меня за это рассердился, что стал сбрасывать тарелки и чашки со столика, который я прикручиваю к его креслу для еды. Тут из кухни ворвалась дневная сиделка – фрау Штрайх. Она не любит, когда Отто бузит и сталкивает на пол все, до чего может дотянуться своей лапой. Она начинает кудахтать, как курица, и быстро-быстро подбирать сброшенные вещи, которые Отто тут же сбрасывает назад. Я мог бы его успокоить – меня он иногда слушается, если я чешу ему спину, как Гансу, – но не успел, потому что услышал мамкины крики.
Она вопила так громко, что мы могли слышать каждое ее слово. Хоть лучше было бы ее совсем не слышать. Она орала:
– Я требую, чтобы мне немедленно вернули моего сына!
То есть меня.
Услыхав мамкин голос, Отто перестал сбрасывать тарелки со столика, а фрау Штрайх подняла свои выщипанные бровки выше своих больших очков и стала укоризненно качать головой, будто я был в чем-то виноват.
– А если мне его не вернут, я вызову полицию! – надрывалась мамка, и можно было подумать, что я лежу связанный где-то в подвале с кляпом во рту, как в телевизоре.
Я подвез Отто к окну, и мы стали смотреть, что делается во дворе. Мамка в своем новом вишневом пальто стояла, подбоченясь перед фрау Инге на пороге свинарника, делая вид, что фрау Инге не пускает ее войти вовнутрь. Но я знаю свою мамку: на самом деле она вовсе не хотела входить в свинарник, чтобы не испачкать свиным говном свои модные сапоги из белой замши. Дома она каждый раз, снимая эти сапоги, заворачивает их в папиросную бумагу и прячет в специальной коробке на верхнюю полку шифоньера.
Фрау Штрайх стала подталкивать меня к выходу – она, наверно, очень боялась, что мамка и вправду вызовет полицию. Но я не хотел выходить. Мне было интересно посмотреть, войдет ли мамка, в конце концов, в свинарник или нет. Тут Отто стал ржать, как ненормальный, хоть, по-моему, ничего смешного там не было. Он так хохотал, что опять сбросил со столика все, что фрау Штрайх успела туда поставить. И тогда фрау Штрайх заплакала. Она плакала очень тихо, даже не всхлипывая, только большие прозрачные слезы вытекали из-под ее очков на щеки и стекали вниз, пока она не слизывала их языком.
Я больше не мог вынести все это. Мне совсем не хотелось встречаться с мамкой, но делать было нечего. Я надел куртку и вышел во двор. Увидев меня, мамка завопила еще громче – наверно, она до сих пор не была уверена, что я и вправду в замке.
– Ага, вот он! – она показывала на меня пальцем, хоть сама всегда твердила мне, что показывать на человека пальцем неприлично. – А ты говоришь, что его тут нет!
Это ужасно смешно, что мамка и фрау Инге говорят друг другу «ты», потому что они когда-то вместе учились в школе. И смешно, что они вместе учились в школе, и фрау Инге вышла такая ученая, а мамка – совсем наоборот.
– Я сказала, что его нет в свинарнике, – пожала плечами фрау Инге.
– Какая разница, за кем он выносит говно, за свиньями или за Отто? Мы с ним бастуем, и нечего ему сюда таскаться!
Фрау Инге подняла руку, чтобы поправить повязку на волосах, и я увидел, что она все еще держит шланг.
– Что ж, можешь его отсюда забирать. Да поживее, мне надо работать!
С этими словами она повернулась и собралась пойти обратно в свинарник, но вы не знаете мою мамку. От нее нельзя так просто отделаться – повернуться и уйти, будто ее тут нет!
– Нет уж! – завизжала она. А визжать она умеет. – Сперва ты объяснишь мне, как тебе удалось приворожить моего сына, что он пришел служить тебе даже во время забастовки!
Это опять про меня, что я пришел кормить свиней.
Я открыл было рот сказать, что никто меня не ворожил, а я просто забыл про ее забастовку, но мамка схватила меня за рукав и начала волочь к воротам.
– А ты, дурак несчастный, убирайся отсюда! Ты у меня еще получишь по заслугам!
Я хотел вырваться, но она от злости стала очень сильная, так что мы застряли с ней на полдороге, толкая друг друга то взад, то вперед. Поняв, что выгнать меня так просто ей не удастся, мамка оставила меня и опять бросилась на фрау Инге.
– Чем ты его опоила, ведьма проклятая? – визжала она. – Ты, небось, думаешь – он и дальше будет у тебя в рабстве? Так нет же! Я все твои приворотные зелья своими руками уничтожу!
Фрау Инге резко обернулась, и глаза у нее стали узкие и злые, каких я никогда раньше у нее не видел.
– А к кому ты потом побежишь за помощью, когда опять подзалетишь от прохожего молодца?
Тут мамка взвилась, будто ей всадили в зад иголку:
– А может, я и не подзалетала вовсе? Может, это все ворожба твоя, и ничего у меня не было? Точно! Потому и зелья твои мне помогали, что не было у меня ничего!
И она ринулась к кухонной двери. Фрау Инге подняла шланг и нажала пусковую кнопку. Сильная струя ударила мамке в спину. Ее вишневое пальто сразу стало черным, но это не остановило ее. Она уже подбегала к крутым гранитным ступенькам, которые вели к кухонным дверям. Но в тот момент, когда она схватилась за перила и сделала первый шаг на первую ступеньку, дверь кухни распахнулась, и навстречу ей вышел парашютист. Опираясь на тяжелую дубовую палку, которая осталась от Карла, он остановился на гранитной площадке перед дверью – очень бледный, очень высокий, очень непохожий на всех людей в нашей деревне. Он ничего не говорил и не двигался – он просто стоял, опираясь на палку, и смотрел сверху на мамку, но по спине у меня побежали мурашки. Я представил себе, как он прыгнул в окно вагона, и мне стало страшно, что он может так же прыгнуть на мамку.
– Мамка! – закричал я. – Беги!
Все-таки она была моя мамка, хоть и противная, и злая, но моя.
Мамка застыла на минутку на месте и стала пятиться к воротам, делая правой рукой какие-то странные движения, словно она отгоняла от себя мух.
– Сын Тьмы! – шептала она. – Сгинь, сгинь, дьявольское отродье!
Но парашютист никуда не сгинул, а наоборот – шагнул к ступенькам, словно направляясь в мамкину сторону. Мамка схватила меня за руку и потащила к воротам:
– Скорей, скорей отсюда! – шипела она мне. – Пока они не сотворили нам зла!
Но я все же вырвался от нее и пошел за своим велосипедом – не думала же она, что я потащусь с горы пешком? Мамка не стала мне мешать, она вдруг перестала сердиться и вся как-то сникла, даже размером стала меньше, будто проколотая шина, из которой выпустили воздух. Мне даже стало ее жалко, я уже знал, что дома она будет плакать и проклинать свою несчастную судьбу, которая послала ей сына-урода, то есть меня.
Мамка остановилась и обернулась к фрау Инге, которая молча стояла на пороге свинарника со шлангом в руке, – она забыла его закрыть, и поток воды сбегал от ее ног вниз к воротам.
– Мы уходим! – объявила ей мамка. – И вернемся, когда будут приняты условия нашей забастовки.
А я даже не знал, что у нашей забастовки есть условия, я думал – это просто так забастовка, чтобы мамка могла поехать в город к тете Луизе. Но и фрау Инге не стала спрашивать, какие такие у нас условия. Она закрыла кран на шланге и сказала тихо, голос у нее был усталый:
– Можете не возвращаться – вы уволены.
Я не понял – что значит, не приходить больше? И спросил:
– А как же Ганс?
Я еще хотел спросить про Отто, он ведь тоже ко мне привык, почти как Ганс, но мамка дала мне подзатыльник и прошипела:
– Заткнись, дурак несчастный!
А потом спросила у фрау Инге:
– А кто же нам зарплату теперь платить будет?
Фрау Инге повесила шланг на ручку двери и стала стаскивать с пальцев резиновые перчатки. Перчатки никак не стаскивались, они трещали и пузырились, и это раздражало фрау Инге.
– Об этом ты спроси того, кто научил тебя бастовать.
Мамка хотела что-то ей ответить, но фрау Инге не стала ее слушать. Она, наконец, стянула перчатки, сунула их в карман комбинезона, а потом подошла к мамке и протянула руку:
– Отдавай мои ключи, Марта. Кончай спектакль и уходи.
– Ключи? Какие ключи? – запричитала мамка. – Нет у меня никаких ключей.
Она даже открыла свою белую сумочку, чтобы показать фрау Инге, что там нет ключей. Это была чистая правда – ключи были у меня в кармане. Я хотел было сказать об этом и сунул даже руку в карман, но мамка быстро схватилась за руль моего велосипеда и покатила его к воротам. Так что мне пришлось схватиться за руль с другой стороны и пойти за ней.
– Я обязательно принесу ключи завтра или, может, даже сегодня, – часто тараторила мамка, наверно, врала, – она всегда говорит быстро-быстро, когда врет. И все сильней напирала на велосипед, а велосипед напирал на меня, так что мы почти бежали, будто ветер выносил нас из замка.
Я очень удивился, что мамка вдруг так заспешила уходить. То кричала и ссорилась, а то вдруг заспешила. Мне очень хотелось остаться, она ведь мне даже не дала попрощаться с Гансом. Я шел за ней и все оборачивался на фрау Инге – мне казалось, что она возьмет и скажет, чтобы я остался. Кроме того, я не хотел уходить, потому что не знал, будет ли фрау Инге теперь давать мне каждую неделю мои пять марок. И потому что я так и не успел спросить парашютиста, где он спрятал свой парашют.








