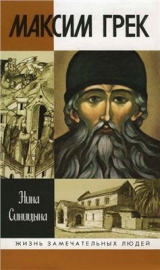
Текст книги "Максим Грек"
Автор книги: Нина Синицына
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Далее в летописи следует рассказ о видении «инокине слепой». Простирая молитвы к Богу об избавлении от скорби, она вдруг слышит шум велик от страшного вихря и звон колоколов на площади, и «Божественным мановением была восхищена умом», оказалась вне монастыря, и открылись ее «мысленные очи», а вместе и «чювственные», и ей явилось «видение великое и дивное», не как во сне, но как будто наяву: идет из города через Фроловские ворота собор светолепных мужей, как будто сотканных из света, в освященных одеждах, многие митрополиты и епископы, а среди них узнаются великие чудотворцы Петр, Алексей и Иона, Леонтий Ростовский, многие другие иереи, диаконы и прочий причет, а с ними движется и чудотворный образ Богоматери Владимирской и прочие святыни, а далее идет из города бесчисленное множество народа. И навстречу им от Ильинского торга быстро идет Сергий Великий чудотворец, а из другого места Варлаам Хутынский чудотворец. Инокиня слышит беседу преподобных и святителей.
Моление преподобных. Иоба преподобных согласно припадают к ногам святителей и молят их со слезами: «Святые пастыри, чего ради исходите из града сего и куда направляетесь и кому оставляете паству вашу в настоящее сие время варварского нашествия?»
Ответ святителей.Световидные же святители отвечали тоже со слезами: «Мы молили всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от предстоящей скорби, Бог же нам повелел не только уйти из города, но и унести чудотворный образ Богоматери, потому что люди презрели страх Божий и Его заповеди, и поэтому Бог чтобы наказать их попустил прийти сюда варварам и к Богу их вернуть покаянием».
Моление преподобных:«Двоица преподобных Сергий и Варлаам с плачем молили их и с плачем говорили:"Вы, о святые святители, когда были еще в этой жизни, души свои полагали о пастве вашей. Неужели же ныне, в настоящей их скорби, вы хотите их оставить? Ведь вы видите, что они ходят, сетуя, и обращаются к покаянию? Не презрите их, молим вас, не оставляйте паствы, порученной вам Богом, настало ваше время помочь им, усугубите прилежные ваши молитвы к Пречистой Богородице, чтобы она умолила вместе с вами Сына своего Христа Бога нашего праведный Его гнев переменить на милость, а люди его будут стараться делать богоугодные дела".
Совокупная молитва последовала за этими словами, и все возвратились в город с чудотворным образом Богоматери и со всеми святынями. А видевшая это инокиня вновь очутилась в своей келье, после этого прожила еще два года, а ее слепые очи начали различать свет» 37.
Максим Грек, разделяя настроения горожан, пытался по– своему утешить правителя, но это ему, кажется, не удалось, хотя он и писал: «Питая уже давно любовь к державе царствия твоего и не желая больше терпеть измену безбожных скифов, соболезнуя по поводу всего, что случилось в твоем царствии, видя скорбь, своей волей пожелал я представить твоему царствию мое разумение [о происшедшем], насколько позволяет мое малоумие».
В этом послании, как и в предыдущих, автор реализует одну из своих любимых идей – о праве совета правителю со стороны разумных и мудрых мужей, даже если они незнатные («худейшие»), а также и необходимость (если не обязанность) правителей – принимать советы или по крайней мере прислушиваться к ним, выбирая полезное. Послание и начинается декларацией: «Я не считаю неразумным или неуместным, если [кто‑то] имеющий любовь к начальствующим обратится к ним с советом и своевременным, и полезным… покажет слово мудро и совет благоразумен… А твой царский велемудреный разум да побудит тебя, не обинуясь [43]43
Не обинуясь – прямо, откровенно, без обиняков; не колеблясь (Словарь русского языка XI‑XVII вв. Вып. 12. С. 53).
[Закрыть], принять мой совет» 38.
Автор послания проявил большую осведомленность о происходивших событиях, его оценка совпадает с той, которая дана в летописи: он говорит о внезапности нападения, о нарушении клятвы и измене; то же и в летописи, где говорится о нарушении условий шертной грамоты («.. забыв своея клятвы правду, на нас воинствует, ни дружбы первые, ни клятв воспо– мянул… пришел безвестно на великого князя отчину» 39). Знает он и о регулярных требованиях «поминков» (дани), призывая великого князя не выполнять их, и о связях крымской политики с литовской, рекомендует наступательную политику по отношению к Казани.
Но в послании есть один пассаж (в начальной его части), который едва ли пришелся по душе правителю, если он его прочитал – несмотря на кажущуюся почетность проведенной там аналогии. В летописи, в статье о крымском нашествии, рассказано, что великий князь покинул столицу, отправился из Москвы на Волок, чтобы ожидать подкрепления из Новгорода и ждать другие полки. Но Сигизмунд Герберштейн, усердно разыскивавший все подробности из жизни московского двора и великокняжеской семьи, добавляет, что Василий, как говорят, просто бежал из города, притом даже прятался в стоге сена 40.
Максим об этом, разумеется, прямо не пишет, но утешающий намек очевиден, когда он призывает: «Не будем чрезмерно скорбеть; в том, как мы пострадали, нет ничего странного.
Такое случалось и со многими другими преславнейшими царями, среди них первый – блаженный Давид. Он одержал многие преславные победы над иноплеменниками, но когда ему изменил и восстал на него его сын Авессалом, то Давид поднялся, разгневался и ушел из города Иерусалима, чтобы собрать силы; все его оставили, кроме немногих сердечных друзей, с ними он и отступил из города, многие его поносили и досаждали, а он все претерпел смиренномудрено, ожидая помощи от Вышнего, и не согрешил, ибо скоро Бог заступился за него и врагов его посрамил и вернул ему первую славу и честь». Этот эпизод священной истории описан во Второй книге Царств (15:14 и сл.). Аналогия с царем Давидом была, конечно, преисполнена пиетета, но все же в ней речь шла не о лучшем из эпизодов жизни царя–псалмопевца. Да и упоминание сына могло болезненно отозваться в душе Василия, мечтавшего о наследнике.
Послание сохранилось в единственном списке, не только без всякого заглавия, но даже без традиционного обращения, без имени автора и адресата. Атрибуция принадлежит В. Ф. Ржиге, который обнаружил и опубликовал послание в 1936 году; ранее оно не было известно. Либо оно не пришлось по душе правителю, либо и не было отправлено; кто‑то из друзей и сотрудников Максима Грека мог сказать или намекнуть на возможность неадекватного прочтения («как наше слово отзовется»). Как бы то ни было, оно находится в рукописном сборнике конца XVI века неизвестного происхождения, включившем и другие редкие тексты, возможно, взятые из архива самого Максима 41.
Осведомленность о крымском набеге 1521 года и крымских делах, которую наш герой проявил в послании великому князю, была, видимо, результатом его знакомства с дипломатом Ф. И. Карповым, ведавшим восточной и южной политикой Русского государства. О нем надо рассказать подробнее, так как общение, переписка и полемика с ним составляют заметные и важные страницы биографии Максима Грека.
Окольничий Федор Иванович Карпов – еще один высокопоставленный собеседник Максима Грека. И не просто собеседник – их беседы оформлены в послания, которые почти сразу превращались из акта личного общения в факты церков– но–политической жизни и показатель умственных исканий и идейных течений своей эпохи, становились достоянием достаточно широкого круга читателей. Сохранились семь посланий Максима Карпову, из них четыре – пространные полемические трактаты, с которыми мы уже частично познакомились в главе второй. Там они привлекли нас рассказами и воспоминаниями об итальянской жизни, а теперь перед нами предстанет их московская составляющая, в очень большой степени связанная с личностью Ф. И. Карпова – как с влиянием его служебных задач, политических и дипломатических, так и с необычностью и своеобразием его более широких интересов, ролью в культуре и общественной мысли XVI века. Не только дипломат, но и публицист, один из немногих светских авторов своего времени, он обсуждал с ученым святогорским монахом и сюжеты из светской жизни (например, нужна ли астрология царям и правителям); Максим обращал к нему тонкости богословских рассуждений об исхождении Святого Духа. Интерес Карпова далеко выходил за те границы, которые ставили дипломатическая служба и политическая жизнь. «Боярином–западником» называл Карпова один из первых его исследователей В. Ф. Ржига 42.
Федор Карпов принадлежал к роду тверских бояр, перешедших на московскую службу. Его родоначальник Карп происходил от смоленских князей, потомки которых, князья Фо– минские (от них происходили Карповы и Бокеевы), потеряли княжеский титул 43. Трое его сыновей («Карповичей», среди которых был и отец Федора Иван) перешли в Москву вместе с группой других лиц в 1476 году, незадолго до присоединения Твери 44. Ф. Карпов начал службу при великокняжеском дворе в конце XV века в роли весьма скромной, вероятно, будучи еще «отроком». Впервые он упоминается в октябре 1495 года, когда принимает участие в новгородской поездке Ивана III в Новгород, вероятно, связанной со шведским походом. Он – один из «постельников», составляющих штат при «постельничих», не слишком высокой придворной должности 45.
В конце XV века Карпов принимал участие в большом государственном мероприятии – широком описании и размежевании земель с последующим составлением писцовых книг. В правой грамоте 1521 года упомянуты «книги писменые письма Федора Ивановича Карпова» по Муромскому уезду. Его «суд» и межевание происходили за 20 лет до того 46. Земли Карповых находились, в частности, в Костромском уезде 47.
В 1508 году мы видим Ф. Карпова уже на дипломатической службе, которая в дальнейшем не прекращалась. Вероятно, она началась благодаря его личным деловым качествам, знанию татарского языка. Его специализацией были первоначально сношения с Ногайской ордой. 6 сентября этого года Карпов принимал участие в переговорах с послами из Орды 4*, а в октябре, когда пришло известие о приезде крымских послов, Карпов, таможенник Никита Романов и дьяк Алексей Лукин были посланы им навстречу, чтобы «у гостей рухлядь попечатать, которые идут с послы» 49. Специфика его роли в сравнении с ролью таможенника и дьяка, его «чин» не указаны, но можно предполагать, что он выполнял роль переводчика и какую‑то наблюдательную функцию (назван ранее таможенника). В ходе переговоров он выполнял весьма ответственное поручение, за которым мы будем встречать его и в дальнейшем, – составление шертных грамот. Он согласовывал текст с «царевым бакшеем» Касимом, при этом присутствовал дьяк Лука, которому было приказано «те записи написа– ти руским письмом». 24 декабря происходила торжественная церемония составления альтернатов: великий князь «велел те записи изготовити диаку Луке руским письмом, а Касыму бак– шею татарским письмом». Он присутствовал и на церемонии подписания шертных грамот. Подтверждались шертные записи на имя Василия III, данные крымским ханом Менгли–Гире– ем. Возобновление их происходило при каждом новом правителе и было важным событием дипломатических связей с Крымом.
Карпов не был простым переводчиком. Составление шертных грамот происходило «у Феодора на подворье»; здесь мы встречаем первое упоминание такого специализированного «подворья Карпова», которое повторится в 1516 году и позже, в 1530–е годы. Это своеобразное административное помещение – зародыш зданий будущего Посольского приказа. При подписании шертных грамот его присутствие специально оговаривается: «А Федор Карпов туто же был» – как ответственное лицо со стороны великого князя для придания церемонии авторитетности, а возможно, как лицо, пользующееся доверием крымской стороны благодаря знанию татарского языка.
В 1514—1515 годах Ф. И. Карпов принимал участие в переговорах с первым турецким послом в России, греком Феодо– ритом Камалом. Первый его прием был весьма торжественным. Он происходил в Набережной палате, вместе с ним сидели бояре в «саженых шубах» (был конец мая), перед входом в Набережную палату стояли княжата и дети боярские «в терликах в саженых, а иные в кожухах в саженых». Когда Ка– мал «на Двор приехал», то на начальном традиционном месте «встречи» послов, «в паперти у Благовещения», его встретили первыми Карпов с двумя дьяками. Они приняли «поминки» и сопровождали посла к великому князю. Следующий этап встреч – «верхнее крыльцо», далее – вход непосредственно в Набережную палату 50. Как видим, Карпов занимал еще скромное место внутри боярско–дипломатической иерархии, но его фактическая, практическая роль возрастала. Он принимал участие в переговорах с турецким послом среди «бояр». Не все названные лица имели боярский чин, но были членами специальных «комиссий» Боярской думы, формировавшихся для ведения переговоров. Выделение таких комиссий становится обычным явлением в практике посольского дела 51.
В ноябре 1515 года Карпов принимал участие в переговорах с послами нового крымского хана Мухаммед–Гирея, воцарившегося после смерти Менгли–Гирея, в ходе которых обсуждались условия новых шертных грамот, но подписаны они были позже, лишь 5 мая 1519 года. При этом в посольской книге записано: когда «целовал крест князь великий Магмет– Гирею царю», то «крест на грамоте держал Федор Карпов» 52.
О нарушении этой шерти Мухаммед–Гиреем в 1521 году (уже упомянутый «крымский смерч») напишут и Никоновская летопись, и Максим Грек в послании великому князю (вероятно, узнав об этом со слов Федора Карпова). Интерес Максима к крымско–турецкому направлению внешней политики России объясняется тем, что реальность турецкой опасности осознавалась им особенно остро, так как он знал ее и с западной (особенно венецианской) стороны. Мы помним о его поездке на остров Корфу в 1499 году в связи с событиями турецко–венецианской войны.
К 1516 году относится первое известие о связи Карпова с «московской партией» в Крыму. Когда в апреле прибыли посланцы «от крымского царя и царевичей», то один из них, Ап– пак, помимо большой официальной грамоты направил отдельную грамоту Федору Карпову, причем она была передана не в ходе официальных встреч, а отдельно: «Дал ее Федору на подворье человек его Шаматай». Здесь мы снова встречаем «подворье» Карпова.
Другой царевич, Ахмат–Гирей, брат крымского хана, в грамоте Василию III сделал приписки («к се у тое ж грамоты на затылке писано»): «Федору Карпову много много поклон. Ведомо б было. Сю нашу грамоту перед братом моим перед великим князем сам бы еси гораздо вычел того деля, чтоб брат мой князь великий гораздо выслушал; а сего добра сказки для на– деяся на тебя приказываю. И ныне, Федор Карпов, тебя пожаловал, другом тя себе хочу держати, и сколко моих будет добрых речей, и ты бы брату моему великому князю переговорил и дело бы мое еси сделал, а даст Бог и яз к тебе поминки свои и поклон свой пришлю, так бы еси ведал». Ахмат, как отмечал И. И. Смирнов, «принадлежал к числу сторонников Русского государства и держался московской ориентации… Правительство Василия III поддерживало с Ахматом тайные связи и опиралось на него в проведении своей политики в Крыму» 53.
В 1520—1530–х годах Карпов играет руководящую роль в отношениях с Крымом и Казанью – они были весьма сложными, продолжались набеги 54. Известны походы 1527 года (Ислам–Ги– рея), 1531 года (Булгак–мирзы); во время похода 1533 года «посад пожгли у Рязани». 10 августа 1535 года в Москве получили известие, что «крымские люди многие пришли на Рязань вое– вати». В 1539—1540 годах враждебно настроенный к России казанский хан Сафа–Гирей подходил к Мурому и Костроме.
После «крымского смерча» 1521 года и смерти Мухаммед– Гирея в августе 1522 года встал вопрос о подписании шертных грамот с новым ханом Сеадет–Гиреем. Теперь уже не крымские царевичи, но сам хан («царь») просит посредничества и помощи Федора Карпова как в подготовке шертных грамот, в деле переводов, так и в их подписании, в других вопросах, причем протокол одной из них (1524 года) аналогичен протоколу грамот великому князю. «Крымские дела» за 1522—1539 годы остаются неопубликованными. В них включены три грамоты Сеадет–Гирея к Карпову (полученные в 1523, 1524 и 1526 годах), а также грамота ему же Имелдыш–бахтиара, входившего в «московскую партию» в Крыму. В грамоте Карпову, привезенной в 1523 году, Сеадет–Гирей напомнил, что адресат был в дружеских отношениях с его предшественником и просит и впредь оказывать содействие его делам 55. Грамота 1523 года содержит прямое свидетельство того, что Карпов переводил шертные грамоты. Отправляя великому князю «проект» грамот, Сеадет–Гирей обращается к Карпову: «…и сколько в них будет наших речей писано, и ты б сполна перевел и великому князю гораздо сказал» 56.
Ведущая роль Карпова сохранялась и в 1530–е годы – мы постоянно видим его участником и главой переговоров с крымскими послами. По–прежнему приемы нередко происходят на его «подворье» 57. Как правило, это случалось тогда, когда правительство было намерено продемонстрировать свое неудовольствие по поводу проводимой Крымом политики. Признание его заслуг произошло поздно, второй думный чин – окольничего – он получил, вероятно, около августа 1538 года, когда в «крымских делах» он впервые упомянут с этим чином, и далее он сохраняется неизменно 58. Последнее упоминание о Карпове в «крымских делах» относится к 20 октября 1539 года 59.
Крымской политикой, как уже говорилось, деятельность Карпова не ограничивалась. Он выступал активным участником переговоров с турецким послом Искандером (Скинде– ром) в 1522, 1524, 1526 и 1529 годах 60. С именем Скиндера будет связано одно из обвинений, предъявленных Максиму
Греку на судах 1525—1531 годов. Следует напомнить о том, что параллельно с «восточными» делами Карпов был занят и проблемами западными, с 1517 года постоянно принимал участие в приемах послов и переговорах с ними. При этом очевидно, что он привлекается именно как знаток восточного вопроса. Мы уже приводили его пространную речь на переговорах с Франческо да Колло, которому он отвечал на предложения об участии в антитурецкой коалиции и в борьбе с «бесерменст– вом»; его основной тезис – сохранение верности «греческому закону», то есть православию. Он принимал участие в переговорах с Герберштейном в 1517 и 1526 годах (кстати, тот во второй свой приезд интересовался судьбой Максима Грека, но, несмотря на обилие информаторов, не смог узнать ничего достоверного – «кажется, его утопили») 61.
С Карповым мы встретимся еще раз, а теперь надо напомнить основные факты биографии еще одного лица, с которым будет связана судьба Максима Грека в Москве. Отчасти их свяжут те же явления русской жизни, которыми были вызваны и вопросы великого князя об афонских монастырях, но теперь темы их бесед расширятся.
Князь–инок Вассиан происходил из рода Гедиминовичей, потомков великого князя Литовского Гедимина, внук которого Патрикий положил начало роду Патрикеевых. В конце XIV века он перешел на русскую службу, сначала в Новгород в качестве служилого князя, а в 1408 году в Москву. Его сын Юрий Патрикеевич породнился с московскими Рюриковичами, был женат на сестре московского великого князя Василия I Анне, дочери Дмитрия Донского. По данным других родословий, Юрий был женат на сестре не Василия I, а Василия II, что менее вероятно 62. Следовательно, внук Юрия, наш Василий (будущий Вассиан), приходился Василию III троюродным дядей, а не братом, и был, бесспорно, старше его (в 1489 году, когда он командовал войсками, княжичу Василию было десять лет). Князья Патрикеевы стали сподвижниками великих князей, вошли в состав знатнейших родов старомосковского боярства, неизменно поддерживавших централизаторскую политику. Иван Юрьевич, отец Василия, поддерживал и сохранял близкие семейные отношения с московским домом; он возглавлял бояр, ездивших в Тверь за невестой Ивана III, княжной Марией, и сопровождал ее в Москву. В 1492 году Иван III с семьей жил в доме Патрикеевых, когда строился великокняжеский дворец. К концу XV века И. Ю. Патрикеев был московским наместником, фактически главой Боярской думы. Карьера его сына Василия Ивановича также была успешной 63. Он был воеводой, одерживавшим военные победы, принимал
участие в дипломатических делах, особенно литовских, которые в тот период далеко не всегда были дружественными, был членом посольств, иногда под руководством отца, иногда самостоятельно, и мог в ряде случаев проводить в Вильно самостоятельную политику, «высокоумничал», как упрекнет его позже Иван III. Возможно, он осуществлял великокняжеский суд высшей инстанции, рассматривавший решения судей низшей инстанции.
Опала, постигшая Патрикеевых в январе 1499 года, была неожиданной и для них самих, и для окружающих. Зять Ивана Юрьевича С. И. Ряполовский был казнен, но отца и сына Патрикеевых «отмолил» митрополит. Казнь отца была заменена насильственным пострижением в монастырь («в железах»), он был отправлен в Троице–Сергиеву лавру. Василий получил имя Вассиана в Кирилло–Белозерском монастыре. Через несколько лет (в промежутке между 1503 и 1509 годами) он вернулся в Москву и стал одним из авторитетных советников великого князя, очень влиятельным лицом.
Причины этой опалы покрыты тайной, о них не обмолвились ни единым словом ни одна из летописей и никакой другой источник того времени, сообщающий о событии. В историографии выдвигались различные версии. Ясно лишь то, что опала была связана с династической борьбой вокруг престолонаследия, начавшейся после смерти в 1490 году Ивана Ивановича Молодого, сына Ивана III от первого брака с Марией Тверской. У него остался сын, внук Ивана III Димитрий, родившийся в ноябре 1483 года. Младший сын Ивана III Василий (от второго брака, с Софьей Палеолог) родился в марте 1479 года и был на четыре года старше Димитрия. Его мать, византийская царевна из рода Палеологов, конечно, желала видеть сына на московском троне. Мы уже говорили в итальянской главе, что вскоре после рождения сына Василия ее посетил брат, Андрей Палеолог с бреве от римского папы (сама Софья воспитывалась в Риме, ей покровительствовал кардинал Виссарион). Но и мать внука Димитрия, Елена Волошанка, вдова Ивана Молодого, отличалась, надо полагать, не меньшим честолюбием – ее отец, молдавский господарь Стефан Великий, был крупным и влиятельным европейским правителем. Соперничество Софьи и Елены было неизбежным.
Исследователи относили Патрикеевых и к той, и к другой «партии», предполагая самые разнообразные их интересы. Наиболее распространена гипотеза о их связях с партией Елены—Димитрия. Но исследователи обычно не учитывали один важный фактор этой борьбы – намерения Василия с целью давления на отца реализовать старинное право «отъезда» и
5 Н. Синицына
«отъехать» в Литву. Во второй раз оно было даже осуществлено. События развивались так: Иван III первоначально предполагал сделать наследником Димитрия, которому в ноябре 1497 года исполнялось 14 лет. Сторонники Василия, которому было уже 18 лет, узнав об этом, организовали заговор. Василий угрожал отцу отъездом, но Иван III опередил его, наложив опалу на него и Софью; для сына он ограничился домашним арестом, не наказывая его сурово (вероятно, под влиянием Софьи) 64. В феврале 1498 года наследником был провозглашен Димитрий. Но равновесие было неустойчивым, борьба не закончилась, сторонники Димитрия хотели упрочить его положение и окончательно оттеснить Василия. Последний, в свою очередь, продолжал опасную игру, вторично угрожал «отъездом» и на рубеже 1499 и 1500 годов пытался даже выполнить свое намерение, хотя известие об этом в источнике очень лаконично 65.
Если бы причиной опалы Патрикеевых была их связь с «партией» Димитрия—Елены, то дата их опалы – январь 1499 года – плохо согласуется с фактом сохраняющегося расположения Ивана III к внуку–наследнику на протяжении 1498– 1499 годов (Василий и Софья окончательно победят лишь в 1502 году). Да и заступничество митрополита за Патрикеевых едва ли было бы возможно, если бы они были связаны с Еленой Волошанкой, подозреваемой в связях с еретиками. В–третьих (и, вероятно, это главное), Василий III вскоре после вступления на престол бросил Димитрия в тюрьму, а в феврале 1509 года он умер насильственной смертью (Елена скончалась в «нятстве» ранее). Едва ли Василий III в то же самое время допустил бы возвращение в Москву Вассиана, если бы тот был сторонником Димитрия и Елены и, уж конечно, не сделал бы его своим советником.
Более правомерным кажется предположение, что в 1497 году Патрикеевы, имевшие связи в Литве, упрочившиеся в ходе их дипломатических поездок, дали согласие Василию и Софье на какую‑то поддержку или содействие в Литве в случае «отъезда» князя. Иван III узнал об этом позже. Вероятно, факты были серьезны. Но, может быть, это были вовсе и не факты, а клевета, наговоры, преувеличения. Великий князь наказал не сына, чтобы не предавать широкой огласке дела семейные, – он покарал Патрикеевых. Влияние Софьи, несмотря на опалу, видимо, сохранилось, она не позволила наказывать сына строго. И Василий III, и Вассиан помнили об этом, и великий князь как будто искупал вину перед дядей–иноком и многое ему прощал. Это, конечно, психологическая гипотеза, но она может объяснить и многие перипетии их будущих отношений, с которыми мы еще не раз столкнемся, потому что к ним окажется причастным и Максим Грек. Сотрудничество Вассиана с Максимом началось, вероятно, с того, что Вассиан, будучи человеком весьма образованным, «книжным», был привлечен к трудам Максима Грека по переводу переписывания книг, а также правке богослужебных текстов, был наблюдателем и организатором всех работ. Об этом свидетельствует ряд показаний на суде 1531 года.
Вассиан, подобно великому князю, обращался к авторитету Максима Грека в вопросах монастырского устройства, чтобы получить поддержку своих нестяжательских устремлений, которые возникли у него в Кирилло–Белозерском монастыре под влиянием его духовного отца Нила, последователем которого он стал, и наблюдений над хозяйственной практикой обители. Он заинтересовался нормами и правилами (юридическими и каноническими) той жизни, в которой он оказался насильственно, не по своему выбору. В жизни монастыря он увидел постоянное нарушение обета «отвержения мира», то есть отказа от всего мирского, и обета «нестяжания». Точно неизвестно, когда он приступил к изучению Кормчей книги (руководства по церковному управлению и суду), содержащихся в ней правил и постановлений, касающихся монастырей и монашества. Можно вспомнить о том, что ранее, в 1497 году, Патрикеевы, возможно, принимали участие в составлении Судебника 66.
К моменту приезда Максима Грека Вассиан уже завершил работу над собственной Кормчей. Она была основана на одной из редких редакций этого памятника, имевшихся в славянской традиции; Вассиан существенно дополнил и изменил ее. Особое внимание он обратил на статьи, в которых говорилось о селах и другой монастырской и церковной собственности, движимой и недвижимой. Результаты своих разысканий он изложил в собственном сочинении, которое решился включить в Кормчую, куда входили Правила апостольские, постановления Вселенских и Поместных Соборов, сочинения авторитетных церковных писателей, толкования знаменитых византийских канонистов, знатоков канонического права. В их ряд Вассиан поставил и себя, а в следующую редакцию включил также сочинение Максима Грека об афонских монастырях.
В своем сочинении («Собрании некоего старца») Вассиан пишет, что он сделал подборку Правил, которые «не повелевают инокам вступаться в соответствии с его обетом ("обещанием") в мирские [дела], ни в села, ни во что иное». Вместе с тем, продолжает он, в других Правилах написано: «…у монастырей селам быти», и называет два правила (24–е правило IV Собора и 18–е правило VII Собора). «Ино которым верити? Чем то разрешить? Только Евангелием и Апостолом и святыми Правилами!» 67Такой вывод сделал Вассиан к моменту приезда Максима Грека, исходя из того, что одним Правилам противопоставляются другие. Но Максим Грек познакомил его с приемами филологической критики текста, основанной не на противопоставлении одних текстов другим, с противоположным содержанием, а на выяснении истории и степени подлинности, достоверности самого текста. Он использовал свой гуманистический опыт, полученный в Италии в сотрудничестве с Альдом Мануцием, опыт сопоставления и изучения текстов при подготовке их к изданию или переводе, который пригодился ему в Москве при работе уже не с текстами античной литературы, а с памятниками русского и греческого канонического права.
К счастью, в Москве оказалась греческая Кормчая, привезенная из Константинополя в начале XV века митрополитом Фотием. Вассиан знал о ее существовании. Его «Собрание» заканчивается замечанием (после процитированных слов о противоречиях): «А в богородицких Правилах греческих сел монастырям держати не писано же». Вассиану кто‑то сообщил эти сведения (возможно, Нил Сорский, знавший греческий язык, поскольку он бывал на Афоне), но самостоятельно использовать греческую Кормчую Вассиан не мог. Максим Грек сделал для него перевод тех именно правил и толкований на них, в славянской версии которых Вассиан нашел упоминание о селах, и добавил к ним еще одно правило VII Собора, не указанное Вассианом. Выяснилось, что в греческом оригинале упоминания о селах нет, оно появилось на каком‑то этапе истории славянского текста. Вассиан включил эти переводы Максима Грека во вторую редакцию своего «Собрания некоего старца», заменив ими свое итоговое восклицание: «Ино которым верити? Чем то разрешите?» – потому что ответ был найден, сомнения разрешены.
Эти три Правила в составе «Собрания» занимают больший объем, чем сам текст первоначальной краткой редакции. Вместо ее пессимистического заключения он написал: «А что в наших русских Правилах, в 24 Правиле IV Собора ив 12 и 18 Правилах VII Собора написано"к монастырям села", так это обман, по свидетельству божественного писания, если кто‑то это подписал ложно в святых писаниях в наших русских Правилах, что монастырем села держати. Но в богородицких Правилах греческого письма в московской соборной церкви, которые вывезены из Царьграда митрополитом Фотием, не писано сел к монастырям держати». «Богородицкие правила» – это греческая Кормчая, хранившаяся в Успенском соборе Московского Кремля и в настоящее время неизвестная. Далее в «Собрании» находятся переведенные Максимом тексты.
Максим Грек, как уже говорилось, не вмешивался напрямую в противостояние нестяжателей и их противников, но он внес в нестяжательство свой вклад – встав на сторону нестяжателей и используя для их поддержки свой итальянский гуманистический опыт. Мы не знаем, знакомился ли он с трактатом Лоренцо Баллы, доказавшего позднее происхождение так называемого «Константинова дара», согласно которому первый христианский император Константин в IV веке даровал папе Сильвестру обширные владения «по всей вселенной». Этот документ всегда активно использовался защитниками церковной собственности в разных странах, цитируется он и в русском «Соборном ответе» 1503 года. Но метод, с помощью которого ученый грек разрешил сомнения русского канониста, тот же, с помощью которого Лоренцо Валла доказал подложность Константинова дара. Он делал и другие переводы для Кормчей Вассиана, но их объем пока не определен.








