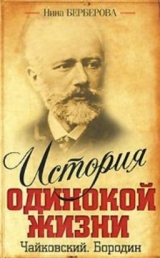
Текст книги "Бородин"
Автор книги: Нина Берберова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
V
– Блажь… Нет времени… Нет времени для этой потехи! – повторял Бородин, глядя себе на руки, не поднимая глаз на Корсакова, раздувавшего самовар, махавшего длинными руками, как крыльями, сердитого, красного. – Куда мне связываться? Уберите это! – Александр Порфирьевич отодвинул от себя лист нотной бумаги, только что ему принесенной заботливым Корсинькой. На листе было выведено: «Князь Игорь». Опера в 4 действиях А.П. Бородина. – Уберите. Верьте или нет, я совершенно охладел к сюжету.
Прежде всего, это случилось потому, что в Бородине сидела твердая уверенность: оперы ему все равно не написать. Потом было ясно: не такое нынче время, чтобы изображать какой-то эпос, да еще свой. Что бы ни говорили Мусоргский и Балакирев, что бы ни гудел ему в ухо Стасов, подавший ему первую мысль об «Игоре» – не такое время. Они не понимают. Вот и жена говорит:
– Не такое, конечно. Ну кто теперь такие оперы пишет? Надо брать драмы из нынешней жизни… Да и где тебе вообще!
А вечер тот, апреля которого-то числа шестьдесят девятого года, когда впервые пришла эта мысль, мысль о «Слове о полку» – был вечер самый обыкновенный. В гостиной сестры Глинки. Музицировали. Пили чай. Восхищались «Борисом». Был разговор со Стасовым, и Александр Порфирьевич признался, что тоже не прочь от оперы, хоть и пишет сейчас вторую Н-мольную симфонию. И Стасов загорелся, как он один умеет, не спал ночь, думал, нашел, написал к рассвету весь сценариум,утром пришел к Бородину и еще из передней, на всю спящую квартиру:
– Есть опера! Есть сценариум! Вот вам для начала Ипатьевская летопись и мой конспект. Остальное – с посыльным из Публичной библиотеки доставлю к вечеру.
«Волков бояться – в лес не ходить», – ответил Александр Порфирьевич, но теперь все это было забыто, и сочиненные куски подстилались под кошачьи опилки, ими закрывались крынки. Это был сон Ярославны, половецкий марш, романс Кончаковны… Он забыл, что еще. Он растерял в уме все, что помнил.
Положительно, его иногда удивляло, до чего близко к сердцу принимают его музыкальные упражнения. С оперой приставали к нему давно; Балакирев навязал ему «Царскую невесту» Мея, и он даже начал что-то и, конечно, бросил. Теперь – с «Игорем»; он буквально стыдится при встречах их испытующих глаз, их вопросов: Ну что? Двинули?
Виноватыми, сонными глазами он смотрит на свои руки, куда-то вниз, как бывает, когда жена ругает его за то, что он вытерся ее личным полотенцем. Придумали новый способ затянуть его в работу: писать всем пятерым оперу-феерию «Младу» для Мариинского театра, по заказу дирекции, Корсинька пишет, и Кюи, и Модест, и Милий Алексеевич. И вот он садится и пишет тоже. На его долю достался «Идоложертвенный хор Радегасту», надо сочинить его, нельзя дольше откладывать. А после хора он приступает к «явлению теней» и к «страстной сцене», сочиняет в порыве вдохновения («болел насморком – вот и время было свободное») «затопление храма и общую погибель»… «А? Что? Я говорил! – заливается Мусоргский, – он может только по заказу, из-под плетки!»
Но дирекция объявляет, что феерию ставить слишком сложно и дорого, и Бородин остается с «явлением теней» и Радегастом на руках.
Дни лепились в месяцы, месяцы в годы. И тот круг людей, которым Александр Порфирьевич был открыто для всех окружен, круг профессоров и студентов академии, круг русских ученых и деятелей ничего не слыхал ни об «Игоре», ни о «Младе», ни о вечерах у сестры Глинки, ни об успехах Корсакова, ни о медленной гибели Мусоргского, ни о религиозном безумии Балакирева. Этот круг, где Менделеев, Склифосовский, Боткин, Бутлеров считали Бородина своим, где учились у него студенты, где имя его росло, вырастая за пределы России, встречаясь в спорах с именами европейских химиков, этот круг не требовал от него больше, нежели он мог дать. Если «кучка» со Стасовым ждала от него чуда, мучила его своей в него верой, то тут, в аудиториях и лабораториях, сквозь большую к нему любовь и уважение, начинало сквозить какое-то недоумение, которое можно было принять за начало разочарования – не в таланте его как химика, но в нем самом, недоумение перед его равнодушием не только к собственной славе, но и к самой работе. Словно рок тяготел над его открытиями: стоило ему напасть на что-нибудь – безвестный немец или всемирная величина – французский биолог нападали на то же чуть ли не в тот же день. И Бородин только улыбался, когда узнавал об этом, и эта-то улыбка выдавала его безразличие ко всему тому, что его окружавшим людям казалось самым на свете важным.
Рок тяготел… Он сам думал об этом не раз. Думал особенно много в поезде, когда среди лета вдруг вырвался из Петербурга и помчался в Казань, на съезд естественников. Он ехал как ученый, как автор многих печатных работ, как профессор академии, но ведь все знали, что его работа об ангидридах вышла в то же время, когда появилась о том же знаменитая сейчас работа Шюценбергера; все помнили, как однажды он явился на заседание, чтобы сделать свое сообщение об альдоле, и уже в зале увидел в руках у кого-то только что вышедшую работу об альдоле Вюрца; так встретился он на альдегиде с Кекуле и уступил ему первенство, не споря. «Это чертова музыка мешает!» – думал он, едучи в Казань. И делалось стыдно, как в детстве, когда ловили на шалости, и он давал себе слово «не баловаться романсами».
В Казани – уже полвека университетском городе – «IV всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей» был устроен с пышностью необыкновенной, с комфортабельностью, которой могла бы позавидовать Европа. Господам ученым полагался половинной стоимости проезд из столицы и обратно первым классом, помещение у казанских профессоров (душистое мыло на умывальнике и почтовая бумага в бархатном бюваре); икра и стерляди в неограниченном количестве; осмотр кумысных заведений; к завтраку – раки в 7 вершков длиною. Раками, арбузами объедался Бородин, поместившийся в одной комнате с Менделеевым – как когда-то в Гейдельберге. Дмитрий Иванович ходил по утрам нагишом, пил квас и пел душещипательные романсы.
Заседания шли за заседаниями. Доклады читались за докладами. Казанская профессура едва успевала между утренними и дневными собраниями чествовать профессуру столичную тонкими завтраками, с тостами, с французскими винами. Вечерами ездили в театр, на прием к городскому голове, в гостиницу Желтухина пить шампанское, петь «Гаудеамус». А на следующий день – опять доклады, выборы в какие-то комитеты и комиссии, и поздно ночью – пляска камаринской (без сюртуков), кадриль (друг с другом, без дам), мазурка, качание друг друга, «ура», брудершафты. Сперва пили за такого-то как ученого, потом за него же, как за «честного человека» (было много отчаянных либералов), потом за всех вообще, за высшие женские курсы, за женщин как таковых… Разметанные бороды, красные лица, плешивые головы, веселье, стук штиблет, хоровое пение, горячие речи и несущийся в мазурке в первой паре Бутлеров, в пятом часу веселой, пьяной, шумной ночи.
В честь Бородина и его любви к музыке («Да, да, батенька, не отнекивайтесь, мы знаем грешки ваши по этой части») было устроено два квартетных вечера. Нашлись музыканты, Казань ни за что не хотела ударить в грязь лицом. Нашелся некто, кто слыхал про Мусоргского. И растроганного Бородина усадили за ужином между молоденькой телеграфисткой и казанской барыней, многозначительно жавшей Александру Порфирьевичу руку и благодарившей его за сочувствие «женскому делу».
Он вернулся в Петербург. Отчего-то больше всего в душу запали именно эти два квартетных вечера. Играли неважно, и не бог весть что, но все-таки это была музыка, то есть то, что он любил больше всего на свете – и никто, ни Шюценберг, ни Вюрц, ни Кекуле, не могли предвосхитить того, что он в этой музыке делал. Опять набегала на него зима, с лекциями, с женскими курсами, которым отдавал он теперь все свои силы – почти все, потому что кое-что сохранял для себя: по ночам уходил из спальни, где жаловалась на их общую бессонницу жена, садился к фортепиано…
Корсинька приходил – по-прежнему играли в четыре руки, увлекались теперь вместе духовыми, записывали за горничной Дуняшей вологодские песни, каламбурили; часто втроем с Мусоргским вели долгие, одним им троим понятные и нужные беседы, где всем троим было видно, как они расходятся в разные стороны и как опять кое в чем сходятся, неразрывно и таинственно. Опять появились на столе его, между последними диссертациями студентов, книги Тихонравова и Срезневского о древних обычаях славян. «Все, что я написал для «Млады», – не пропадет, – сказал он однажды, – я все это упрячу куда-нибудь». («Вероятно, во вторую симфонию?» – спросил кто-то.) Он уже твердо знал, куда именно. Однажды он пришел к Корсакову вечером, все были в сборе. Стасов, скрепясь, старался вопросительно не глядеть на него. «А вот и хорик», – сказал он, вынимая из кармана что-то сложенное, примятое. – «Владимир Васильевич, не смотрите зверем, я возвращаюсь к «Игорю».
Это был женский хор в половецком стане, а с ним набросок «чего-то дикого – простите, извините, нечаянно, – пляски, вроде лезгинки» – набросок половецких плясок в стане Кончака.
Его едва не задушили в объятиях.
Да, это был праздник. Те два-три десятка людей, которые бывали у Стасова, у старухи Шестаковой (сестры Глинки), уже знали на следующий день эту новость, которую ждали так давно. Знали, что это будет что-то больше похожее на «Руслана и Людмилу», чем на «Жизнь за царя», нечто враждебное и Вагнеру, и итальянцам. Он сам объяснял, как умел, с видимым старанием, что именно хочет сделать. Восток, близкий ему по крови, соблазнял и томил его. Осторожно и медленно возникала сцена Скулы и Брошки, с какой-то бешеной жадностью набрасывался он на фигуру Владимира Галицкого, и манил, и пленял его Кончак и весь половецкий акт. «Самого Игоря еще нет, – писал он в то время, – и увертюры потому тоже нет». И чувство было такое, что никогда и не будет, что все, что сочинилось, случайно сочинилось само и наверное не выйдет ничего, не успеет выйти, но так хотелось сочинять – и все, что приходило к нему, приходило теперь бурно и внезапно.
Он писал помногу и, главным образом, потому, что много болел. Несварение желудка, ангина, простой насморк удерживали его дома, и у него было время писать. Он научился урывать у жизни блаженные часы, когда звуки, душившие его, наконец находили себе выражение, и он исписывал аккуратно и бережно, не имея настоящей привычки писать ноты, а потому не имея и музыкального почерка, листы нотной бумаги, которые потом исправлялись сообща и Корсаковым, и Балакиревым. Он сидел за фортепиано с компрессом на шее, поминутно сморкаясь, кашляя. Приходили какие-то просители, дамы, студенты, издатели, секретари, бухгалтеры, жалобщики… «Вот был насморк», – говорил он потом, усмехаясь, и ставил на пюпитр балакиревского Беккера «Плачь Ярославны». «Слава Богу, болел расстройством» – и появлялась ария Владимира Галицкого.
И в плюшевой гостиной возмужавший за эти годы Корсинька, по-прежнему аккуратный и добросовестный Кюи, вернувшийся из религиозных одиночеств Балакирев и потерянный, опустившийся Модест Мусоргский слушали эти черновики. И такая подчас детская радость охватывала всех пятерых от того, что, наконец-то, после стольких лет неизвестности и колебаний, рождался «Игорь», что они буйно кричали, и пели, и целовали друг друга, не стыдясь ни слов, ни объятий.
VI
По тихому Веймару, по зеленой Виландплац, мимо бронзовой правой ноги Виландова монумента, вниз по Мариен-штрассе.
– Здесь живет Лист?
Маленький двухэтажный дом с чистым садиком принадлежал садовнику веймарского грос-герцога.
– Герр доктор Лист? Это здесь, войдите. – И Бородин подает свою карточку.
Узкие сени, лестница наверх, крашеная масляной краской. И так стреляют скрипучие ступени под широкой, тяжелой ногой Бородина.
Первая весть о расположении Листа к кружку была получена незадолго перед этим – Лист восхищался музыкой «кучки». Как всегда, не для собственных дел, а для того, чтобы устроить в иенский университет двух молодых химиков – поповича Дианина и одессита Гольдштейна – выехал Александр Порфирьевич заграницу. Из Иены в Веймар прибыл утром на поезде, осмотрел дом Гете, дом Шиллера, дом Гердера, поклонился на веймарском кладбище дорогим могилам. (А Александрушка Дианин и Миша Гольдштейн, оставшиеся в Иене, от нетерпения не знали, что им предпринять.)
– Vous avez fait une belle symphonic! [2]2
Вы написали прекрасную симфонию (фр.).
[Закрыть]– говорит кто-то громко и быстро над Бородиным, и седой, с длинными волосами и острым носом, в черном, длиннополом сюртуке, в черном галстуке, вырастает над ним Лист. Его длинные пальцы изображают в воздухе те такты скерцо, которые Мусоргский называет «плеваниями». – C'est ravisant, c'est ingenieux! [3]3
Восхитительно, свежо! (фр.).
[Закрыть]– говорит он, сжимая крепко тонкой рукой плотную руку Бородина, и ведет его в свой кабинет.
Александр Порфирьевич молчит и слушает быстрый поток французско-немецкой, превосходной, отчетливой речи; перед ним фигура старого аббата, то садящаяся на диван, то шагающая между роялем и этажеркой, мимо трех окон, выходящих в розовый сад.
– Sie sind wohl weit gegangen, sie haben aber nie verfehlt! – кричит Лист. – Никого не слушайте, идите своей дорогой, будьте оригинальны…
Он, наконец, садится; слуга-черногорец вносит бутылки и рюмки. Разговор идет теперь о Корсакове, о Мусоргском. На пюпитре открытого Бехштейна развернут балакиревский «Исламей», и опера Антона Рубинштейна «Нерон» лежит на столике подле рюмок.
– Слава богу, – говорит он, – вы не учились в консерватории. Будущее принадлежит музыке русской, вашей музыке… Мосье Бородин, я слишком стар, чтобы говорить комплименты…
Мотая свое стеклышко, висящее на шнурке, откидывая волосы, в том сплошном спереди крахмальном воротничке, который носил по долгу сана, он двигался с простотой и легкостью по комнате, брал аккорды, останавливался, опять садился, говорил, отчеканивая слова; рот его широко раздвигался, и с силой закрывался, глаза вперялись в собеседника. И речь его лилась обо всем: о музыке, о России, о «Садко», о романсах Кюи, о трио Направника – и опять возвращалась к первой симфонии Бородина.
– Мы должны сыграть ее вместе, – повторил он несколько раз, и Бородин, робея, теряясь, уверял, что играть не умеет, не может, не смеет…
Он ушел под вечер, приглашенный на завтрак, на обед, на «матинэ», на урок с ученицами, на вечер с грос-герцогом. Все приглашения у него спутались. Он вернулся в Иену и мог только сказать своим мальчикам:
– Завтра вы его увидите сами. Завтра он приедет сюда – у него концерт в здешнем соборе.
Концерты в Иенском соборе давались раз в год, причем имя Листа не стояло на афише. Публики аристократической и простонародной набралось много, так как уже весь город знал, что Лист будет играть. Александрушка и Миша забрались в собор с утра, прослушали всю репетицию, видели приезд Листа, и как очумелые, спотыкаясь и падая, бежали за ним, ничего не видя и не помня. Бородин изредка видел их блаженные, поглупевшие от восторга лица, мелькавшие то где-то вдалеке, то напиравшие на «мейстера» при выходе его из собора, то бледные, вытянувшиеся во время его игры, то распаренные, красные под солнцем на улице, когда Лист со свитой и учениками шел в гостиницу: «Zum schwarzen Baren». [4]4
«У черного медведя» (нем.).
[Закрыть]
Он шел, высоко закинув голову, ведя под руку баронессу Мейендорф, урожденную княжну Горчакову – близкую ему вот уже несколько лет, друга грос-герцога и всей веймарской знати. Слева от Листа шла миниатюрная, изящная, живая, одетая по парижской моде, с крохотными ножками и ручками (не могущими взять секст-аккорда фа минор), любимая ученица мейстера – Вера Тиманова. За ними тремя, щебеча, горланя, хохоча, шагал целый выводок девиц, слетевшийся к Листу из Ирландии, Венгрии, Швеции, Италии, Америки – без шляп, без перчаток, пожиравших тут же на ходу вишни, при всех пудрящихся, пугающих немок своим непринужденным видом. Среди них было два-три ученика, длинноволосых, в отложных воротничках «с версту».
– Здравствуйте… Не отставайте от нас. Лист очень вас любит, – быстро шепнула Александру Порфирьевичу Тиманова, и вот он, грузный, лысый, полуседой, весь в чесуче, взятый какой-то веселой, загорелой датчанкой под руку, уже шагал со всеми вместе (а у Александрушки и Миши, мелькнувших где-то вдали, слезы зависти брызнули из глаз, но Бородин не дрогнул).
«Zum schwarzen Baren…» Любезности баронессы Мейендорф, дружеские взгляды маленькой Тимановой, и речи, и хохот, и мгновенное молчание при первом же слове Листа, и опять расспросы и приглашения, и наконец – всеобщий отъезд домой, в Веймар. Начальник станции рапортует, что для мейстера и барышень прицепили отдельный вагон; Лист, осунувшийся, усталый уходит в свое купе. Поезд трогается, кто-то бросает в Бородина, стоящего на платформе, вишнями; он машет шляпой: до завтра! (Но мелькает мысль, что кроме дорожного, другого костюма-то у него нет. Ах! Боже мой, вот оказия-то!)
Он оборачивается: четыре глаза смотрят вослед уходящему поезду – Александрушка и Миша с надеждой и отчаянием провожают в Веймар великого гостя.
Город Гете и Шиллера становился в летние месяцы городом Листа. Он жил здесь, и разноязычная толпа его молоденьких учениц целый день гремела из открытых окон на фортепиано. Уроки, на один из которых был приглашен Бородин и за которые Листом не взималось с учеников никакой платы, происходили в листовском кабинете, где все сидели вместе – кто на подоконнике, кто на диване – и слушали вместе с мейстером очередного ученика. Все были в сборе, когда Александр Порфирьевич вошел в комнату, и шумно обрадовались ему.
Здесь всем заправляла Вера. Лист, как видно, обожал свою маленькую Тиманову. Он обнимал ее, трепал по щеке, ставил всем в пример, делал все, что она хотела, а она изредка целовала ему руку и кокетничала и с ним, и с Бородиным, и с учениками, зная, что все ею восхищаются, и восхищаясь собою сама. Она играла так, что Бородин заслушался. Он любил виртуозную фортепианную игру, он когда-то в большом обществе воскликнул про Николая Рубинштейна: «Играет как сукин сын!» И игра Тимановой заставила его затрепетать; в глубине души он позавидовал Листу.
Но вот за рояль сел сам мейстер. Все стихло. Три окна в сад были открыты настежь, был жаркий летний день. Он играл сонату Шопена. Похоронный марш он каждый раз играл по-разному и Тиманова шептала Бородину: «Вот так он всегда врет по-новому, чудак!»
Никто не пожелал слушать оправданий Александра Порфирьевича в том, что у него нет парадного костюма – в дорожном виде, запыленных башмаках, принужден он был явиться вечером в гостиную баронессы Мейендорф. Тиманова напутствовала его, а он призывал на помощь все свое мужество – предстояло играть с Листом в четыре руки.
«Лист не давал мне останавливаться, – писал он в Россию, – по окончании одной части, перевертывал ноты и говорил: «Allez toujours». [5]5
Идем дальше (фр.).
[Закрыть]Когда я врал или недоигрывал, он мне замечал: зачем пропускаете, это так хорошо! Потом он и баронесса стали настойчиво просить, чтобы я спел мои романсы и показал что-нибудь из оперы. От пения я решительно отказался, но сыграл женский хорик из «Игоря»… Я был точно в чаду и долго не мог заснуть».
Не мог он заснуть и в следующую ночь: опять была игра, опять все в той же пышной гостиной, и канделябры, которые слуги в чулках проносили впереди гостей, шедших попарно в столовую, и высокопарные похвалы, расточаемые ему грос-герцогом, и подобранный на этот раз, церемонный Лист только еще усиливали торжественность и величие этого вечера. В громадном зале, среди картин, бронзы и реликвий, он затем слушал свои вещи, разыгранные Листом, и не верил, что это те же звуки, которые когда-то он сам робко наигрывал в балакиревской гостиной.
Потом он сыграл и спел им «Море».
– Но где же, где же эти сочинения? – вскричал Лист. – Кто их издатель? Почему их нет у меня?
– А вот еще попытка новой симфонии, – сказал Бородин… (Стасов называл ее «львицей», но Бородин знал, что не все в ней хорошо, что необходимо упростить кое-что, – дань увлечения духовыми.)
Лист слушал. Слушал и грос-герцог – высокий человек в белом жилете, сиреневых перчатках и звездой на груди, волею судьбы ставший хозяином этого города, как мог быть хозяином другого немецкого герцогства или графства. Он умел держать себя с гениями – такова была традиция его рода, где поэтов хоронили в одном склепе с коронованными особами.
И сам Бородин слушал себя, – никогда до того не приходилось играть ему в такой торжественной обстановке, среди которой был полубог. Он старался, как ученик, проклиная в эти минуты и недостаточность своей фортепианной техники, и все, что мешало ему в жизни быть настоящим музыкантом.
– Как хорошо, – сказал Лист, когда он кончил, – какой прекрасный русский музыкант передо мной.
…Медленно уносил его поезд назад, через Иену, Берлин, Эйдкунен, а мысль все бежала обратно, стремясь что-то дополнить, поправить в бывшем с ним, но, как сон, эти две недели оставались неизменными, невозвратимыми – они только делались все прозрачнее, все призрачнее; медленно, тяжело подступал к нему Петербург с делами, заботами, невзгодами, и он уже знал, что не сможет удержать в себе целиком этого воспоминания о единственном в его жизни празднике. Вот, как бывает, с пристани (а пароход уже идет, и нет возвращения!), – мелькнули руки Тимановой, которыми она для него играла «Исламея»; вот прозвучал веселый, ясный голос седого старика в патеровском воротничке, и единственные в мире глаза прокололи его насквозь…
И все истаяло в петербургском тумане.








