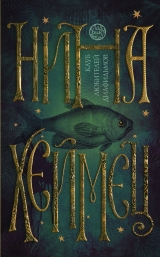
Текст книги "Клуб любителей диафильмов"
Автор книги: Нина Хеймец
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
* * *
Однажды я заметил, что табличка с названием кафе исчезла со стены. Видимо, шурупы, на которых она держалась, совсем проржавели, и она упала – сама, или ветер ее сорвал. Но дом, где я нахожусь, так и называют: «Магазин музыкальных инструментов, где раньше было кафе «У Лео»». Любой прохожий, из местных, его знает.
Ты не приедешь. Я хожу по городу и представляю себе, как мы будем идти здесь вдвоем, по этим улицам. У меня все готово.
Лея поворачивает ключ на два оборота. Ценных экспонатов в мастерской нет, но директор распорядился, чтобы ночью все двери в музее были заперты. Лея уходит с работы одной из последних. Она всегда задерживается на площадке между вторым и третьим этажами. Там висят две фотографии, в высоту человеческого роста. На фотографиях – башни. Одна из них выглядит как раковина гигантской улитки. Другая, с конусовидной крышей, напоминает вытянутую вверх шестеренку. Вокруг – пустыня. У подножия одного из сооружений стоит человек в белой рубашке. Лицо человека разглядеть невозможно. Рядом с башней он кажется крошечным. Пустыня на снимках выглядит огромной заброшенной стройплощадкой. Лея пытается представить себе лицо человека в белой рубашке. Ей это не удается. Она представляет себе лицо, видит его черты крупным планом. Но у нее не получается совместить его с фигуркой у башни. «Ты сделан из песка, – говорит она человеку на снимке, – если по – дойти к тебе поближе, то сразу станет видно, что из твоих глаз и рта сыплется сухой песок». Снимки немного размыты – как будто фотограф находился далеко от объекта. Лишь этот изъян изображения доказывает, что башни действительно существуют. Или – существовали. В здании музея не осталось посетителей, из сотрудников – лишь сторож на первом этаже. Лею никто не тревожит.
Она спускается по лестнице. В коридорах уже полутемно. Сейчас она попрощается с Шимоном, их сторожем, и пойдет домой. Но сторожа на месте не оказывается. Из комнаты охраны к ней выходит женщина. Лея никогда раньше ее не встречала.
– Добрый вечер. Меня зовут Дина, – говорит женщина, – Шимон уехал в гости к сыну. Вернется через несколько дней. А я, вот, вместо него.
– Добрый вечер, – отвечает Лея.
– Вообще‑то я уже на пенсии, но, когда надо кого‑нибудь заменить, директор охранной фирмы обращается ко мне. Он знает, что уж на меня‑то можно положиться. Я обычно в тихих местах сижу. В библиотеках, в музеях.
Дина одета в пестрое трикотажное платье, но Лея почему‑то представляет себе, как Дина сидит в униформе охранной фирмы, в каком‑то незнакомом здании. Это библиотека. Широкие окна читального зала закрыты жалюзи, но в помещение все равно проникает солнечный свет. На поясе у Дины пистолетная кобура. Наверное, пустая. На столе стоит термос с отломанной ручкой. Дина здоровается с посетителями. Потом Лея представляет себе большую лохматую собаку. Она сидит рядом с Диной. Лея спохватывается: «Откуда взялась в библиотеке собака?». Она говорит:
– Я тоже на пенсии. Директор музея попросил меня пока не уходить.
– Вы искусствовед? – спрашивает Дина.
– Нет, я портниха. Однажды, лет двадцать тому назад, ко мне пришла новая заказчица. Она руководила студией восточного танца, и им понадобились костюмы. И так получилось, что на их выступление пришел посмотреть директор этого музея. Наряды танцовщиц ему очень понравились, и он предложил мне здесь работать.
Лее кажется, будто она слышит себя со стороны.
– Хотите, я покажу вам свою мастерскую?
Они поднимаются на третий этаж. Лея открывает дверь.
На длинном столе разложены куски тканей – черные и белые. В пластиковых ящичках – разноцветные нитки, бусины и продырявленные монеты. Вдоль стен стоят манекены. На них – вышитые накидки из верблюжьей шерсти, черные льняные платья, затейливо скрученные чалмы, узорные пояса.
– Вы реставрируете костюмы? – спрашивает Дина.
– Я, бывает, их и сама шью, – говорит Лея, – Вот недавно была у нас выставка – свадебная церемония у берберов. И, представьте себе, все нашлось в запасниках – одежда для жениха, родителей и гостей, украшения, посуда, даже детские нарядные костюмы нашлись. А для невесты – нет ничего. Все на месте, а невесты – нет. Вы представляете себе такую свадьбу? Пришлось мне самой делать невесту, шить для нее свадебное платье. Но это – наш музейный секрет.
– Я никому не расскажу, – обещает Дина. Она обходит комнату, разглядывая костюмы. На одном из манекенов ничего не надето. На плече у него висит сумочка. Все ткани в мастерской изо льна и шерсти, но
сумочка – из черного бархата. На сумочке вышивка – по реке плывет кораблик под белым парусом. По набережной прогуливаются люди.
– Эта вещь не похожа на все остальные, – говорит Дина, – она будто по ошибке здесь оказалась.
– Это – не для музея, – отвечает Лея. Я сделала эту сумочку для одной своей знакомой. Она скоро ко мне приедет. Мы очень давно не виделись. Приедет – ее будет ждать подарок.
Лея выходит на улицу. Она всегда возвращается с работы пешком. Организм нуждается в умеренной нагрузке – это ясно и без врачей. Прошел дождь; мокрые мостовые отражают свет фонарей и огни светофоров. На застекленных верандах кафе люди улыбаются друг другу. Все это притягивает к себе взгляд, отвлекая внимание от несоответствий, проявляющихся в темное время суток. Лишенные цвета кипарисы напоминают готические колокольни; с ними соседствуют огромные фикусы. Сплетение их ветвей хаотично, они тянутся к ней поверх каменных изгородей, словно она Заклинательница змей на картине Руссо. Жесткие листья едва не касаются ее волос. Лея поднимает воротник пальто.
)
На следующий день у Леи много работы. Скоро откроется новая выставка. Лея готовит для нее нарядные платья. Кончики пальцев огрубели и не чувствительны к случайным уколам. Вышитые на ткани ромбы дают отпор пристальным взглядам. Звезды развеивают опрометчивые пожелания по восьми ветрам. Рыбы приносят удачу.
Мы, наверное, никогда не увидимся. Я всегда буду приходить к тебе, а ты всегда будешь мне улыбаться, и я буду нести в себе эту улыбку.
Потому что, когда тебе было плохо, я не могла сделать тебя счастливой, а когда ты была счастлива, то это не могло быть из‑за меня. Иголка с трудом одолевает сложенный в несколько слоев лен. Лея нанизывает на нитки стеклянные бусины и кусочки красных кораллов. Стежки должны быть одинаковой высоты – ниточка к ниточке.
Вечером, перед тем как уйти, Лея подходит к столу Дины и протягивает ей небольшой сверток. Дина разворачивает бумагу. В свертке – черная бархатная сумочка. Та самая. Шелковые нитки вышивки поблескивают под светом настольной лампы.
– Это вам, – говорит Лея, – возьмите, мне будет приятно.
– Я не могу, – отвечает Дина, – Вы же эту сумочку для вашей знакомой приготовили. Как же можно принять чужой подарок?
– Она не приедет, – говорит Лея, – возьмите, это очень удобная вещь.
Телефон зазвонил в первом часу ночи. Лея еще не спала. Она вернулась из «Синематеки» – Лея всегда ходит туда по субботам.
– Госпожа Альмог? Вас беспокоят из больницы. У нас госпитализирована госпожа Сегаль. Дина Сегаль. Ее состояние очень серьезно. Не могли бы Вы приехать? Чем скорее, тем лучше.
– Почему вы звоните именно мне? – говорит Лея, – мы с Диной едва знакомы.
– В ее истории болезни записан ваш телефон, – отвечает собеседник.
Лея вешает трубку. У нее дрожат руки. Она не может найти ключи от квартиры.
Такси удается поймать не сразу.
– Так поздно, в больницу, – обращается к ней водитель, – у вас что‑то случилось?
– Простите, я не могу сейчас ни с кем разговаривать, – отвечает ему Лея.
В больничном отделении к Лее выходит врач. Помещение едва освещено, и на долю секунды Лее кажется, что больничный коридор служит продолжением знакомого, музейного коридора.
– Мне очень жаль, но Дина скончалась, сегодня вечером. Мы не имеем права сообщать такие вещи по телефону, поэтому попросили вас приехать. Она обратилась в приемный покой вчера, жаловалась на боли в грудной клетке. Все анализы оказались в норме, но мы все же оставили ее в больнице, на всякий случай. А сегодня она умерла. Понимаете, мне даже трудно сказать, от чего именно. Все уже было в порядке, ей стало лучше. А вечером – остановилось сердце.
«Зачем она мне это рассказывает? – думает Лея, – какая разница, от чего умер человек? Какое это может иметь значение?»
Врач протягивает Лее запечатанный пакет.
– Возьмите. Это ее вещи.
– Я не могу их взять, – говорит Лея, – я знакома с ней всего несколько дней. Я даже не знаю, где она живет. Я вообще почти ничего о ней не знаю.
Врач смотрит на нее с раздражением. Лея забирает у нее пакет.
Такси едет по знакомым улицам. Скоро Лея будет у себя дома. Выйдя из машины, она разрывает белый полиэтилен и открывает пакет. Там – сложенное пестрое платье и ключ с привязанным к нему кусочком бечевки. Лея заходит в подъезд, но потом возвращается на улицу, достает из пакета платье и раскладывает его на скамейке. Чтобы платье не унесло ветром, Лея кладет на него камень. Потом она поднимается в квартиру, находит в ящике стола конверт и опускает в него ключ. На конверте она пишет название фирмы, в которой работала Дина. Выяснить адрес не составит труда. Телефонная справочная работает круглосуточно. Надо только подождать, и кто‑нибудь обязательно ответит.
Каин
От прежних жильцов мне в наследство достался флюгер. Когда я в первый раз вошел в эту квартиру, был поздний вечер; я открыл дверь только что полученным ключом. Квартира была совершено пуста. Я шел из комнаты в комнату, слыша звук своих шагов. Мне приходилось двигаться медленно, касаясь стен ладонями. Поверхности сменяли одна другую, словно пытаясь обманом получить хотя бы немного ласки – штукатурка, кафель, рыхлая бумага обоев. Я зашел в большую комнату и остановился. На полу лежал ровный световой блик. Квадратный блик, вымеренный оконной рамой, будто фонарям, луне и освещенным окнам домов было мало улицы и повисшего над городом белесого зарева, и они стремились проникнуть в квартиры, в замкнутое, геометрически расчерченное пространство, и задержаться там, приняв форму, понятную глазу. Я сел на пол, прислонившись спиной к стене. Она была прохладной. Вскоре мне стало зябко, но я продолжал сидеть, почти не шевелясь. Стена была устойчива, она была тут до меня, ее положение можно было описать относительно других стен, относительно дома и города. Я прибыл два дня назад, без цели, без планов, без записной книжки, без истории, которую я хотел бы про себя рассказать, без объяснений, которые бы соответствовали одно другому. Этот город был промежуточной остановкой, я понимал это. Но в тот момент я хотел слиться с этой стеной, стать таким, как она, неподвижным, чтобы даже температура моего тела приблизилась к ее температуре. По окну хлестнула ветка дерева. Поднялся ветер. И тогда это произошло. Тень в лежащем на полу блике, которую я поначалу приписал скрещенью оконного переплета, вдруг пришла в движение, превратилась в взлохмаченную фигурку, размахивавшую руками, раскачивавшуюся, ударявшуюся изнутри о ребра светового квадрата. Потом в квадрате стали появляться точки. Они дробили мечущийся силуэт; заполняли квадрат собой, как если бы его засыпали землей. «Дождь». Я вскочил, в два прыжка очутился у окна, распахнул его. В лицо мне ударил ливень. Капли были колкими. Щурясь и прикрывая глаза рукой, я разглядел в метре от стены, на штативе, латунный флюгер. Его хвост представлял собой колесо с пластиковыми перепонками. Если бы не ветер, можно было бы подумать, что внутри колеса мчится, быстро перебирая лапками, толстая невидимая белка. Я подождал несколько секунд и закрыл окно. Дождь заливал стекло, фигурка в квадратном блике стала мутной.
Когда я проснулся, ветра не было. Флюгер был неподвижен. Я лежал и смотрел на него. Мне хотелось, чтобы он снова пришел в движение. При свете дня, без тени, пляшущей на полу комнаты, он был бы просто конструкцией из легкого металла, не лишенной забавности – если принимать в расчет пластиковые перепонки на хвосте. Я хотел, чтобы весь ветер остался снаружи. Однако флюгер сделал первый оборот только, когда на улице зажглись фонари. Позже, прожив в этом городе несколько дней, я узнал, что ветер в нем поднимается по вечерам и утихает под утро.
В ту ночь снова шел дождь, и, глядя на дробящиеся очертания пляшущего силуэта, чьи жесты, на первый взгляд, хаотичные, повторяли простые движения едва различимого в темноте улицы неодушевленного тела, в свою очередь, подчиненного розе ветров, я вдруг подумал, что мое бегство можно если не остановить, то разнообразить. И, может быть, разнообразя его, раскалывая вектор своего движения на множество векторов, я получу возможность маневра, вариант перспективы – так разбросанные на полу осколки стеклянного сосуда иной раз отражают комнату под углами, непредставимыми для человека, привычного к ее цельному отображению. Холодная пустота внутри, растягивающая и сжимающая время, рождающая из себя оседающие свинцом туманности, мутные вихри, которые заставляли меня сниматься с места, покупать билет на первый же поезд, избегать всего, что могло бы задержать меня – знакомств, домашних животных, пристрастий, жизненного уклада, мелочей, придающих квартирам обжитой вид, должна была покрыться панцирем, мозаикой каждодневных событий, обстоятельств, происшествий, которые бы дробили ее, обманывали, лишали власти. Я понимал, что эта мозаика должна иметь со мной как можно меньше общего – иначе бы я получил множество фасеток, в каждой из которых отражался бы бегущий человечек. И тогда я решился на кражу. Фрагменты чужих жизней – вот что должно было стать моим панцирем, моей уловкой, моим хитроумным лабиринтом. Теперь, едва ли не впервые, у меня был план. Но недоставало самого главного. Силы, столь же осмысленной, сколь и случайной – без нее замышленная мною конструкция осталась бы безжизненным макетом, жалкой декорацией. Я прислушался. Мне казалось,
что сквозь шум дождя я различаю скрип давно не смазанных втулок флюгера на укрепленном за окном штативе. И в этот момент мне стало совершенно ясно, для чего он мне может понадобиться. Ветер, вот, что все решит.
Главное было не встречаться с ними взглядом. Это бы все нарушило. Флюгер оживал с наступлением темноты; я направлялся туда, куда указывала его стрелка. Я шел и смотрел людям в окна. Я так и называл их: окна севера, запада, востока. В южном направлении я не ходил: стена дома стояла на пути ветра; флюгер никогда туда не указывал. Перед некоторыми окнами я останавливался. Вскоре я облюбовал себе несколько постоянных точек наблюдения, обозначив их номерами. Окном номер один была студия танцев. Номером два – лавка часовщика, предпочитавшего работать по ночам. Я заметил, что в полночь он переводил стрелки висевших на стене ходиков на шесть часов назад, а под утро возвращал их на то место, где они и должны были быть; номером три – квартира, в которой старушка вязала шарф. Когда заканчивался шерстяной клубок, она брала следующий – любого другого цвета. Шарф уходил кольцами в холщовый мешок у ее ног. За четвертым окном жил ветеринар, принимавший на дому. В подъезд заходили люди со змеями, выглядывавшими из рукава пальто; с игуанами на замшевых поводках; с аквариумами, в которых, плавали, стелясь к дну, огромные серые рыбины; с лисами, свернувшимися в клубок на голове у своих хозяев. Были еще окна кафе, частных квартир, окна с занавесками, с комнатными цветами, с доносящейся из‑за стекол музыкой, освещенные лишь ночниками, галогенными лампами, треугольным всполохом света из‑за приоткрывавшейся двери. Это было так: человек двигался, я прокладывал в уме траекторию его движения и, улучив момент, выхватывал плывущий перед ним прозрачный шар; или – срывал с него невидимый плащ и уносил с собой. На месте похищенных мною предметов тут же возникали новые; хозяин не лишался украденного. Во всяком случае, мне хотелось так думать. Я уносил эти вещи домой и примерял их на себя. «Здесь нужно перебрать весь механизм» – говорил я, щурясь. Или: «Пора уже спать, мой мальчик. Завтра узнаешь продолжение про волшебника» – женские голоса давались мне труднее других. Я не повесил в своей квартире зеркало, предпочтя ему ночное окно. Мое лицо и фигура были нечеткими, сквозь них проступало движение веток, мелькали фары проезжавших по улице машин; на моем лице появлялись круги от дождевых капель, просвечивали пыльные разводы. «Не выпить ли нам кофе, сегодня вечером?», – говорил я. Или: «Пожалуйста, возвращайся сегодня пораньше». Так, заглядывая в отверстие камеры – обскуры, видишь пейзаж с предгрозовым небом, мельницами, каналами, осенним полем, редкими деревьями, но забываешь про пустоту внутри коробки.
Но потом все кончилось. Это произошло у окна номер двенадцать северо – восточного направления, в восемь часов вечера. Накануне похолодало. Ветер то швырял мне в лицо дождевую взвесь, оборачивая меня в кокон студенистого воздуха, то отступал – как старик, пытающийся вспомнить только что забытое слово. Я поднял воротник плаща. До дома от меня было не больше пяти метров. Напротив подъезда росло дерево. Влага копилась в бороздках его коры, оседала к выступающим из земли корням. Так, наверное, выглядит зимой пустыня, если смотреть на нее из космоса – после того как прошел ливень, и потоки воды устремляются по растрескавшимся руслам к ближайшему морю.
Дерево было для меня очень кстати. За стволом, в темноте меня было не заметно; я, зато, видел все очень четко. Я видел комнату. В комнате стоял стол. За столом сидела женщина. Она печатала на пишущей машинке. Рама делила квадрат окна на три неравные части. Мне казалось, что я вижу перед собой три разъединенных экрана, и изображение транслируется на них с разной скоростью – ссутулившаяся фигура с наклоненной головой, с прижатыми к бокам локтями; пальцы, каждые несколько секунд нажимавшие на рычажок каретки; лампа с зеленым абажуром, пачка бумаги на противоположном краю стола.
Тот порыв ветра, видимо, был особенно сильным. Я услышал, как воздух бьет в стекло. Я не могу сказать точно, как все случилось. Видимо, окно распахнулось, ветер ворвался в комнату, закружил бумажные листы. Женщина подняла руку, защищаясь от ветра; резко встала, подбежала к окну. Я не успел спрятаться за дерево. Женщина заметила меня. Она встретилась со мной взглядом. Она не выглядела испуганной, скорее – удивленной. «Что вам нужно? – спросила она, – что вы здесь делаете?». Хотя, может быть, это спросила не она, а я произнес эти слова вместо нее. Все длилось несколько секунд. Она смотрела мне в лицо, и я чувствовал, как мозаика, которую я так скрупулезно выстраивал, дает трещины, оползает, осыпается от внешнего воздействия, обнажая то, что должна была собой закрывать. Мне показалось, что я теряю объем, становлюсь плоским, способным пропускать сквозь себя свет, стелиться вдоль земли, мчаться, не ощущая сопротивления воздуха. И тогда я побежал, что было силы, пытаясь спасти то немногое, что еще оставалось. Я взял билет на первый же поезд. Он отбывал в южном направлении.
…Я уехал, но мысленно я продолжаю возвращаться в тот вечер. Каждый раз я иду одной и той же улицей, ветер подгоняет меня в спину. Но я иду так не из‑за ветра, а потому что я сам выбрал этот маршрут. Ветер дует все так же сильно, как всегда по вечерам, в том городе. Такова роза ветров. Логика движения небесных тел, создающего циклоны и бросающего им навстречу антициклоны, не меняющего ни скорости, ни направления, не терпящего отклонений от выверенных орбит, в какой‑то точке – то ли времени, то ли пространства – оборачивается россыпью случайностей: мячом, катящимся по пустой улице; сорванным с петель деревянным ставнем; скованной спазмом диафрагмой астматика; парусником, мчащимся на риф. Так, пройдя свой путь по артериям и венам, кровь растекается по лабиринту капилляров. Я иду по улице и подхожу к знакомому дому. Мне даже не приходит в голову задержаться перед ним. Я сразу захожу в подъезд. Первый этаж, я звоню в дверь. Где‑то наверху, в одном из лестничных пролетов хлопает, разбиваясь вдребезги, окно. Я продолжаю слышать, как падают осколки, когда дверь открывается и на порог выходит женщина. Она смотрит на меня удивленно. Я встречаюсь с ней взглядом.
Я говорю: «Здравствуйте, вы меня, наверное, не помните?»
Черепахи
Наверное, мы хотели пошутить, но в тот же момент поняли, что не шутим. Это в июне было. То лето было прохладным, и все же, когда я приходила к Лизе – а в тот год я бывала у нее особенно часто – мы выходили на балкон и подолгу там оставались. Ее окна были вровень с верхушками деревьев, можно было смотреть на листья, а можно – вниз, на прохожих. Сквозь листву их движения скорее угадывались, чем были различимы – как в детских блокнотах, в которых рисуют одну и ту же картинку, лишь немного ее изменяя от страницы к странице, а потом быстро пролистывают и получаются движущиеся человечки.
В тот вечер я заметила на балконе фанерную коробку. Все вещи на балконе казались старыми – от дождей и въевшейся пыли; будто здесь, за внешней стеной из светлого кирпича, время шло быстрее, чем внутри квартиры. Но эта коробка была новой. Мне даже показалось, что я различаю запах свежераспиленных досок.
«Всякая всячина, – сказала Лиза, заметив, куда я смотрю, – Я должна решить, как с этим поступить».
…Мы вернулись с балкона на кухню. Лиза заварила чай. Стены кухни были выложены белым кафелем, они словно и не отсюда были, а из больницы какой‑то, как будто стены разных помещений перемешались и оказываются в чужих домах. Мы пили чай, а потом Лиза сказала: «Там памятные вещи».
– Где вещи? – спрашиваю.
– В коробке. Памятные вещи. Сувениры всякие – обрывки, открытки, фотографии, фигурки. Мне нужно что‑то придумать, я не могу их дома держать.
– Почему не можешь?
– Понимаешь, – сказала Лиза, – они меня держат, а я в них перестала помещаться. Вернее, я помещаюсь, но, скорее, по привычке, потому что иначе не пробовала. Посмотрю на них и вспомню про себя что‑нибудь, что можно рассказать. Ты, вот, придешь, и, может, тебе расскажу.
К тому времени я была знакома с Лизой года три. Наверное, мне никогда не удастся точно вспомнить, как мы встретились. История нашего знакомства была сродни корню садовой травы, уходящему истончающейся ниточкой в рыхлую почву, в лестничные пролеты, к хлопающим дверям, узким лицам за праздничными столами, повернутым к запоздавшему гостю. Где‑то там.
Я часто задавала себе вопрос, зачем я прихожу к ней. Иногда мне казалось, что вместо меня на этой кухне может сидеть другой человек. Любой другой человек, и Лиза будет точно так же наливать ему чай из прозрачного чайника – «огнеупорное стекло, капля холодной воды на него попадет, и он вдребезги», и беседовать с ним. Ее гости были сродни куколке с головой, на которой, образуя орнамент, помещалось кольцо из разных лиц – легкое движение, еле слышный щелчок, и вот уже кто‑то другой пытается согреть ладони, обхватив керамическую чашку, и разглядывает – в который раз уже – выбившуюся нитку на рукаве своего свитера.
– Есть животные, у которых скелет – снаружи. Не молчи.
– Черепахи.
– Вот именно. И я себя чувствую такой вот черепахой. Как будто я внутри скелета нахожусь, среди косточек. Куда ни посмотришь, что‑то о чем‑то напоминает, возвращает внутрь. А внутри одни истории срастаются с другими, как вены у сиамских близнецов, и меняются при этом, и я все время там. И я подумала, что если бы всего этого не было, всех этих напоминаний, то я ведь даже не знаю, какая бы я была. Сначала бы я все помнила, но потом события бы изменились до неузнаваемости. А потом они и событиями бы быть перестали. И меня самой, как я сейчас, тоже бы уже не было.
Мне показалось, что я понимаю ее. В молодости пространство между историями заполнено гелеобразным веществом, и, по мере того, как человек становится старше, вещество это меняет свой состав. К старости оно превращается в разреженный, зыбкий воздух, в котором просматриваются матово светящиеся поплавки. И, если бы этих узелков не было, то и человека, как он есть, наверное, тоже бы не было. Он вообще не имел бы формы.
– А что ты сделаешь с тем, что в коробке?
– В том‑то и дело, что я не знаю. Даже если я оставлю их там, на балконе, я буду помнить, что у меня там стоит коробка, а в ней – важные вещи, и они не на своих местах. Это ничего не решит.
– Может, раздарить?
– Мне особо раздаривать некому, – сказал Лиза, – Да и вещи эти для других людей особой ценности не представят. К тому же, я буду помнить, у кого что оказалось, и историй только прибавится.
– А если вынести их на улицу? Пусть, кто хочет, забирает.
– Нет, так я тоже не могу. Я бы так сделала, если бы эти вещи для меня уже ничего не значили. А они значат. В том и дело. Я не могу их так вышвырнуть, безадресно.
И тогда мы посмотрели друг на друга. Нам это одновременно пришло в голову.
Я сказала: «Зачем же безадресно?»
А Лиза: «Разве на свете мало есть адресов?».
Я сказала: «Да взять хоть телефонный справочник. Он полон точных адресов совершенно посторонних людей.»
«Это выход из положения, – говорила Лиза, – В мире всё находится в движении и ничего не исчезает. Всё превращается друг в друга, но ничто не прибавляется и не убавляется. Горные гряды постепенно разрушаются на одних равнинах и образуются на других. Скелеты динозавров стали камнями. Поленья тлеют в костре, а дым заполняет собой воздух. Так же должно быть и с памятью. Чем больше мы забываем, тем больше помнят другие. То, что уходит из нашей памяти, возникает в воспоминаниях других людей. Правда, это могут оказаться детали совсем других, неизвестных нам историй».
Я сказала: «Это всего лишь предположение».
А Лиза: «Тащи справочник».
«Я отправляю важную для меня вещь незнакомцу, – говорила Лиза, – Человек получает ее неизвестно откуда. Вещь исчезает из одной жизни и появляется в другой. Возможно, она окажется там недостающим звеном. Возможно, она сама станет началом истории».
– Жаль, что мы об этом ничего не узнаем, – сказала я.
– Это условие задачи, – сказала Лиза, – Отправила – отрезала.
…Мы решили действовать наугад. Когда я пришла к Лизе в следующий раз, фанерная коробка стояла в комнате, на столе. Крышки на ней уже не было. Смеркалось, но Лиза пока не включила свет. При таком освещении – когда закат завершился, но сумерки еще не перешли в темноту – выступавшие из коробки предметы различались как скопление параллелепипедов, кубов, пирамид и шаров, нагроможденных друг на друга. Их очертания ничем не отличались от контура протянутой к ним руки. Казалось, когда Лиза опустит руку в коробку, выступавшие оттуда углы и грани проступят сквозь ее ладонь, или, наоборот, исчезнут в ней, будут срезаны надвинувшейся на них тенью. Я зажмурилась. В коробке что‑то переворачивалось, позвякивало и постукивало. Потом все стихло. Я открыла глаза. В руках у Лизы я разглядела небольшой узкий цилиндр. Лиза поднесла цилиндр торцовой стороной к глазу, повернула. Я услышала, как внутри что‑то сыпется. Крошечные осколки. «Калейдоскоп, – Лиза направила цилиндр на свет лампы. Он был из синей пластмассы. На его поверхности были заметны потертости и мелкие царапины, – Не знаю даже, как он ко мне попал. Но в шесть лет он у меня уже точно был. Я думала, что это – подзорная труба, и удивлялась, как же в нее смотрят капитаны кораблей. Они же должны видеть там море, острова, другие корабли. Я думала, что смотрю в эту трубу как‑то неправильно. Я недавно поняла, что и сейчас еще так думаю».
Мы открыли справочник на первой попавшейся странице. Взяли первые, выхваченные взглядом, имя и адрес. Некая Мария О., западная часть города. Мы упаковали калейдоскоп в жестяную коробку из под круглого печенья. Обложили его ватой, чтобы совсем не разбился. Лиза еще сказала, что, если калейдоскоп окажется лишним, то коробка как раз может очень даже и пригодиться – хранить в ней пуговицы, например.
…С тех пор, в каждый мой приход, из коробки извлекались несколько вещей. Поначалу в наших действиях было что‑то азартное. Никто не знал, какая вещь окажется следующей. Книги, рисунки, бусы, марки, камешки и ракушки, шкатулки, часы – десятки предметов, составлявших для меня трудно восстановимую в памяти мозаику, наподобие узора в калейдоскопе, отправленном нами в первый день. О некоторых предметах Лиза мне рассказывала. Дружбы, любовники, незваные гости, дальние поездки, дни, проведенные вопреки планам, маршруты, измененные в последний момент, смены городов, времен года, медленное истончение давно запомнившихся лиц. Но не обо всех, конечно. А потом я стала замечать, что Лиза меняется. Азарт отступил. Во взгляде появилась решимость – довести начатое до конца, опустошить коробку, избавиться от ее содержимого. Чем дальше, тем в большем молчании проходили эти вечера.
С самой же коробкой, меж тем, стало происходить что‑то странное. В каждый мой приход она была полна доверху. Я предполагала, что Лиза заполняет ее в мое отсутствие. Но предметы, которые она оттуда доставала, никогда раньше не попадались мне на глаза. Да и вид их был таков, что мне все труднее становилось представить себе, о каких событиях они могли бы напоминать Лизе, чему в ее жизни соответствовать. Там были фотографии в рамках из плотного картона, с барышнями в строгих длинных платьях, с накрахмаленными воротничками до подбородка, в шляпках с перьями; там были неровные медные монеты со скачущими всадниками по обеим сторонам; были граммофонные пластинки; лорнеты в потускневшей серебряной оправе; пустые гильзы; дверные ключи в локоть длинной. В тот период мы уже почти не разговаривали с Лизой. Объяснялись, скорее, жестами. В ее лице теперь читались одновременно растерянность и упрямство. И нам казалось, что, если мы прервем это наше занятие – нелепое и даже вовсе лишенное смысла, когда смотришь извне – разрушится что‑то важное, расстроится расположение точек на неизвестной нам карте – мерцающих, исчезающих в одних координатах и появляющихся в других, по логике, которую мы никогда не смогли бы восстановить, но почувствовали бы, окажись она нарушена. И мы продолжали отправлять эти посылки, из раза в раз.
Почтовое отделение было рядом с Лизиным домом. Буквально, за углом. Мы тщательно упаковывали бандероли в оберточную бумагу и относили их туда. Листы бумаги были рыхлыми на ощупь. У них был странный запах – будто из такой бумаги где‑то делают макеты кораблей. Муляжи парусников в натуральную величину, при полной амуниции. Запах корабля, минус запах моря.
Почтовая служащая в круглых очках в металлической оправе, с одутловатым лицом, казалось, не обращала внимания на частоту наших визитов. Она вообще не смотрела на нас, мы были для нее лишь парой рук, протягивавших в полукруглое окошко коробку или сверток. Мы ждали, что она спросит нас про обратный адрес, спохватится. Но такого почему‑то ни разу не произошло. Раздавался глухой удар деревянного штемпеля, и посылка исчезала из виду – за спиной служащей было еще одно окошко, куда она передавала коробки и свертки. Мне казалось, это и есть ключевой момент. Послание исчезает из виду, за ним закрывается окошко. А потом, спустя несколько дней, где‑то еще откроется окошко, и вещь окажется в руках нового владельца. Предмет исчезнет из одной жизни и возникнет в другой. Мне хотелось проследить их путь в этом исчезновении. Я понимала, конечно, что там – почтовые фургоны, механические ленты, третья смена. Еще я понимала, что увидеть что‑то в момент исчезновения, в принципе, невозможно.








