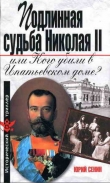Текст книги "Наследство последнего императора"
Автор книги: Николай Волынский
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Разве что пропавшими без вести. Да и то… ведь их никто в розыск не объявлял. Так что и не пропавшими тоже считать нельзя. Очень не простой казус.
– Вот-вот! – ткнул в его сторону пальцем президент. – И международная общественность так считает, что непростой… И некоторые очень влиятельные деятели… специалисты в вопросе… тоже так считают. Только скажи мне, Владимир Александрович, разве по большому счету не все равно кем их считать? Сроки давности вышли. Что ты лично думаешь?
– Конечно, Михаил Сергеевич, вы, как всегда, абсолютно правы, – убежденно заявил Крючков. – В самом деле, не все ли равно – в лоб или по лбу! Но в некоторых ненаших странах, например, в Англии, по таким делам сроков давности нет. Вообще нет. Там, к примеру, нельзя вступить в наследство, если нет юридически надежных доказательств, что владелец наследуемого имущества действительно умер. По данным, которые требуют проверки, у Романовых имеются личные активы в одном из лондонских банков, кажется, в «Бэриг-Бразерс». Претенденты тоже есть, но банк не ведет переговоров ни с кем и не будет вести, пока не получит доказательств, что царь и его прямые наследники перешли из категории пропавших без вести в категорию полноценно погибших. Для этого надо возбуждать дело по факту гибели, эксгумировать трупы, – если они найдутся, или что там от них осталось. Самое главное – идентифицировать, получить неопровержимые доказательства принадлежности трупов или останков. А уж потом выписывать свидетельства о смерти и идти в суд.
– Только и всего? – удивленно спросил Горбачев. – А сразу выписать нельзя?
– Сразу? – задумался Крючков. – Если будет дана вводная… Да, безусловно… наверное… – добавил Крючков. – Правда, есть затруднение. Вы, Михаил Сергеевич, сами юрист и нашу профессиональную поговорку знаете: «Нет тела – нет дела». Надо найти трупы Романовых. Вернее, то, что от них осталось.
– Но ведь Сталин нашел? – возразил Горбачев.
– Берия пытался, – уточнил председатель КГБ. – Но данных о том, что захоронение действительно было найдено и принадлежность его установлена, он так и не получил. Так Сталину и доложил. И никаких письменных следов после себя не оставил. Осторожный был, собака…
– Неужели никаких? Должны быть следы, должны!
– Если и оставил, то они, скорее всего, ушли в личный архив Сталина.
– А где он?
– Сталин? – робко спросил председатель КГБ.
– Какой такой Сталин! Архив его где?
– Нету его. Никто не знает.
– Ну, ты мне горбатого к стене не лепи! – раздраженно бросил президент, не заметив собственного каламбура. – Не может быть, чтоб у Сталина… у такой политической фигуры не было своего архива!
– Был у него архив, огромный… Ни одной бумажки не осталось.
– Так куда девался? – недоуменно откинулся в кресле Горбачев.
– Хрущев и Маленков позаботились уничтожить.
– Зачем? – искренне удивился президент.
– Так ведь репрессии… Тридцать седьмой год, сорок девятый… Они и были главными организаторами и исполнителями. Оба по шею в крови. А все свалили на Берию. В тридцать седьмом, кстати, Берии и в Москве-то не было. Сидел в Грузии первым секретарем ЦК, эвкалипты сажал на болотах – осушал… строил жилье, заводы… открывал школы, техникумы, институты… чай разводил, мандарины… Грузины до него и в глаза мандаринов не видели. Так что сталинский архив для Никиты Сергеича и Георгия Максимильяныча – был смерть. И не только политическая.
– Ладно – все! – хмуро закончил беседу Горбачев. – Давай досье и займись покойниками. Сколько тебе надо времени?
– Дней сорок, – набил себе цену Крючков.
– Уговорил.
Он, не вставая из-за стола, подал Крючкову руку.
Когда тот ушел, слегка шаркая подагрическими ногами, помощник президента Болдин склонился к уху Горбачева и тихо сказал:
– Там в приемной Бессмертных дожидается. В четвертый раз просится.
– Явился все-таки! – поморщился Горбачев. – Совсем меня достал, холера!
Болдин едва заметно усмехнулся:
– Говорит – высшая государственная тайна.
– Сказал, что за тайны у него и откуда?
– Говорит, имеет право сказать только вам.
– Да знаю я все его тайны! Чушь собачья! Давай его сюда. Только предупреди – ровно полторы минуты. Иначе просто выгоню.
Министр иностранных дел СССР Бессмертных, несмело заглянул в кабинет, Горбачев махнул ему рукой:
– Ближе. Садись поближе, Шура! Только ненадолго. Надолго посадит тебя прокурор!
Бессмертных с трудом понял, что президент шутит, и бледно улыбнулся.
– Ну, давай свою тайну! Только по-быстрому!
Бессмертных побледнел еще больше.
– Михаил Сергеевич… Я… Я не понимаю… Неужели вам не доложили мою шифровку? Неделю назад?.. О моей встрече с американским госсекретарем Бейкером?
– Хм… Шифровку? Про Бейкера? Что-то не припоминаю.
Бессмертных посерел.
– Не может быть, Михаил Сергеевич! Ведь жизненно важная информация! Государственный заговор! Кто же посмел ее вам не доложить?! Это же… это же преступление! И – доказательство, что изложенные мне факты…
– А! – неожиданно вспомнил Горбачев. – Что-то такое приносили. Я еще подумал, вы там с американцем лишнее выпили.
Он прекрасно помнил шифровку. Через советское посольство в Берлине министр Бессмертных сообщал Горбачеву, о том, что у него состоялась экстренная и тайная встреча с Джеймсом Бейкером и тот, ссылаясь на данные ЦРУ, заявил, что в СССР среди высших правительственных и партийных чинов зреет заговор с целью свержения Горбачева и ареста Ельцина. Госсекретарь назвал и фамилии главных заговорщиков – вице-президент Янаев, предсовмина Павлов, председатель КГБ Крючков, министр обороны маршал Язов, секретарь ЦК КПСС Бакланов, помощник президента СССР Болдин[40]40
Факт берлинской встречи в июне 1991 года министра иностранных дел СССР А. Бессмертных и госсекретаря США Бейкера, на которой Бейкер передал Бессмертных список будущих «путчистов», которые тогда еще не подозревали, что организуют «путч», неопровержимо установлен следственной бригадой Генеральной прокуратуры РСФСР.
[Закрыть].
Получив шифровку, Горбачев долго не понять, в чем дело. Как суперсекретная информация могла попасть еще куда-нибудь? Президент Буш обещал полную «стерильность» – он еще сам недавно был главным шпионом США – директором ЦРУ! Тогда впервые у Горбачева возникло подозрение о двойной игре американцев, но он тут же отогнал страшную мысль. А сегодня он мог только одно – сделать вид, что все под его полным контролем.
– Мы совсем ничего не пили! – возразил Бессмертных. – Бейкер был очень встревожен!
– А Буш? – спросил Горбачев.
– О президенте Буше не говорили.
– Зато я потом с ним говорил! – соврал Горбачев. – Понял?
Министр слабо пожал плечами.
– Ладно, Шура, ты не волнуйся, не переживай, – успокоил его президент СССР. – Ты поступил правильно. Я тоже свои меры принял – все они, голубчики, получили от меня под первое число! Надолго запомнят! Так что можешь идти гулять.
– В самом деле, Михаил Сергеевич? Все в порядке?
– Да-да, – уже мягче подтвердил Горбачев. – Процесс пошел, идет как надо. Все как задумано…
Через сорок дней наступило 21 августа 1991 года.
В ванную неслышно вошла Раиса.
– С тобой ничего не случилось? – обеспокоено спросила она.
– Нет, – со вздохом ответил Горбачев, включил бритву и подвинулся к зеркалу. Просто задумался… – и он стал бриться.
– Раечка, – крикнул он жене через несколько минут. – Помнишь историю с царским золотом? Как ты думаешь, что Ельцин с ним сделает?
– Заберет себе, – сразу отозвалась Раиса Максимовна. – Если получит.
– Ну-ну, – покачал головой Горбачев. – «Заберет!» Англичанам палец в рот не клади. Мейджор, хоть и премьер, и слабак сам по себе, но крестная мамаша-то у него – Марго. Крепко держит его… в ежовых рукавицах! А на Марго где сядешь, там и слезешь. Вот и посмотрим!
9. ПИСЬМО ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕТобольск 7 января (25 декабря ст. с.) 1918 г.
Милая дорогая моя Ксения!
Очень обрадовала ты меня своим письмом, сердечное тебе за него спасибо. Нам тоже бывает так отрадно получать от вас письма. План устройства гостиницы[41]41
Романовы, находящиеся в Крыму, мечтали открыть частную гостиницу.
[Закрыть] и распределения будущих должностей между вами – мне понравился, но неужели это будет в вашем доме?
Тяжело чрезвычайно жить без известий – телеграммы получаются здесь и продаются на улицах не каждый день, а из них узнаешь только о новых ужасах и безобразиях, творящихся в нашей несчастной России. Тошно становился от мысли о том, как должны презирать нас наши союзники.
Для меня ночь – лучшая часть суток, по крайней мере, забываешься на время. На днях в отрядном комитете наших стрелков обсуждался вопрос о снятии погон и других отличий, и очень ничтожным большинством было решено погон не носить. Причин было две: то, что их полки в Ц. Селе так поступили, и другое обстоятельство – нападение здешних солдат и хулиганов на отдельных наших стрелков на улицах с целью срывания погон.
Все настоящие солдаты, проведшие три года на фронте, с негодованием должны были подчиниться этому нелепому постановлению. Лучшие две роты стрелков живут дружно. Гораздо хуже стала за последнее время рота стрелков полка и отношения их к тем двум начинают обостряться. Всюду происходит та же история – два-три скверных коновода мутят и ведут за собою всех остальных.
С нового года дети, за исключением Анастасии, переболели краснухой, теперь она у всех прошла.
Погода стоит отличная, почти всегда солнце, морозы небольшие. Поздравляю тебя к 24-му, дорогая Ксения. Крепко обнимаю тебя, милую Мама и остальных всех.
Всегда любящий тебя
твой брат Николай
10. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II[42]42Как уже отмечалось, текст этого дневника Николая II, возможно, является апокрифическим, однако, многие сведения из него при перекрестной проверке подтверждаются документально.
[Закрыть]
«7 января (25 декабря по нормальному стилю – Рождество Христово) 1918 года. Восход солнца в 9 часов 30 минут (11 часов 30 мин. по большевистскому времени).
Чудное яркое утро. Путаемся во времени. Большевики велели перевести стрелки на целых два часа вперед. Объясняют: для экономии энергии электрического тока. Где в Сибири течет так много электричества, что его надо экономить? Здесь, в Тобольске, электричество зажглось только под «новый» Новый год (его они назначили нам на 18 декабря) на пять минут у нас, т. е. в бывшем губернаторском доме (они называют его Дом свободы – вот уж издевательство!), в ихнем губкоме и доме Совдепов (и ко мне уже приклеиваются слова– уродцы!). Целых пять минут свет горел в гостиной, и так ярко, что даже заболели глаза от долгой непривычки. Должен заметить, что электрические лампы даже в Зимнем дворце были вполовину менее яркими. Потом выяснилось, что в наш «Дом свободы» электрическую энергию пустили освещать помещения по ошибке».
Николай макнул ржавое стальное перо в пузырек с чернилами, разведенными водой до серого цвета – приходится экономить. Пальцами снял ворсинку с пера, подышал на него и, поразмыслив, отложил.
В доме неумолимо расползалась стужа, проникала во все щели, во все уголки, подбиралась к кровати, на которой одетыми спали жена и сын, прижавшись под двумя одеялами друг к другу. Голландская печь, которая вчера в такое же время весело пела и трещала, сейчас остыла, морозный поток стелился по половицам, и Николай стал его ощущать даже через подошвы валенок. Вот так: именно сегодня, в светлый праздник Рождества Христова, хотя уже солнечным днем красная ниточка термометра показала – 42о по Цельсию.
В коридоре загрохотали сапоги. На пороге появился унтер-офицер Воскобойников и аккуратно положил у печи охапку березовых дров, сверкающих с мороза, как сахар.
– Гражданин Романов! – гаркнул он, отдавая честь. Полушепотом продолжил: – Ваше императорское величество, дров больше не будет.
И растерянно развел руками.
Сначала Николаю показалось, что тот пошутил – подобные дерзкие шутки со стороны солдат охраны, которые обольшевичивались прямо на глазах, случались все чаще. По объему злобы в них можно было судить, как меняется отношение солдат к семье. Вовсе не так, как напутствовал охрану Керенский, напомнивший солдатам при отъезде, что лежащего не бьют. В Тобольске понемногу начали бить, но не сильно – пока все больше злобными репликами по разным поводам и без поводов. Но в то же время среди части остальных солдат сочувствие к Романовым росло. И уже время от времени возникали инциденты между насмешниками и сочувствующими, правда, короткие и без последствий.
Главной причиной растущего недовольства была неопределенность положения охраны. Керенский, пообещавший им командировочное содержание в десятикратном размере, перестал платить уже в сентябре. После октябрьского переворота денежные переводы на содержание Романовых вообще прекратились. На телеграммы Кобылинского Кремль долго не отвечал. Наконец пришло указание из совнаркома снизить довольствие арестованным до 600 рублей в день – это при том, что десяток яиц на рынке 3000 совдеповскими.
Романовы и их охрана стали жить в долг – на подачки, которые удалось собирать по городу Татищеву, Долгорукову и Кобылинскому. Горожане давали плохо и всегда тайком. Брали векселя за подписями Долгорукова и Татищева, прекрасно понимая, что никто по ним не заплатит. Скоро повар Харитонов известил Николая: «В долг больше в лавке не отпускают». И вот еще и дрова…
Но унтер Воскобойников всегда был на стороне Романовых.
– А что, – не поверил своим ушам Николай, – разве весь лес в Сибири уже вырублен?
– Никак нет, лесу очень много, еще на триста лет династии хватит, – виновато объяснил унтер-офицер и покраснел, поняв, что сморозил глупость насчет династии. Николай, казалось, не расслышал его последних слов.
– Так что же, голубчик? – чуть усмехнулся в свои рыжие, тронутые пегой сединой усы бывший император.
– Да ведь… – он беспомощно развел руками и умолк.
– Говори, Воскобойников, смелее! – приободрил его Николай. – Надеюсь, мне можно доверять.
– Воспретили-с, Ваше величество. Гражданин тобольской военный комиссар приказал: «Сегодня царю дров не давать совсем!»
– Так отчего же?
– Оттого, Ваше величество, что поп вчера в конце обедни провозгласил многая лета Государю императору Николаю Александровичу и всем близким и присным его. Теперь в чеке кричат: монархический заговор, попытка открыто провозгласить возвращение царской власти… Эх, если бы вправду!.. – грустно вздохнул унтер-офицер.
Николай взял свечу, направился к окну, долго всматривался в темень, но ничего не мог увидеть, правда, он и не особенно старался. Он просто не хотел, чтобы унтер видел его лицо. Воскобойников выжидал, потом не выдержал и деликатно кашлянул.
– Да, голубчик? – обернулся Николай. – Извини, задумался…
– Свечечку-то… – сказал Воскобойников. – Свечечку с подоконника убрать бы надо, Ваше величество.
– Отчего? – удивился Николай.
– Так ведь у нас теперь народишко совершенно с ума съехавши! – в сердцах воскликнул унтер. – Всенепременно найдется подлец и скажет, что Ваше величество изволили кому-то сигналы подавать. А ихней чеке того и надо: там ведь звери… лютые звери засели… половина – из бывших жандармов. Выслуживаются перед новой властью!
– Из жандармов? Надо же! – удивился Николай. И вздохнул: – А вообще-то ты прав, Воскобойников. Видишь, как – даже свечку в руки просто так взять нельзя.
– Такая у них свобода, Ваше величество… – согласился унтер.
Николай посмотрел на охапку, открыл дверцу печки, отодвинул заслонку в трубе. Из печки пахнуло кладбищенским холодом.
– Однако же, как быстро стынет, – заметил он.
– Так я сейчас! – заявил унтер. – Сейчас истоплю, ваше императорское величество.
– Спасибо, Воскобойников, спасибо, голубчик, не надо, – ответил Николай. – Я сам. Мне это доставляет удовольствие. В Зимнем дворце такой радости у меня не было.
Взял плашку и аккуратно стал снимать с нее бересту. Но вдруг остановился и обернулся к унтер-офицеру.
– Постой-ка, Воскобойников, – произнес он. – Ты говоришь, «товарищи» велели совсем не давать дров?
– Так точно, Ваше величество, – подтвердил Воскобойников. – Совсем не велели!
– Тогда эти откуда?
Воскобойников смущенно потоптался на месте.
– Энти… энти… его благородие господин-гражданин полковник велели принести и не сказывать, откуда.
– А у караула дрова остались? – спросил он.
Воскобойников ничего не ответил.
– Не скажешь?
– Не велено… – смущенно подтвердил унтер.
– Передай мою глубокую благодарность полковнику Кобылинскому, – сказал Николай. – И тем нижним чинам, кто решил добровольно сегодня мерзнуть вместо меня. Но я не могу оставить караул без дров. Особенно в такую морозную ночь. Отнеси-ка их, братец, туда, откуда взял.
Воскобойников растерялся.
– Никак не могу! – вытянулся он в струнку. – Господин полковник велели, что ежели Ваше величество не пожелаете принять дрова и прикажете отнести, то ваши приказания не выполнять.
Тут он подошел к двери, приложил к ней ухо, несколько секунд слушал и потом рявкнул:
– Так что ваши приказы, гражданин бывший император, выполнять не велено!
Дверь резко отворилась, на пороге стал рядовой чин Дзеньковский – щуплый рыжий солдат из местных, с вечно перекошенной злобно-брезгливой физиономией. Его принудительно назначила в состав отряда Кобылинского местная чека. Она же «избрала» его сопредседателем солдатского комитета вместе с нижним чином Матвеевым. Задача Дзеньковского была простая: слежка за всеми и большевизация отряда.
Дзеньковский, как и положено поляку, русского царя ненавидел самозабвенно и искал любой повод пакостить ему за свою «Польску».
– Цо то? – указал он пальцем на дрова. – То царю заборонено давать!
– А я не царю! – отрезал Воскобойников. – Царю не велено, а детям не воспретили.
С этими словами он сгреб дрова и понес их в угловую комнату, где жили девочки. Слышно было, как он с грохотом бросил дрова на пол, после чего раздался радостный девичий визг. Дзеньковский ринулся туда, как на пожар.
– То есть царски дочки! – еще в коридоре закричал поляк. – Им дрова не можно!
– Где ты, сукин кот, видишь царских дочерей? – загремел голос Воскобойникова, словно на плацу Марсова поля в Петербурге. – Здесь нет царских дочек! Тут живут девицы – гражданки Романовы. Про них ваша чека ничего не решала. Так что катись колбаской по Малой Спасской. Детей морозить не дам, и никто тебе не даст!
Дзеньковский что-то прошипел по-польски в ответ. Николай не разобрал слов, но хорошо слышал, как поляк рысью протопал по коридору. И только после него ушел Воскобойников. «Что мне на этих ляхов так не везет? – невесело подумал Николай. – Как нарочно! Я, что ли, их делил, а не немцы с австрийцами? И не Россия в союзе с Бонапартом напала на Польшу, а Польша на Россию…» И тут он услышал за спиной легкие шаги.
В комнату тихонько вошла Ольга – в большом оренбургском пуховом платке на плечах, в белых валенках, подшитых на пятках желтой кожей. Она принесла дрова. Не говоря ни слова, аккуратно опустила на пол около голландки. Зажгла бересту, которую в печку положил отец, сунула в дверцу три плахи потоньше и три больших. Печь занялась мгновенно – запылала, затрещала, словно от радости, что дрова все-таки появились. От чугунной дверцы почти сразу же пошла легкая теплая волна.
– Thank you, darling[43]43
Спасибо, родная (англ.).
[Закрыть], – тихо произнесла Александра. Она проснулась, но боялась пошевелиться, чтоб не разбудить сына: он согрелся рядом с ней и сладко посапывал.
Ольга улыбнулась, прижала палец губам и, беззвучно шагая в своих валенках, ушла.
Александра и Николай думали каждый о своем, и оба молчали, прислушиваясь к живому гудению пламени.
Через час пришла Татьяна – в том же оренбургском платке, который она носила с Ольгой по очереди, и в зырянских пимах – мягких и очень теплых полусапожках из оленьей шкуры, сшитые мехом наружу. В таких никакой мороз не страшен. Она тоже принесла охапку.
– Однако, дорогие наши бывшие величества, – с бесконечным удивлением произнесла она. – У вас, как видно, еще не арктический полюс, но Сибирь явная!
– Чтобы убедиться в правоте твоих слов, открывательница, достаточно посмотреть в окно! – по-английски проворчала Александра.
– Подарок от Деда Мороза к Светлому Рождеству Христову! – заявила Татьяна и сложила дрова у печки.
– Надо забрать, – возразил отец. – Нам достаточно будет, а у вас угловая комната. Неси-ка, дорогая моя, все назад.
– Как же! Сейчас!.. Между прочим, у нас в России теперь имеются революция и свобода. Теперь каждый имеет право не выполнять приказы начальства. Тем более царя.
– Нет-нет! – подала реплику Александра. – Революция не отменяет семью. И вы всегда обязаны слюшать родных родителей!
– Солдаты принесут нам еще, – успокоила ее Татьяна. – Эти не от Воскобойникова.
– Ну-с, ежели так… – проговорил отец и прижал ладони к теплеющим изразцам голландки. – …то это все хорошо и трогательно. Вот серьезное доказательство того, что сей свет состоит не из одних негодяев.
Еще через час дверь снова отворилась, вошли Анастасия и Мария. И они несли по маленькой вязанке.
– Эти лично Евгений Степанович принес, – сообщила Мария. – И потому общественный комитет бывших царских дочерей, избранный на основе «четыреххвостки», что, как объясняет бывшая старшая царская дочь Ольга, означает всеобщее, прямое, тайное и еще какое-то… вроде бы, свободное голосование, постановил: отправить часть дровишек сюда, а то они у нас только место занимают. Мешают и очень не приносят счастья. Вон Машка шагу теперь сделать не может – натыкается на них. Так что, дорогие родители, выручайте, а то совсем от этой березы житья не стало!
– Но честно скажи, как у вас? – спросил отец.
– У нас все просто замечательно. Мечта! – ответила Анастасия. – Солдаты еще и хворосту нанесли нам через черную лестницу. Так что всем, о чем мы всю жизнь страстно мечтали, мы обеспечены, и если не до весны, то до завтра – точно!
– Доброй ночи! – Николай поцеловал дочерей в лоб, Александра их перекрестила.
У двери Мария остановилась.
– Папа… – тихо спросила она.
– Слушаю, душа моя! Что еще?
– Ну почему они нас так ненавидят? Снежную горку сломали. Рыжий обещал и санки отобрать. Зачем? Ольга сказала ему: «Вам нравятся наши санки? Мы их вам и так отдадим – и санки, и коньки. Нам ничего не надо. Пусть это будет вам Рождественский подарок от нас». А он пуще злобствует. Почему?
Николай подошел к дочери и обнял ее.
– Потому, ангел мой, что люди часто ненавидят друг друга потому, что у одних есть то, чего нет у других и никогда не будет. Они хотели и по-прежнему хотят отобрать у нас все. Но «все» – никак не получается. Они отобрали у нас средства, собственность, положение, Отечество… Хотят отобрать жизнь. Но есть у нас нечто, что они отобрать не могут и не смогут никогда…
– Что же?
– Свобода, – ответил Николай.
– Свобода? – горько усмехнулась Мария. – Под ружьем рыжего поляка?
– Я подразумеваю не ту призрачную свободу, которой можно лишить любого, посадив его под замок. Я говорю о свободе в Господе нашем. И Бога они у нас отнять не могут. Им завидно, они вне себя от ненависти и злобы, но… Они могут еще отобрать у нас драгоценности, вещи, снеговую горку, дрова… Но с Христом, который всегда с нами в наших душах, ни совдепы, ни поляки, ни жиды сделать что-либо не в силах. Отсюда от них и то мелкое, отвратительное зло. Оно может нас удивить, но огорчить или причинить страдание не может, потому что нас защищает Господь. Вот это помни всегда. Доброй ночи.
Через полчаса уснула и Александра. В полутьме малиново светилась печная дверца. «В сущности, человеку мало нужно для счастья, – подумал Николай, открывая дневник. – Семью, скромный кусок хлеба и крышу над головой. А если ко всему и немного березовых дров, то о большем и не мечтать…»
Он макнул перо в пузырек, но тут его взгляд упал на сложенный вчетверо листок бумаги на углу стола. Николай развернул – почерк Алексея. Он воровато оглянулся на кровать – сын спокойно спал. Тогда Николай прочел с большим интересом и одновременно с опаской – как бы сын не проснулся и не застал его за занятием, которое, как сам Николай внушал детям, было совершенно недостойным воспитанного человека.
25 декабря 1917 (7 января 1918) года
из Тобольска
от Алексея Романова
Дорогой Петр Васильевич!
Пишу Вам уже третье письмо. Надеюсь, что Вы их получаете. Мама и другие шлют Вам поклон. Завтра начнутся уроки. У меня и у сестер была краснуха, а Анастасия была одна здорова и гуляла с Папой. Странно, что никаких известий от Вас не получаем. Сегодня с утра 20 гр. морозу, а до сих пор было тепло. Пока я Вам пишу, Жилик[44]44
Жильяр.
[Закрыть] читает газету, а Коля[45]45
Сын доктора Деревенько.
[Закрыть] рисует его портрет. Коля беснуется и поэтому он мешает писать Вам. Скоро обед. Нагорный Вам очень кланяется. Поклон Маше и Ирине. Храни Вас Господь Бог!
Вас любящий
Алексей,
Ваш пятый ученик.
Сын написал своему учителю русского языка Петрову. Мать постоянно внушала и девочкам и Алексею правило, которое ей казалось самым важным в отношениях с людьми: «Чем выше ты по своему положению, тем ниже обязан кланяться и всегда помнить своих учителей».
Николай снова обмакнул перо в пузырек и бледно-серыми чернилами написал:
«В сочельник сломали детскую горку. Грязная и мелкая месть за то, архиерей провозгласил нам многая лета… Формально он не мог поступить по-другому: старый церковный устав никто не отменил, а нового нет. И все так резко переменилось. Комиссары заявили, что больше не будут пускать нас в церковь. Добродушные обыватели, которые собираются здесь засветло уже с утра, чтобы поглядеть на «зоологический сад Романовых», преисполнились мгновенно ненавистью. Швыряют нам в окна снежки, бросили камень, разбили стекло в людской. Аликс очень испугалась, Алексей тоже дрожал, но хорохорился и виду не подал. Наконец толпу спровадили п-к Кобылинский и местная чека».
Он захлопнул тетрадь. Это был его «открытый» дневник. Николай всегда оставлял его на видном месте, чтобы облегчить работу агентам чека. Он надеялся, что изучив «открытый» дневник, они не станут искать другой, тайный. Оглянувшись на жену, он убедится, что она крепко спит. Аккуратно он поднял паркетину около правой тумбы стола. Достал из углубления толстую тетрадь в сафьяновом переплете.
Первую запись он сделал в ней шестого марта прошлого года, когда находясь на Ставке в Могилеве, император отступил перед истерикой председателя Госдумы Родзянко и депутата Гучкова, который с Шульгиным прибыл на Ставку спецпоездом: к их паровозу был прицеплен единственный вагон. Николай сначала подготовил первый вариант отречения – в пользу сына, а немного погодя – второй, в котором завещал престол брату.
Так произошло то, чего от него никак не могла добиться мать. Вдовствующая императрица прекрасно видела и сознавала неспособность старшего сына к государственной деятельности, тем более – к самодержавному управления Россией. И Мария Феодоровна, в девичестве датская принцесса Дагмара, с ужасом и самыми тяжелыми предчувствиями отмечала ограниченность цесаревича. Его кругозор не шел дальше учебного плаца в Ропше.
Сразу после смерти мужа, она взяла с Николая слово, что он передаст престол Михаилу, когда брат достигнет совершеннолетия. «Иначе ты погубишь нас всех! – твердила вдовствующая императрица. – И не в переносном, а в самом прямом смысле!» Когда же он позволил себе усомнится и даже набрался смелости заявить, что ее опасения совершенно напрасны, мать не сдержалась и от всего сердца назвала российского самодержца тупицей. И тут же поправилась и уточнила: он был тупицей наполовину. Другую половину тупости, притом тупости особенной, немецкой, воплощала, по ее словам, собой принцесса Гессен-Дармштадская Алиса, нищая умом, и душою, и кошельком. Таких принцесс, как она, в Германии на каждом шагу без счета. И все – нищенки. Россия их всегда интересовала, как чудесный шанс для удачного замужества.
– Но при чем тут Аликс? – обиделся Николай. – Неужели ты хочешь упрекнуть ее в алчности? Она – воплощенное бескорыстие!
– А я и не обвиняю ее в жадности или в желании обогатиться. Но лучше бы у нее были именно эти желания и мотивы жизни! Это пустяк. Но то, что она нам готовит, вернее, ты вместе с ней готовите – ужас, по сравнению с которым Варфоломеевская ночь покажется безобидным водевилем! Хуже всего то, – заявила императрица-мать, – что твоя жена даже не соображает, куда она попала, как нужно здесь жить и что от нее требуется как от монархини. Где там! Она к замужеству своему отнеслась, словно разорившаяся купчиха, которая по случаю удачно вышла замуж за аристократа и тем одновременно прирастила свой капитал. Но никак не русская императрица, у которой по обычаю и закону не было и не должно быть никаких существенных прав, а только обязанности. В этом особенность русского самодержавия, тем оно и отличается от других монархий. Я это поняла не сразу, но навсегда. И тем заслужила уважение народное, и даже любовь. Добиться такого отношения со стороны подданных – долгий и тяжкий труд. Но твоя избранница понятия не имеет, что это такое – государственный труд. Она не хочет трудиться и не будет трудиться. Я ее насквозь вижу: ей больше нравится повелевать, а не управлять, потому что управление страной требует труда, ума и знаний. И вы, два парных сапога, неизбежно приведете всех нас к катастрофе, какой еще не видел свет.
У Николая задрожали губы.
– Я не уверен, maman, что ваши пророчества должны фатально состояться. И как можно судить о человеке, не зная его совершенно? Тем более, о жене вашего собственного сына, которому крайне тяжело и неприятно слышать о своей супруге столь уничижительные характеристики. И слышать от самого близкого в мире человека – от родной матери!..
– Мне знать ее без надобности. У нее на физиономии все написано! – отрезала вдовствующая императрица. – Но если ты хочешь избежать неприятностей, которые эта немецкая нищенка потянет за собой непременно, а ты еще и добавишь всяких бед по своей простоте душевной, то ты должен – обязан по совести! – уступить место Мише. Он не больно-то умен, но и не глуп. Как раз хватит ему соображения, чтобы не переколотить в нашей лавке посуду. Уже одно это может стать спасением. И если ты и она тоже не хотите проклятий на ваши головы, поклянись, что передашь место Мише.
Так она пыталась несколько раз вправить ему мозги. Наконец, Николаю надоели разговоры об одном и том же, и он все-таки выполнил первое требование вдовствующей императрицы: поклялся пред чудотворной иконой Федоровской Божьей Матери, что как только Михаил достигнет царского возраста, Николай найдет способ законно уступить ему престол.
Клятву не сдержал. Но когда его вынудили подписать отречение, мать на второй день приехала на Ставку. Разговоры наедине были короткими и почти ничего не значащими. Николай ожидал упреков, но мать ни разу даже не намекнула на то, что ее прогнозы, к сожалению, сбылись. Перед ней был уже не император, а сын, потерпевший жизненную катастрофу, попавший между смертельными жерновами Истории. Трудности и опасности для него только начинаются, и ему нужна сила духа и поддержка близких. На прощание она грустно посмотрела ему в глаза, поцеловала в лоб – они были почти одного роста – и тихо произнесла: «Что уж теперь причитать? Не вернешь!»
На следующий день она уехала в Киев, разумно предположив, что появление ее в Петрограде или Москве может стать для нее опасным – она уже очень хорошо разглядела в людях первые симптомы всеобщего революционного осатанения.