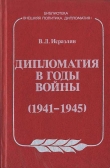Текст книги "Воспоминания дипломата"
Автор книги: Николай Новиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 32 страниц)
10. На последнем этапе
25 октября 1947 года в газетах в разделе «Хроника» было сообщено о постановлении Президиума Верховного Совета СССР о моем освобождении от обязанностей посла в США, а 31-го я был отчислен из МИД и зачислен в резерв назначения при Управлении кадров ЦК ВКП(б).
Так на десятом году моей работы в МИД я расстался с этим высоким ведомством, с тем чтобы вступить на новый жизненный путь.
Каковы же были причины, что привели меня к этому? Их было немало, этих причин, возникавших в разное время и очень разных по своему характеру! Действуя явно или подспудно, они постепенно подводили меня к выводу о принятии давно назревавшего решения.
Рассказывая о них, нельзя не напомнить о таких фактах сравнительно отдаленного прошлого, как мое недвусмысленное заявление наркому М. М. Литвинову о нежелании работать в НКИД и мое «противоборство» с заместителем наркома В. П. Потемкиным в специальной комиссии ЦК ВКП(б), где меня коллективно «уговорили» дать согласие работать в НКИД.
Пять лет я занимался делом, к которому у меня с самого начала не лежала душа, чего я ни от кого не скрывал. Занимался, однако, добросовестно, в полную меру моих сил – иное отношение к делу было не в моем характере, – а в годы войны даже не просто с полной отдачей сил, а, можно сказать, сверх своих сил, духовных и физических. В результате к 1943 году я окончательно выдохся, и у меня возникло намерение каким-нибудь способом сменить вид деятельности. Хотя бы даже путем ухода из НКИД. Куда – это другой вопрос.
О моих настроениях весной 1943 года красноречиво говорилось в дневнике за 25 мая. Вот выдержка из этой записи:
«Сегодня… исполнилось пятилетие моей работы здесь… Срок вполне достаточный, чтобы мне стала невыносима канцелярская сторона нашей работы. Если бы не война, я бы уже давно поставил вопрос о смене амплуа. С поправкой на войну я сделал это в апреле текущего года в разговоре с Корнейчуком (моим новым шефом). Мое заявление (устное) было доведено до сведения В. М. Молотова, который признал мою постановку вопроса правильной, но перемену в моей судьбе отложил на неопределенное время».
О моих тогдашних потугах уйти из наркомата никто всерьез и слушать не захотел. Вместо этого было принято решение направить меня посланником в Египет.
Это назначение, так же как и последующее назначение в Вашингтон, внесшее новые черты в характер моей деятельности, на время притупило остроту моих неуемных мыслей об уходе из НКИД. Притупило, но не заглушило их. В туманной перспективе мне по-прежнему виделись иные пути.
Да, не путь, а именно пути. Дело в том, что полной ясности в выборе пути у меня не было.
В бытность аспирантом Института красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики я не сомневался в том, что пойду по научной стезе, готовился уже писать кандидатскую диссертацию. Вынужденное пребывание в системе Наркоминдела, казалось бы, поставило крест на этой перспективе. Но через год-полтора моя «навязчивая идея» и здесь, на непригодной для нее наркоматской почве, начала постепенно пробиваться наружу. Сначала в виде научных статей в журнале «Мировое хозяйство и мировая политика», не говоря уже о международно-публицистических выступлениях в центральной прессе, а затем в собирании материалов… для диссертации. Да, да, для диссертации, приступить к которой я рассчитывал во время отпуска, начинавшегося с 23 июня 1941 года, и дополнительного месячного за мой счет, разрешенного наркомом, одобрившим мой замысел.
Война подрубила его под корень. В годы войны о нем, естественно, и речи не было. Но затаенные мечты о научном труде в мирном будущем не умирали и тогда. В кризисном для меня 1943 году, когда я тщетно добивался ухода из НКИД, перемена в характере деятельности в виде назначения на заграничную работу придала этим мечтам новые стимулы. 23 сентября, незадолго до отъезда в Каир, я писал:
«Мысль о диссертации… не выходит у меня из головы… Я твердо решил: в Египте или в любом другом месте выкраивать маленькие досуги для работы над диссертацией. Горбатого могила исправит».
Но выправила мой научный «горб», как станет видно из дальнейшего, все же не могила.
Иллюзия о «маленьких досугах» в Египте начисто развеялась в первые же месяцы тамошних деловых перегрузок. Не меньшие, если не большие, перегрузки существовали и в Вашингтоне. Но дело было не только в них. Это с очевидностью вытекает из продолжения цитаты:
«Да, «две души живут в груди моей», а возможно, и три, так как литературное творчество также является моим влеченьем – «родом недуга». Не говоря уже о более раннем периоде, достаточно вспомнить о том, как работа в Таджикистане натолкнула меня на мысль написать роман или повесть «Оби-Шур» («Горькая вода»), и я несколько лет носился с этой неотвязной мыслью. Все материалы, характеристики действующих лиц, подробнейшая разработка сюжета – все было налицо, кроме времени для написания романа.
Институт красной профессуры поглотил тогда все мое время – наука заела литературу! Но в прошлом году возник новый литературный замысел, который увлек меня, – повесть «Дунайя» (на румынскую тематику). Опять разработки, подборки материалов, горение – и опять недостаток времени! Но этот сюжет я пока еще не забросил, так же как считаю лишь отложенным на некоторое время «Оби-Шур». Может быть, в Каире кое-что сделаю? Разве нет у меня примеров того, что в страшную жару (в Ашхабаде и Стамбуле, например) я очень интенсивно работал над переводами художественных произведений с турецкого и на турецкий (в последнем случае над переводом «Железного потока» Серафимовича). Поживем – увидим».
Какой же заряд наивности и оптимизма двигал моей рукой, когда я набрасывал эти строки! Отрезвляющие цейтноты в работе за границей безжалостно перечеркнули мои литературные мечтания, так же как и научные… Однако «навязчивая идея» – все в новых и новых образцах и сюжетах – никогда не покидала меня.
Упомяну лишь еще об одном ее проявлении.
11 августа 1947 года, находясь в Москве и день за днем подготавливая почву для ухода из МИД, я записал в дневнике:
«Мне никак не удается выкинуть из головы «влеченье – род недуга» к писательскому делу. Условия моей жизни давно уже не благоприятствуют осуществлению моей «мании», а за последние 10 лет моя работа прямо-таки исключает что-либо подобное. А я все мечтаю, все зажигаюсь новыми замыслами, непрерывно подбираю материалы, разрабатываю детали сюжета, делаю наброски.
Последняя тема возникла у меня по окончании войны. Мне захотелось отразить в романе Америку в послевоенное время, показать ее превращение из союзницы в войне за общее дело в воинствующего недруга Советского Союза… Весною прошлого года я даже написал три главы текста и эту рукопись привез с собой сюда, чтобы год с лишним спустя при первой же возможности продолжить пробу пера. Кстати, время для такой возможности мною уже намечено – это будет время пребывания в доме отдыха, если позволит обстановка».
Все новые и новые литературные замыслы постепенно брали верх над моим тяготением к научной работе. Но оба эти мои влечения, даже противореча друг другу – правда, не столько в практическом, сколько в умозрительном плане, – безусловно, служили немаловажными стимулами моих «центробежных» стремлений, действуя двойной тягой, как это делают на трудном участке пути два спаренных тепловоза.
* * *
Расставаясь здесь с отвлеченными проблемами научного и литературного призвания, я коснусь далее некоторых сторон моего дипломатического бытия, которые также способствовали моим «центробежным» умонастроениям.
Мой жизненный опыт убедил меня в том, что работа в любом официальном учреждении, независимо от моего положения на иерархической лестнице, не моя стихия. Очевидно, отчасти это зависело от свойств моего характера. Мне всегда больше удавался труд, за который отвечал я единолично.
Признаюсь, что мне нелегко было строить отношения с руководителями министерства. Я охотно брался за поручения руководства, которые считал целесообразными, и с полной добросовестностью выполнял их. Но я не выносил мелочной опеки над собою при выполнении этих заданий, предпочитая выносить на суд критики то, что сделал самостоятельно. Притом я не скрывал неприятия ненужной опеки, а руководящие указания, в которых усматривал какие-либо несообразности, открыто оспаривал, за что, случалось, выслушивал неодобрительные суждения. Нетрудно понять, какое чувство неудовлетворенности рождалось у меня в этих случаях.
Сказанное выше далеко не исчерпывает всех причин и мотивов моих «центробежных» стремлений. Тем не менее я подвожу тут под ними черту и перехожу непосредственно к перипетиям моего ухода из МИД.
Первым свидетельством такого намерения может служить дневниковая запись от 30 марта 1947 года, сделанная в Москве в период моей командировки на совещание Совета министров иностранных дел. Приведу оттуда соответствующий отрывок:
«Мне пора на родину, к родным пенатам – мне очень тяжело дальше переносить заграницу…
Да, пора! Уже три с половиной года я живу за границей. Я всерьез озабочен этим вопросом. Именно имея в виду подготовку почвы для возвращения, я и предложил прошлой осенью Молотову прислать ко мне советником-посланником Царапкина. Сейчас он уже в Вашингтоне, и мои шансы, таким образом, возросли.
Я намерен поставить вопрос о возвращении в конце 1947 года, с тем чтобы отъезд осуществить к лету 1948 года. Сейчас об этом говорить рано, так как я всего еще год нахожусь на посту посла в Вашингтоне, притом все время бываю в разъездах. Через год это будет совсем другое дело. Возможно даже, что тогда я смогу поставить вопрос и более радикально».
Более радикально… Это просто не досказанная до конца давняя мысль об уходе из МИД.
Но уже две недели спустя я решил не откладывать дела в долгий ящик и в середине апреля вел на эту тему настоятельный разговор с заведующим Отделом кадров МИД М. А. Силиным и с работником Отдела загранкадров ЦК ВКП(б) Струнниковым, а затем в мае возвратился к этой же теме в беседе с заместителем Силина Сулицким (в Вашингтоне). Во всех трех случаях речь пока шла только о возвращении в скором времени на родину (об уходе надо было говорить не с ними). Моя инициатива ни у кого из них одобрения не встретила, но это не подорвало у меня надежд на конечный благоприятный ее исход.
Правда, не обошлось дело и без сомнений, которые временами возникали у меня. Не выглядят ли мои намерения, думалось мне, как попытка уйти с фронта? Куда – в тыл? Нет, отвечал я в таких случаях самому себе. Я просто добиваюсь перевода с одного фронта на другой – с дипломатического на идеологический. И этим ответом утверждался в мысли довести свои стремления до логического конца.
21 июля я получил указание В. М. Молотова выехать в Москву в связи с одним заданием, тему которого он не уточнил. Гадая о цели вызова, я не исключал и предположение, что речь в Москве пойдет о последствих моих апрельско-майских демаршей по давно наболевшему вопросу.
Приняв во внимание, что телеграмма Молотова не содержала повелительно звучащих слов «немедленно», «срочно» и т. д., я готовился в дорогу без особой спешки.
Прибыв в Москву 1 августа, В. М. Молотова я там не застал. После парижского Совещания министров иностранных дел СССР, Англии и Франции в июне – июле он, как мне сообщили, уехал в отпуск в Сочи. В этом чувствовалось некое новое веяние в работе министерства, в котором слово «отпуск» было на многие годы изгнано из лексикона.
Это новшество, свидетельствовавшее о наступлении более спокойных времен, натолкнуло и меня самого на мысль об отпуске. Не отдыхал я с 1939 года.
В беседе с А. Я. Вышинским, замещавшим министра, я затронул эту тему, и он высказал мнение, что Молотов вряд ли станет возражать против моего отпуска. Не скрыл я от Вышинского и свое вызревшее к тому моменту твердое намерение поставить вопрос о возвращении из Вашингтона на родину.
– Вячеслав Михайлович в курсе ваших намерений, – улыбнулся Вышинский и добавил: – Но я дополнительно поговорю с министром обо всем этом вечером. Между прочим, Николай Васильевич, до отпуска вам надо заняться одним важным заданием, – предупредил он меня. – Министр ждет от вас обстоятельной докладной записки о новых тенденциях в американской внешней политике. Тщательно проанализируйте «доктрину Трумэна» и «план Маршалла» и попытайтесь наметить их политические последствия. Тема вам хорошо знакома, а необходимые материалы вы найдете в Отделе США и в секретариате министра. Двух недель вам хватит на это?
– Вполне хватит, – заверил я его.
Свое обещание поговорить обо мне с Молотовым Вышинский выполнил. Уже через день он известил меня о согласии Молотова на мой отпуск и посоветовал мне, не откладывая, пройти в кремлевской лечебнице медосмотр, необходимый для получения путевки в санаторий Совмина в Сочи, что я в скором времени и сделал.
Но как ни нуждался я в отдыхе и лечении своих переутомленных нервов, первоочередной для меня все же была задача возвращения из Америки. Меня беспокоило, что Молотов никак не реагировал на мой разговор с Вышинским об этом. «Несколько дней назад, – писал я в дневнике 6 августа, – я поставил перед В. М. вопрос о возвращении на родину… К сожалению, пока ответа не имею. Возможно, получу его завтра». Но и через два дня, 8 августа, я с беспокойством отмечал: «О реакции В. М. на мою просьбу мне пока ничего не известно».
В этот же день я написал министру письмо, которое ниже привожу полностью:
«Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Я прошу прощения за то, что беспокою Вас во время отпуска. Я решил написать это письмо во избежание какой-либо неясности в отношении постановки мною вопроса о моей дальнейшей работе в США.
1-го августа с. г., в день моего прибытия в Москву, я в разговоре с тов. Вышинским, наряду с вопросом об отпуске, затронул также вопрос, который в течение последнего времени все более отчетливо встает передо мной, – о моем возвращении в СССР. Об этом я в предварительном порядке говорил в апреле с. г. с т. т. Силиным и Струнниковым (ЦК ВКП(б)) и в мае с. г. с тов. Сулицким (в Вашингтоне). Я сказал тов. Вышинскому (для передачи Вам), что считал бы целесообразным перевод меня на работу в СССР, так как я нахожусь на заграничной работе уже в течение весьма длительного времени – через 3 месяца исполняется 4 года моей работы за границей, в том числе 3 года в США.
Я добавил, что если мое пожелание невозможно осуществить в ближайшее время, то мне хотелось бы иметь перед собою отчетливую перспективу, например, в виде решения в принципе вопроса о моем возвращении в более или менее определенный срок, который Вы могли бы предварительно указать.
Мотивом постановки мною этого вопроса является мое твердое убеждение, что со многих точек зрения для советского дипломата нецелесообразно оставаться на посту за границей бессменно в течение слишком продолжительного периода и что в случае возможности обеспечить замену заграничные кадры следует обновлять. В этом убеждении я, разумеется, не делаю исключения и для себя.
Жду Ваших указаний.
С искренним приветом
(Н. Новиков)
8.VIII.47 г.»
11 августа из секретариата министра мне передали копию моего письма с такой резолюцией министра: «Тов. Новикову Н. В. Вопрос о Вашей дальнейшей работе рассмотрим после окончания Вашего отпуска. Об остальном договоритесь с т. Вышинским. В. Молотов. 10/VIII».
В дневнике за этот день я записал:
«В. М. ответил на мое письмо, заявив, что вопрос о дальнейшей работе будет рассмотрен по моем возвращении из отпуска. Значит (делал я неутешительный вывод. – Н. Н.), все дело пока откладывается в довольно долгий ящик».
Лишь 20 августа положение наконец прояснилось. В этот день я записал: «Кажется, сбывается долгожданная мечта! В принципе решено, что я больше не поеду в Вашингтон».
Если дело обстояло так благополучно, то к чему же тогда относилось словечко «кажется» с неким налетом сомнения? Да к тому, что решается, в сущности, только первая половина задачи переустройства моего жизненного уклада.
Ответ Молотова о решении вопроса в принципе укрепил мою надежду на то, что теперь мне удастся успешно решить и вторую его половину. Два-три дня подряд я непрестанно обдумывал, какой шаг в связи с этим необходимо сделать в ближайшее время, и пришел к выводу: вопрос об уходе из МИД надо поставить безотлагательно. По поговорке: «Куй железо, пока горячо».
Но Молотов в Сочи. Что ж, написать ему еще одно заявление, на которое последует новый неопределенный ответ и неминуемая затяжка с решением? Нет, нужен какой-то иной, более эффективный шаг. И тогда я решил пойти со своим личным вопросом в ЦК партии, чтобы поставить его сначала там, а затем (как я ошибочно рассчитывал) обсудить его в Сочи с Молотовым.
В доме на Старой площади я долго беседовал с секретарем ЦК. Я взволнованно изложил ему самое главное из руководивших мною мотивов. Секретарь ЦК, выслушал меня очень внимательно, в разговоре сочувственно отметил, что некоторые из моих соображений заслуживают серьезного рассмотрения. Заявил, что предрешать исход такого вопроса он неправомочен, но что он разберется в нем всесторонне и будет советоваться по этому поводу с Молотовым.
Ушел я от него с ощущением, что сделал немалый шаг вперед, и с надеждой, что в Сочи меня ждет полный успех.
* * *
Медицинский осмотр и различные формальности, связанные с получением путевки в санаторий Совмина, а также неизбежные текущие дела изрядно отвлекали меня от работы над докладной запиской, и поэтому первоначально намеченный мною двухнедельный срок растянулся на три недели с лишним. Лишь 26 августа сдал я ее экземпляры в секретариат министра, все еще находившегося (как я полагал) в Сочи, и А. Я. Вышинскому.
Записка, озаглавленная мною «Доктрина Трумэна и план Маршалла», была – как это и предусматривалось заданием – весьма обстоятельной, занявшей 19 страниц стандартного машинописного текста. В процессе работы я не раз переписывал некоторые разделы рукописи, а затем придирчиво редактировал.
О «доктрине Трумэна» я уже писал в предыдущей главе, поэтому здесь очень сжато скажу о «плане Маршалла» и перспективах проведения его в жизнь.
Этот план был сформулирован Маршаллом первоначально в речи, произнесенной 5 июня в Гарвардском университете, и дополнен несколько дней спустя в его письме к сенатору Ванденбергу (10 июня 1947 года).
План этот, развивающий и конкретизирующий пресловутую «доктрину Трумэна», фактически предусматривал создание американо-западноевропейского блока, который был бы направлен своим острием против Советского Союза и стран Восточной Европы.
В записке я подробно остановился на тех средствах и способах, с помощью которых американская дипломатия и военные ведомства намечали осуществить эту цель. Свой обзор и анализ я заключил так:
«Проведение всех этих мероприятий позволило бы создать стратегическое кольцо вокруг СССР, проходящее на западе через Западную Германию и западноевропейские страны, на севере – через сеть баз на северных островах Атлантического океана, а также в Канаде и на Аляске, на востоке – через Японию и Китай и на юге – через страны Ближнего Востока и Средиземноморья».
Это заключение можно сейчас рассматривать как сбывшийся прогноз. С той, однако, поправкой, что в охарактеризованное мною стратегическое кольцо не вошел Китай, ставший с 1949 года независимой Китайской Народной Республикой.
В записке я, естественно, указал и на те серьезные препятствия, которые мешали осуществлению воинственных планов США. Я осветил их в восьми пунктах. Последним среди них – по месту, но не по значению – был пункт о миролюбивой внешней политике Советского Союза. Сформулирован он был следующим образом:
«Наконец, и это самое главное, на пути осуществления империалистической экспансии лежит твердая и последовательная политика Советского Союза, решительно отстаивающая интересы мира и всеобщей безопасности, препятствующая превращению Организации Объединенных Наций в орудие империалистической политики, разоблачающая все и всяческие попытки сколачивания новых агрессивных блоков и поддерживающая страны, которые оказывают сопротивление покушениям на их суверенитет и независимость».
Сейчас, четыре десятилетия спустя, я, касаясь этой темы, высказался бы несколько иначе – очень уж много изменений претерпел за это время мир. Но принципиальные положения 8-го пункта менять, пожалуй, не стал бы.
* * *
Завершение работы над докладной запиской открывало мне путь в Сочи.
В первый же день пребывания в санатории я с огорчением узнал, что Молотова в Сочи нет и что отдыхает он – вперемежку с работой – на даче И. В. Сталина на озере Рица. Таким образом, решение моей проблемы откладывалось до возвращения в Москву – и Молотова, и меня.
Я вернулся из Сочи 28 сентября, а Молотов задержался на Кавказе еще на неопределенный срок.
Тем временем в Америке собралась в дальнее плавание и моя семья. 2 октября она отплыла из Нью-Йорка на пароходе «Челюскинец». Плавание «Челюскинца» протекало без всяких осложнений, и 20 октября я встретил моих отважных мореплавателей в ленинградском Торговом порту, в том самом Торговом порту, где в 20-х годах работал грузчиком. А 22-го, после суточного отдыха семьи в «Астории», я благополучно доставил ее на Большую Калужскую. Домой! После стольких мытарств чуть ли не по всему белому свету!
Возвратился Молотов в Москву в середине октября. Узнав об этом, я тотчас же, через секретариат, напомнил ему о себе. На следующий день он меня принял. В течение всей беседы с министром в кабинете молчаливо присутствовал член коллегии МИД Я. А. Малик.
Встретил меня Молотов без той приветливости, с какой обычно встречал в мои предыдущие приезды в Москву. Пожимая мне руку, он едва привстал в кресле и довольно сухо поздоровался.
Беседа наша не затянулась. Ее исход, как уже вскоре стало ясно, был предопределен.
Не поднимая глаз от стола, часто заикаясь, министр начал с того, что знает о моем визите к секретарю ЦК, и упрекнул меня в том, что по столь важному вопросу я не обратился непосредственно к нему самому, Молотову. Отвечая на упрек, я сослался на то, что через несколько дней рассчитывал обо всем переговорить с ним в Сочи, где, к сожалению, такая возможность мне не представилась.
– Сколько времени вы в министерстве? – уже менее сухим тоном спросил он. Услышав мой ответ, он сказал: – Срок достаточно солидный, чтобы прийти к выводу, что душа у вас к нашей работе не лежит. Я помню ваши прежние предубеждения против нее, но раньше не придавал им большого значения. Выходит, я недооценивал их стойкость, не так ли?
– Дело не в предубеждениях, Вячеслав Михайлович, – не согласился я с ним. – Если вы разрешите, я выскажу вам свои мотивы на этот счет.
– Не надо, – вяло махнул рукой министр. – Вы уже высказали их в ЦК, да я и сам многое знаю. Главное – это все-таки ваше предубеждение. Правда, выглядит оно, на мой взгляд, странным. И образовательная подготовка у вас основательная, и опыта вы поднакопили порядочно. В коренных проблемах политики разбираетесь. Кстати, читал я вашу записку о «плане Маршалла»… По-моему, полезный документ. – Он помолчал. – Конечно, и трудными чертами характера вас бог не обидел. Одно ваше упрямство в спорах чего стоит. Но об этом я так, между прочим… В общем, уговаривать вас продолжать работу в МИД я не стану. Считайте, что ваша просьба удовлетворена.
– Спасибо, Вячеслав Михайлович! – от всей души поблагодарил я.
– Не за что, – угрюмо буркнул Молотов. – На официальное освобождение от должности потребуется не меньше недели. Потерпите?
– Наберусь терпения, – миролюбиво отозвался я на едкий сарказм.
– Тогда вы свободны, – кивнул мне на прощание Молотов.
Какой глубокой символичностью была пронизана эта простая служебная фраза! Ведь я действительно был теперь свободен устраивать жизнь по своему усмотрению!
* * *
В заключение несколько слов о моем дальнейшем жизненном пути.
Уже с начала 1948 года я отдался литературной деятельности, публикуя свои произведения и переводы с иностранных языков под собственной фамилией и под псевдонимом Н. Васильев.
В 1950 году я был принят в члены Союза писателей СССР.
На нелегком творческом пути у меня было много всего: и достижения и неудачи, и радости и огорчения. Не было никогда только одного – сожаления о добровольно сделанном мною выборе. Идти по этому пути я намерен и впредь, пока этому не воспрепятствуют обстоятельства сильнее меня.
Сейчас, когда я подписываю эту верстку в печать, мне 86 лет 1 месяц и 12 дней.
Москва 1970–1988 годы.