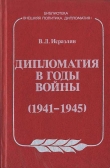Текст книги "Воспоминания дипломата"
Автор книги: Николай Новиков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
В новом разговоре с нею по телефону я воздал должное ее решительному поступку. Она поблагодарила меня, но с печальными нотками в голосе. Я пригласил ее в Вашингтон, чтобы обстоятельно побеседовать, но она на следующий день вылетала в Европу. «Обстоятельства складываются так, что я немедленно должна ехать», – уклончиво сказала она, не объясняя, что это за обстоятельства.
Судя по всему, отъезд Ирины Александровны был связан с ее нашумевшей пресс-конференцией в Нью-Йорке. Американская и европейская буржуазная пресса смаковала ее выступление как первоклассный политический скандал. Ее королевское высочество, член королевской фамилии, резко критикует короля и его правительство – чем не мировая сенсация? Но крикливые отклики прессы были только первым из последствий пресс-конференции; не обошлось дело и без других, скрытых за кулисами греческого королевского двора.
Узнал я о них только летом 1946 года в Париже, куда прибыл для участия в работе мирной конференции. Однажды в перерыве между двумя пленарными заседаниями конференции наш посол во Франции А. Е. Богомолов, также член советской делегации, сказал мне, что в Париже находится какая-то греческая принцесса, выражающая настойчивое желание повидаться со мною. Я сразу же догадался, что это была Ирина Александровна. Нескончаемая череда пленарных и комитетских заседаний, дипломатических приемов, подготовка внутри делегации к заседаниям и многие другие дела не оставляли мне времени для встреч, не связанных с конференцией. Но отказать Ирине Александровне в свидании я по старой памяти не мог и в конце концов уделил ей полчаса.
Встретились мы в здании посольства на улице Гренель. Когда А. Е. Богомолов ввел ее в гостиную, где я наспех просматривал утренние газеты, Ирина Александровна, вместо того чтобы поздороваться со мною, вдруг громко зарыдала. Донельзя удивленный, Богомолов сконфуженно пробормотал какое-то извинение и скрылся за дверью, оставив нас наедине. Должен сознаться, что не менее Богомолова был удивлен и я, хотя при нашем первом свидании в Каире я уже был в сходной ситуации. Кое-как успокоив взволнованную женщину, я подвел ее к креслу и усадил. К счастью, здесь нашелся графин с водой. Большими глотками Ирина Александровна выпила стакан воды, после чего еще какое-то время всхлипывала и вздыхала. А потом поведала мне свою невеселую историю.
Началась она действительно с пресс-конференции в Нью-Йорке. Получив сообщение о ее характере, король Георг пришел в ярость и незамедлительно подписал рескрипт, которым Ирина Александровна лишалась звания принцессы королевского дома и пышного титула «Ее Королевское Высочество», что повлекло за собою потерю ряда привилегий и прерогатив. Не довольствуясь этим, король лишил ее права проживать в Греции. Был расторгнут также ее брак с принцем Петром. Таким образом, Ирина Александровна в третий раз сделалась эмигранткой, притом вторично – из Греции.
Украдкой я разглядел собеседницу. Она сидела грустная, осунувшаяся, с предательскими морщинками под глазами, в уголках губ. Так потускнеть – всего за каких-то два года! Облик этой подавленной женщины никак не вязался с запечатлевшимся в моей памяти образом принцессы Ирины, горделивой красавицы, влиятельной политической фигуры. Мне было безотчетно жаль ее.
– Не подумайте, Николай Васильевич, – говорила она, слегка всхлипывая, – что я хотела видеть вас, чтобы выплакать свои горести, как тогда, в Каире. Нет, у меня к вам деловая просьба. Я хочу съездить в Москву, к родным местам. Надеюсь познакомиться с новым патриархом, посетить православные святыни. Но беда в том, что советская виза почему-то недопустимо задержалась. Я не знаю уж, дадут ли мне ее вообще. Умоляю вас, узнайте, в чем дело, посодействуйте, если можете.
Я пообещал выяснить в посольстве причину задержки, но предупредил, что вряд ли смогу повлиять на ход дела, находящегося вне моей компетенции. Все же Ирина Александровна настоятельно просила меня поинтересоваться ее визой.
Мое время истекало. Я торопился на какое-то заседание, опаздывать на которое не полагалось. Наше прощание прошло без всяких осложнений, хотя Ирина Александровна едва удерживалась от того, чтобы снова не всхлипнуть.
Это была наша последняя встреча. В посольстве я узнал, что с его стороны все необходимые формальности выполнены. Только такой неопределенный ответ я и смог сообщить по телефону Ирине Александровне. А через несколько дней я вылетел в Вашингтон, куда меня призывали дела тамошнего нашего посольства и дела, связанные с подготовкой к предстоявшей в октябре сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ирина Александровна снова исчезла с моего горизонта. И на этот раз навсегда.
6. Дела балканские
До сих пор я рассказывал главным образом о событиях и делах, так или иначе связанных с Египтом. Теперь я хочу остановиться на отношениях с Грецией и Югославией, контакты с правительствами которых уже в первые месяцы деятельности посольства стали по разным причинам осложняться.
Начну с Югославии.
14 декабря 1943 года Информбюро Наркоминдела опубликовало заявление «О событиях в Югославии», в котором сообщило о преобразовании Антифашистского веча народного освобождения Югославии в верховный законодательный и исполнительный орган и о создании – в качестве временного правительства Югославии – Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ). Далее в заявлении говорилось:
«Эти события в Югославии, встретившие уже сочувственные отклики в Англии и США, рассматриваются Правительством СССР как положительные факты, способствующие дальнейшей успешной борьбе народов Югославии против гитлеровской Германии… С этой же точки зрения в Советском Союзе рассматривается и деятельность четников ген. Михайловича, которая, по имеющимся сведениям, до сих пор не способствовала, а скорее наносила вред делу борьбы югославского народа против немецких оккупантов и потому не могла не встречать отрицательного отношения в СССР».
В конце заявления указывалось, что Советское правительство решило направить в Югославию Советскую военную миссию, как это еще раньше сделало Британское правительство.
Такое заявление еще не означало официального признания Национального комитета освобождения в качестве правительства, но было близко к тому, что в международном праве именуется признанием де-факто. Для правительства Пурича оно прозвучало как грозный сигнал. В этих условиях от него требовалась максимальная гибкость в политике, чтобы не оказаться за бортом истории. Однако Пурич предпочел закрыть глаза на действительность и гоняться за политическими химерами, которые ничего, кроме конфуза, ему не дали.
О первом таком конфузе поведал миру корреспондент ТАСС в своем сообщении из Каира от 3 февраля 1944 года, опубликованном в советской печати под выразительным заголовком «Несвоевременное предложение о советско-югославском договоре». Ввиду его важности приведу его целиком:
«Здесь имеются сведения, что в середине декабря минувшего года глава югославского правительства в Каире г. Пурич обратился к правительству Советского Союза с предложением заключить пакт о взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве по образцу советско-чехословацкого договора.
Предложение г. Пурича не могло не вызвать недоумения в советских кругах, если учесть сложившуюся в Югославии ситуацию, профашистскую роль генерала Михайловича, до сих пор считающегося югославским военным министром, и его борьбу против народно-освободительной армии маршала Тито, а также образование Национального Комитета Освобождения Югославии, поддерживаемого широкими народными массами Югославии.
Советское правительство ответило, что оно не может принять предложение г. Пурича ввиду неясности положения в Югославии, отклонив, таким образом, это предложение».
Это жестокое фиаско попытки поднять престиж правительства путем заключения договора с Советским Союзом не образумило Пурича. Учитывая, что одним из главных препятствий в отношениях с Советским правительством является одиозная фигура генерала Михайловича, он предпринял обходный маневр с целью выгородить своего ставленника. Слово о провале этого маневра опять предоставляю корреспонденту ТАСС. В своем сообщении от 6 февраля под заголовком «Неуклюжие попытки реабилитации генерала Михайловича» он писал:
«На днях глава пребывающего в Каире югославского правительства г. Пурич вручил аккредитованному при этом правительстве советскому послу письмо, очевидно заслуживающее, по мнению г. Пурича, особого внимания. По заявлению г. Пурича, указанное письмо исходит от группы советских военнопленных, бежавших из германских лагерей и попавших в отряды четников ген. Михайловича, занимающего пост военного министра в кабинете г. Пурича.» Авторы письма вопреки общеизвестным фактам о борьбе ген. Михайловича против югославских партизан и о его связях с недичевцами и немцами, а также вопреки его профашистским тенденциям будто бы чрезвычайно лестно отзываются о нем и именуют его «вождем сербского народа». В то же время авторы письма резко нападают на главу Народно-освободительной армии Югославии маршала Тито в выражениях, фальшь которых бросается в глаза.
Примитивность содержания письма вскрывает всю неуклюжесть подобных попыток реабилитации ген. Михайловича.
Это письмо было возвращено советским послом г. Пуричу с указанием на явную неправдоподобность содержащихся в нем утверждений».
Возврат премьер-министру письма, да еще с указанием на его вздорность, был своего рода дипломатическим ЧП. Оно сразу же отразилось на наших взаимоотношениях с югославским МИД. Если с самого начала они были прохладными, то теперь стали холодными. Раздраженный нашей акцией, Пурич демонстративно не явился на празднование XXVI годовщины Красной Армии, что было замечено не только нами, но и иностранными наблюдателями. Своим бестактным жестом Пурич лишь доказал, что он не в состоянии извлечь урока из своих провалов и пойти в ногу со временем.
А события между тем все более подрывали и без того шаткий авторитет его правительства. В феврале в югославских воинских частях, расквартированных в Каире и других пунктах, произошли волнения из-за отказа Пурича разрешить солдатам и офицерам выехать в Югославию, чтобы вступить там в ряды Народно-освободительной армии. Волнения удалось подавить, но антиправительственные настроения в югославских частях от этого не ослабли. Падал престиж правительства и в результате начавшегося перехода официальных лиц на сторону Национального комитета. Так, например, 10 марта югославский посол в Москве Станое Симич и военный атташе посольства подполковник Лозич заявили в послании к маршалу Тито, что порывают с антинародным эмигрантским правительством и отдают себя в распоряжение Национального комитета. Об этом же в апреле заявил и председатель Югославского антифашистского комитета в Каире М. Мартинович.
23 февраля на освобожденную территорию Югославии прибыла Советская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом Корнеевым, а в начале апреля через Каир проследовала военная миссия Национального комитета освобождения, о чем я уже писал. 19 мая в Москве ее руководителей принял И. В. Сталин, что с новой силой подчеркнуло то большое значение, какое Советский Союз придавал Народно-освободительной армии и Национальному комитету и их патриотической борьбе.
Дальнейшее пребывание Божидара Пурича на посту премьер-министра грозило королю Петру (который в апреле снова перебрался в Лондон) полной политической изоляцией. Встревоженный Форин офис поставил перед ним вопрос о реорганизации кабинета, запросив также на этот счет мнение Советского правительства. 22 апреля Советское правительство ответило, что «изменения в Югославском правительстве, если они не будут пользоваться поддержкой маршала Тито и Народно-освободительной армии Югославии, вряд ли могут принести какую-нибудь пользу. Следовало бы добиться по этому вопросу соглашения с маршалом Тито, у которого действительно имеются реальные силы в Югославии».
Именно в этом направлении развивались дальнейшие события, предопределившие падение кабинета Пурича. В тот самый день, когда представители Народно-освободительной армии вошли в кремлевские ворота, обанкротившийся премьер подал в отставку и исчез с политической авансцены.
Охладились до очень низкой температуры и наши отношения с греческим правительством – также вследствие его антинародной политики.
Давние стремления греческих патриотов, как в самой Греции, так и за рубежом, объединить усилия всех организаций Сопротивления приобретали все большую популярность. Укрепились они и в греческих вооруженных силах, дислоцированных в Египте и других странах Ближнего Востока. В этих частях сторонники Национально-освободительного фронта (ЭАМ) создали так называемый Общевойсковой комитет, который в марте 1944 года выдвинул энергичное требование реорганизовать кабинет Цудероса, с тем чтобы включить в него представителей Политического комитета национального освобождения, образованного 10 марта ЭАМ и действовавшего на освобожденной территории Греции в качестве временного правительства.
Однако преобладавшие в эмигрантском правительстве крайние реакционные элементы категорически возражали против сотрудничества с ЭАМ, чья радикально-демократическая программа приводила их в содрогание. Тогда Общевойсковой комитет объявил, что военные части не будут больше подчиняться правительству, отвергающему идею национального единства перед лицом общего врага. В начале апреля мятежные настроения в войсках достигли зенита.
Греческие военные власти не замедлили принять драконовские меры против непокорных частей, состоявших по преимуществу из военных моряков и морской пехоты. Расправа над ними чинилась в Египте и в Ливане, но эпицентром кровавых апрельских событий явилось местечко Эль-Амирия вблизи Александрии. Расположенный там греческий военный городок был осажден частями, сохранившими верность правительству. Осажденным предложили сложить оружие, а когда они не приняли ультиматума, против них начались настоящие военные действия. Несколько дней шли бои, в ходе которых правительственные части применили – с благословения английского командования – артиллерию. В конце концов сторонники ЭАМ были разгромлены, более тысячи из них заключены в концлагерь, а многие преданы военно-полевому суду. В полном составе был арестован Общевойсковой комитет.
Эта кровавая расправа над греческими патриотами вызвала немалый переполох как в греческих реакционных кругах, так и у их английских покровителей. В результате возникшего на этой почве правительственного кризиса 3 апреля кабинет Цудероса подал в отставку.
С болью в сердце следили мы за трагическими событиями в Эль-Амирии, глубоко сочувствовали мужественным патриотам, бросившим вызов реакции, осуждали беспощадный произвол греческих властей. Но осуждали молча. В отличие от правительства Пурича греческое правительство не давало нам в тот момент повода официально выразить нашу позицию, скажем, в виде дипломатического представления греческому МИД.
Правда, у нас еще оставалась косвенная возможность проявить свое неодобрение, и мы ею воспользовались. Когда новым премьер-министром был назначен Софоклис Венизелос, особенно отличившийся в качестве министра военно-морского флота своими репрессиями против греческих патриотов, наше посольство фактически отказалось от контакта с его кабинетом, как и с последующим кабинетом.
Однако, демонстрируя таким способом неодобрение реакционной политики греческого правительства, мы не тешили себя иллюзиями насчет того, что наша позиция сможет серьезно повлиять на поворот греческих дел к лучшему. Греческая ситуация основательно отличалась от югославской и предвещала для Греции иной финал, чем в Югославии. Дальнейшие события, к сожалению, подтвердили это.
* * *
Здесь я на короткое время отвлекусь от дел дипломатического порядка, чтобы бегло очертить многозначительные военные события лета 1944 года.
6 июня армии западных союзников высадили первые десанты в Нормандии. В этот день под вечер я с энтузиазмом записал у себя в дневнике:
«Наконец-то долгожданный второй фронт открылся. Скепсис, пессимизм, уныние в стане союзников – все это уступает дорогу бодрому и трезвому оптимизму, без которого невозможна никакая победа. Теперь дело за тем, чтобы вчерашние скептики и пессимисты, столь затянувшие открытие второго фронта, не начали бы вставлять вновь палки в колеса и тормозить темп развития событий. Я глубоко убежден, что, если сконцентрированные союзниками силы и средства будут использованы умело и эффективно, все «атлантические валы» окажутся ничтожными препятствиями».
Коснулся я в этой записи и положения на советско-германском фронте:
«Надо полагать, что и на нашем фронте затишье долго не протянется. Еще не раз мир будет с изумлением читать сводки с нашего фронта. Мне, по должности представителя Советского Союза, приходится повсюду выслушивать столько неумеренных восторгов по поводу наших побед, что иногда невольно рассматриваешь эти восторги как банальные светские любезности.
Но это, конечно, не так или по меньшей мере далеко не во всех случаях».
Мое предположение о скором конце затишья на нашем фронте подтвердилось. 10 июля я сделал в дневнике такую запись:
«Месяц с лишним не писал, и если б пожелал перечислить военные события, которые за это время произошли, то, пожалуй, не хватило бы всей тетради.
Основные события, однако, происходят не на Западе, где союзники только вчера взяли Кан – первый мало-мальски значительный пункт после Шербура. Гораздо важнее то, что делается у нас.
За это время почти полностью очищен Карельский перешеек, что увенчано взятием Выборга; освобождена почти вся Карело-Финская Республика вместе с столицей – Петрозаводском; освобождена большая часть Белоруссии, включая столицу – Минск; началось освобождение Литвы, причем в течение двух дней бои идут уже на улицах ее столицы – Вильнюса; советские войска двигались в направлении Двинска, освобождая Латвию; Красная Армия вблизи польско-советской границы и – что еще важнее – вблизи германской территории, которой она угрожает с нескольких направлений одновременно. Германские армии в Прибалтике могут попасть в железное кольцо советских войск. На фронте между Ковелём и Черным морем пока царит затишье. Когда начнется движение и на этих участках фронта, дело примет еще более благоприятный оборот».
Не исключено, что в этих данных найдутся кое-какие фактические погрешности и неточности в оценках. Ведь это не официальная сводка Генштаба, а просто запись в дневнике человека, насквозь штатского, чей интерес к военным событиям диктовался только чувствами советского патриота. К тому же делал я ее в большой спешке, можно сказать, сидя на дорожном чемодане.
Через час мне предстояло ночным поездом отправиться в путь, который привел меня в Сирию.
7. Миссия в Сирию
В один из адски жарких дней, 15 июня, когда все помыслы обуглившихся от зноя каирцев обращаются если не к благодатным александрийским пляжам, то к прохладной ванне или душу, в посольство заявился респектабельного вида приезжий из Сирии. Принятый советником Д. С. Солодом, он представился ему как Наим Антаки, депутат сирийского парламента от Дамаска, бывший министр иностранных дел Сирии. Н. Антаки доверительно сообщил, что в Каир прибыл с секретным поручением от сирийского правительства и говорить о нем может только с послом.
Я принял Найма Антаки. Представившись мне так же, как и советнику, он передал рекомендательное письмо сирийского министра иностранных дел Джемиля Мардам-бея, в котором тот уведомлял меня, что Наим Антаки облечен полным доверием правительства и уполномочен сделать от имени последнего важное конфиденциальное предложение.
Это предложение, переданное мне устно, было в самом деле важным. Сирийское правительство намеревалось установить дипломатические отношения с Советским Союзом, с каковой целью хотело провести предварительные переговоры. Удобным местом для переговоров оно считало Дамаск, где ответственному советскому представителю будет оказано подобающее гостеприимство и обеспечен дипломатический иммунитет. Выражая надежду на согласие Советского правительства вести переговоры, сирийское правительство вместе с тем просило считать его инициативу конфиденциальной. Аналогичная просьба касалась и поездки советского представителя в Дамаск, разумеется только до завершения переговоров. Дождаться ответа из Москвы Наим Антаки хотел в Каире, где часто вел какие-то коммерческие операции и где, следовательно, его присутствие не давало повода для нежелательных догадок.
Меня не очень удивили меры предосторожности со стороны Джемиля Мардам-бея.
До войны Сирия, как и Ливан, являлась подмандатной территорией Франции, иначе говоря, слегка завуалированной колонией. Формально они обладали национальной автономией, имели свои парламенты и правительства, но вся полнота власти в обеих странах принадлежала французскому Верховному комиссару.
После поражения Франции в 1940 году в Сирии и Ливане некоторое время формально сохранялась власть вишистского коллаборационистского правительства. Однако фактически верховодила там германо-итальянская контрольная комиссия. Захват Германией Греции, в том числе Крита и островов Эгейского моря в непосредственном соседстве с Сирией и Ливаном, ненадежно защищенными остатками вейгановской армии, побудил Лондон к решительным действиям. В июне 1941 года английские войска при содействии частей «Свободной Франции» разгромили вишистские вооруженные силы и оккупировали Сирию и Ливан. Возник как бы период междуцарствия, когда французский мандат практически потерял силу, и у народов Сирии и Ливана появилась перспектива достижения независимости.
Но пока это была только перспектива. Положение правительств этих стран было очень непрочным. Даже после того, как осенью 1941 года Сирия и Ливан были провозглашены суверенными республиками, реальные бразды правления в обеих странах держал в своих руках командующий британскими оккупационными войсками, власть которого пытался оспаривать представитель де Голля. В городах Сирии и Ливана стояли гарнизоны бывшей армии Вейгана, наскоро перекрашенные в войска «Свободной Франции» и продолжавшие оставаться угрозой для независимости этих стран.
В данных условиях признание Советским Союзом Сирии в качестве суверенного государства явилось бы солидной поддержкой ее народа в его борьбе за подлинную независимость. Но преждевременное разглашение факта ведущихся переговоров о признании позволило бы недругам молодого государства помешать их успешному завершению. Отсюда и упор сирийского правительства на конфиденциальность. Правда, такой факт можно было скрыть лишь на короткое время, да и то не от всех. Для английских властей, например, чья разведывательная агентура наводняла столицы стран Ближнего Востока, он был бы, конечно, секретом полишинеля. Деголлевская осведомительная служба на Ближнем Востоке стояла на более низком уровне, и попытка на время укрыться от нее могла удаться. Вероятно, именно французских властей в первую очередь и опасалось сирийское правительство. Я спросил Найма Антаки, так ли это? Он не стал отрицать, что это в настоящий момент Сирию больше всего и беспокоит.
– Но я полагаю, – с искательной улыбкой добавил он, – что у моего друга Мардам-бея есть и другая веская причина, заставляющая его прибегать к конспирации. Буду с вами вполне откровенен. У нас нет никакой гарантии, что Советское правительство воспримет нашу инициативу положительно, хотя сам я полон оптимизма. И в случае, если произойдет осечка и она сделается достоянием гласности, престиж правительства будет подорван. Естественно, что премьер желал бы избежать такого исхода.
Я сказал, что, выражая пока лишь свою личную точку зрения, не вижу повода для подобных опасений. На мой взгляд, дружественная инициатива сирийского правительства встретит самое благоприятное отношение со стороны Советского правительства. Я заверил Найма Антаки, что незамедлительно свяжусь с Москвой и об ответе уведомлю его.
В тот же день я информировал Наркоминдел о сделанном предложении и высказался за то, чтобы принять его. Ответ наркома пришел через два дня. В. М. Молотов уполномочивал меня передать Н. Антаки, что Советское правительство в принципе готово установить дипломатические отношения с Сирией, дает свое согласие на переговоры в Дамаске и поручает вести их мне.
Приглашенный в посольство Наим Антаки с радостью выслушал от меня ответ Москвы и сказал, что сразу же выедет в Дамаск для согласования с Мардам-беем срока и других деталей моей поездки. 7 июля он снова объявился в Каире с известием, что в Дамаске меня ждут в один из ближайших дней, если для меня это удобно. Мы договорились, что я выеду в понедельник 10 июля.
Субботний вечер и воскресенье я провел в кругу семьи на александрийской даче посольства.
В понедельник утром я выехал в Каир, весь день занимался в посольстве текущими делами, давал наставления Д. С. Солоду, которого оставлял на время своего отсутствия поверенным в делах, а вечером сел в поезд, идущий до Хайфы, в Палестине. В Хайфе меня должен был встретить Наим Антаки и на машине доставить в Дамаск.
Меня сопровождали недавно прибывший из Москвы первый секретарь посольства Павел Матвеевич Днепров и атташе Георгий Семенович Матвеев. Днепров сносно говорил по-французски и мог быть полезен в повседневных сношениях с сирийским МИД, а также в ведении дипломатической переписки. Матвеев был необходим для поддержания шифрованной связи с Москвой. Весь его «шифровальный отдел» умещался в кожаном портфеле, с которым он не расставался ни на минуту. И это в течение сорока суток нашей непредвиденно затянувшейся миссии!
С «конспирацией» дело обстояло так. Сотрудникам посольства я дал наказ отвечать всем, кто будет спрашивать обо мне, что я в отъезде, не вдаваясь ни в какие подробности. Это касалось членов дипкорпуса, журналистов и каирских знакомых. Но статс-секретарю египетского МИД Салахэддин-бею я по телефону сообщил, что еду на несколько дней в Сирию, не разъясняя, конечно, цели поездки. Дипломатический представитель не может покинуть страну тайком, словно какой-нибудь контрабандист. Знало о моей поездке и английское посольство: ведь это через него я получал разрешение английских военных властей на проезд через Палестину. Таким образом, «конспиративной» для этих инстанций была лишь цель моей миссии – в том ограниченном смысле, о котором сказано выше. Но любопытно, что ни одна из этих осведомленных инстанций не проронила о моей поездке и слова падкой на подобные новости прессе. В результате опубликованное впоследствии официальное коммюнике о переговорах в Дамаске оказалось для нее абсолютной неожиданностью.
Утром следующего дня мы приехали в Хайфу – одну из баз британского флота в Восточном Средиземноморье. До войны порт играл значительную роль и во внешней торговле Палестины. Сейчас мирная коммерция замерла. Это тотчас становилось ясным даже при поверхностном взгляде на портовые причалы, где торговые суда насчитывались единицами, притом, видимо, и они использовались для военных перевозок.
Едва поезд застыл у перрона, как в купе у нас очутился приветливо улыбающийся Наим Антаки. Наши вещи были доставлены на привокзальную площадь и погружены в багажник потрепанного шестиместного лимузина. Меня сильно подмывало проехаться по всей Хайфе, но дело призывало нас в Дамаск. Все же краешком глаза мы город увидели – сначала по дороге в ресторан, где скромно позавтракали, а потом выбираясь на шоссе, ведущее к сирийской границе.
В погранпункте в долине реки Иордан всю заботу о формальностях взял на себя наш высокопоставленный гид. Он разделался с ними еще до того, как я и мои спутники, выйдя и машины, успели размять затекшие в пути ноги.
До Дамаска еще предстояло проехать 90 километров.
Часов в пять вечера наш лимузин подкатил к отелю «Омейяды», вполне современному и комфортабельному. Тут Наим Антаки простился с нами, сдав нас с рук на руки представителю Протокольного отдела МИД, молодому человеку по имени Хуссейн Марраш. Тот отвел нас, минуя портье, в забронированные для нас номера, смущенно извиняясь за то, что нам не воздаются почести, полагающиеся посланцам иностранного правительства.
Мы заняли два номера из трех, забронированных для нас. В одном поселились вместе Днепров и Матвеев – ради пущей безопасности «шифровального отдела», другой, двухкомнатный, занял я: он должен был служить мне и жильем, и рабочим кабинетом. Хуссейн Марраш пожелал нам приятно отдохнуть, сообщил, что утром мне предстоит встреча с Джемилем Мардам-беем, и откланялся. После его ухода мы старательно смыли с себя слой дорожной пыли, переоделись и втроем пообедали у меня в номере.
Вечером нас, естественно, тянуло прогуляться по знаменитому древнему городу, но мы помнили о просьбе Марраша не делать этого во имя соблюдения инкогнито. Поэтому мы довольствовались тем, что полюбовались тускло освещенной центральной частью города из окна отеля, расположенного вблизи площади Мучеников. Названа она была так в честь сирийских патриотов, которые во время первой мировой войны подняли восстание против турецкого владычества, за что и были казнены на этой площади турками.
Утром 12 июля я просмотрел местные и бейрутские газеты (на французском языке) и не нашел в них ни строчки о нашем приезде – ни в политических репортажах, ни в разделе светской хроники. Заботы правительства о конспирации увенчались успехом.
Моя встреча с Джемилем Мардам-беем произошла не в МИД, как я ожидал, а в каком-то солидном особняке европейской архитектуры. Я так и не узнал, был ли этот особняк обитаем или служил для каких-нибудь иных целей, например для протокольных приемов. Во всяком случае, я видел там только привратника, открывшего мне и Хуссейну Маррашу массивную входную дверь, и Джемиля Мардам-бея, дожидавшегося меня в гостиной.
Сирийскому министру иностранных дел было уже за пятьдесят, но выглядел он очень моложаво. После взаимных приветствий и любезных расспросов Мардам-бея о том, как прошло наше путешествие и хорошо ли мы устроены в отеле, Хуссейн Марраш оставил нас наедине. Начался деловой разговор.
По просьбе министра я разъяснил ему положительную позицию Советского правительства по вопросу об установлении дипломатических отношений между СССР и Сирией. При этом я особо подчеркнул, что отношения устанавливаются на общепринятой международно-правовой основе, с признанием полного равенства обеих сторон. Сделал я это, казалось бы, само собою разумеющееся разъяснение для того, чтобы устранить возможные опасения Мардам-бея. Ведь я не исключал, что ему и его коллегам по кабинету министров, не раз испытавшим на собственной шкуре все коварство политики «великих» империалистических держав, было свойственно некоторое недоверие и к новому для Сирии международному партнеру, к Советскому Союзу, чья политика, как известно, слишком часто искажается враждебными нам кругами.