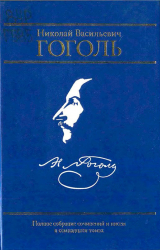
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 51 страниц)
В то же время необходимо отметить, что духовные воинские братства являются лишь одной из частей единого соборного тела Церкви. Мысль об особом положении воина-защитника, «поборника чистоты и благочестия», в церковном единстве Гоголь подчеркнул в самом начале повести, в эпизоде встречи Тарасом своих сыновей. По замечанию К. С. Хоцянова, насмешки героя над их длинной одеждой («поповские подрясники») объясняется контрастом между «господствующей мыслью» Тараса – видеть своих сыновей достойными защитниками Православия – и их одеждой, которая «должна мешать ловкости и быстроте движений, необходимых в ратном деле казака-рыцаря» (Хоцянов К. С. Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». С. 36). Но и этой приметой казаки обнаруживают, по Гоголю, причастность своего братства церковному единству (хотя человек, избравший ратный подвиг, не может, согласно обычаям Церкви, принимать священство). Показательно, что сходный мотив устранения мешающих деталей одежды – стягиванием ее и препоясанием – при подготовке к «вечному ратоборству» – развивается Гоголем в «Размышлениях о Божественной Литургии» при описании облачения священника (Гоголь обращает здесь внимание на ряд как бы «рыцарских» деталей священнического облачения, таких, как поручи и набедренник). «Что ж другое все способности и дары, которые розные у всякого, – писал Гоголь во втором томе “Мертвых душ”. – Ведь это орудия моления нашего».
Сами обращения Тараса к запорожцам – «паны братья» – отчетливо напоминают соответствующие обращения «мужи братия» в Книге Деяний Апостольских. Потому-то духовное родство превосходит у запорожских рыцарей не только любовь к женщине, но побеждает и самую смерть, давая утешение в предсмертные минуты. «Узы этого братства, – писал Гоголь о казаке в статье “О малороссийских песнях”, – для него выше всего, сильнее любви… умирающий казак лежит среди… девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей… Увидевши их, он насыщается и умирает». Таким же утешением – от лицезрения близкого человека, а еще более от сознания исполненного долга – «насыщается» и Остап в свои предсмертные минуты. Отцовское «Слышу!» становится здесь слышанием Самого Небесного Отца. «Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу», – говорит автор о муках, предстоящих Остапу. Упоминание о «тяжелой чаше» прямо обращает к словам Спасителя: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься» (Мф. 20, 23). Следующее далее описание казни Остапа прямо перекликается с гефсиманским молением Сына к Своему Небесному Отцу перед Крестными страданиями. Так же, как взывающий с колен Спаситель «услышан был за Свое благоговение» (Евр. 5, 7), и «явился Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43), так Остап, подобно многим другим христианским мученикам и исповедникам, получает утешение, слышит «таинственный» – но «ужасный» для других – «зов» в свои предсмертные минуты: «…когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, будто стала подаваться его сила… Он не хотел бы слышать рыданий… матери или… супруги… хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил бы его и утешил при кончине. И упал он силою и выкликнул в душевной немощи: “Батько! где ты? слышишь ли ты все это?” – “Слышу!” – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул».
Несомненно, такой же подтекст, указывающий на проявление в действиях Тараса Бульбы воли Самого Бога, содержится и в отношении главного героя к сыну-изменнику. Предательство Андрия неминуемо подлежит наказанию согласно установлениям Второзакония: «Да не будет между вами… такого человека, который… похвалялся бы в сердце своем: “я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего”… не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека… и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых…» (Втор. 29, 18–21).
Размышляя о соотношении мирского и духовного утешений, Гоголь был убежден в конечном торжестве в человеке духовного начала и считал, подобно своему герою, что и «у последнего падлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже… есть и у того… крупица русского чувства; и проснется он когда-нибудь, и… схватит себя за голову… готовый муками искупить позорное дело». «В ком хотя одна крупица этого лиризма, – писал он в статье «О лиризме наших поэтов», – тот, несмотря на все несовершенства свои и пороки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное…» «У русского человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо», – говорит Муразов генерал-губернатору в заключительной главе второго тома «Мертвых душ».
Отступление же от созидающего рыцарский орден духовного утешения к мирским утехам совершается, как показывает Гоголь в «Тарасе Бульбе», не без участия сторонней силы. Помимо внешней войны с ляхами, в повести изображается одновременно и другая, «невидимая брань».
Замечено, что поляки в отношении Малороссии применяют не только силу. Они обольщают также своими нравами и обычаями, перенятыми из Западной Европы, подражанием которой издавна была заражена Польша. Витриной дорогого модного магазина выглядит, например, польская сторона в описании ее в седьмой главе повести: «Все высыпали на вал, и предстала пред казаков живая картина… Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны [на убранство которых не один жертвовал лучшим достоянием своим], и много было всяких других убранств», – «хоть за стекло», добавлял Гоголь в черновой редакции. Перед нами как бы реклама соответствующего образа жизни. Не удивительно, что, как замечает Гоголь в отрывке, дополнившем в 1841 году первую главу повести, многие из русского дворянства «перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы», – все то, что составляло для того времени «последнюю моду» (и что было «не по сердцу» Тарасу, любившему «простую жизнь казаков»).
Далее Гоголь вскрывает и экономическую подоплеку жизни по «последней моде» – разорение родовых имений (вопрос этот, как отмечалось, волновал также писателя при создании «Старосветских помещиков»). Гоголь пишет: «И много было видно… всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских замках». Торговец Янкель говорит, например, о хорунжем, который задолжал ему «сто червонных»: «…у пана хорунжего… нет ни одного червонного в кармане, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у казака, ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему на войну выехать».
Польским роскошно убранным воинам противопоставляет Гоголь простоту снаряжения казаков: «Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было из них ни на ком золота; только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях…» Сравним, однако, слова Андрия, обращенные к полячке: «…за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец». Согласно замечанию Гоголя о предводителе гуннов Аттиле в статье «О движении народов в конце V века», этот «могущественный» вождь, который «сам себя называл бичом Божиим, посланным для того, чтобы исправить мир» (ибо, как уже упоминалось, «жажда бессмертия» «кипит», по словам Гоголя, «и в неразвившемся человеке»), до того дня, как погиб внезапно, предавшись на брачном пиру «неистовому» сладострастию, не позволял «золотым украшениям и камням убирать даже рукояти сабли». Роскошь, таким образом, проникает уже в казацкие ряды. Как ржа, она разъедает слабых, становясь знаком самого предательства. (Примечательно, что слово «зрада» – измена, Гоголь истолковывает в своем «Лексиконе малороссийском» именно как «обольщение».) Таким мы видим Андрия после его измены: «И наплечники в золоте, и на поясе золото, и везде золото… весь сияет в золоте…» «Сто восемьдесят червонных стоят одни латы…» – восклицал Янкель еще в первой редакции повести.
Теме обольщения Андрия посвящено и изображение во второй редакции «Тараса Бульбы» величественной картины католического богослужения, которой «дивится» герой «с полуоткрытым ртом». Как показывает исследование, изображение всего пути Андрия через подземный ход с попаданием в храм осажденного города последовательно соотнесено Гоголем с описанием монастырского подземелья в отрывке «Пленник» (куда начальник отряда польских войск заключает казацкого пленника), а также с образом подземного «гнома» веельзевула в повести «Вий». Вся красота и великолепие польского костела осмысляются автором как гибельный соблазн, «прелесть», против которой не смог устоять Андрий (см.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 254; и коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 471–474).
О том, что Андрий, изменив вере и товариществу, движется навстречу смерти, говорит и образ польской красавицы-панночки в шестой главе, которая встречает героя «застывшая и окаменевшая в каком-то быстром движении» – «как будто хотела броситься к нему». Этот обладающий «скульптурной законченностью» образ прямо напоминает сравнение Гоголем в повести «Рим» красавицы Аннунциаты с «гибкой пантерой», основанием для которого послужила находящаяся в одной из зал Ватикана изумительно сделанная мраморная пантера, готовая броситься на посетителя с витрины {Десницкий В. Л. Задачи изучения жизни и творчества Гоголя // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 67; Пухтинский В. К. Гоголь и античность // Науковi Записки РПжинського ш-та. Черiпв. 1940. Т. 1. С. 116). – Необычность гоголевского сравнения была, кстати, сразу по выходе повести замечена – но не понята– недоброжелательно настроенной критикой. Н. А. Полевой писал об изображении Аннунциаты: «“Никакой гибкой пантере (т. е. леопарду) не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений”. Если красавицу можно сравнивать с леопардом, почему же не сравнить ее после сего с слоном, тигром, львом?» (Полевой И. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Русский Вестник. 1842. № 5–6. Отд. 3. С. 37–38).
Соответствует этим женским образам и изображение красавицы-полячки во второй главе «Тараса Бульбы» – снимающей с себя обольстительные украшения, когда в ее комнате оказывается Андрий: «…он пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и скидала с <1 нрзб.> б<ашмак>» (в печатном тексте: «вынимала из ушей дорогие серьги»). (Обольстительный образ красавицы, скидывающей (надевающей) башмак или «чулок», повторяется у Гоголя в «Записках сумасшедшего», в «Носе», в «Шинели».)
Эпизод пребывания Андрия в спальне ветреной полячки задолго предуготовляет, по замыслу Гоголя, его будущее предательство. Примечательно, что уже следующая встреча Андрия в Киеве с «обольстительной брюнеткой» происходит, по замечанию рассказчика, «в костеле». Впечатления, вынесенные Андрием от первых встреч с красавицей, позднее, под стенами Дубно, «всплывают разом на поверхность» при появлении в казацком стане[742]
[Закрыть] горничной панночки – и именно это определяет дальнейшие поступки героя.
Отсутствием веры прежде всего объясняет Гоголь предательство Андрия. «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? кто дал мне ее в отчизны?» – восклицает герой, объясняясь в любви к панночке. Следует подчеркнуть прямо богоборческий характер этого вопроса. Ибо подразумеваемый ответ на него очевиден: «…каждый христианин, любя весь мир человеческий, который находится под управление одного Царя Небесного, в то же время должен иметь особенную любовь к своему отечеству; потому что отечество не им лично выбрано, а Самим Богом указано ему, когда он родился» (Попов Е., прот. Общенародные чтения по православно-нравственному богословию. СПб., 1901. С. 378).
Идея служения Богу и ближнему не владычествует в сердце Андрия, не наполняет всей его жизни, и потому душа его становится жертвой других «утешений» и «очарований». Этим он отличается от своего брата Остапа. Однако, очевидно, неправы исследователи, утверждавшие, что противопоставление характеров обоих братьев, намеченное Гоголем в самом начале повести, дается «в несколько романтических тонах, как роковая заданность личных черт, присущих обоим им изначально, от рождения» (Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 197). Своей пылкой натурой Андрий проявляет себя, по замечанию К. С. Хоцянова, «как сын своей матери» (Хоцянов К. Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». С. 73). Встречей Тараса с сыновьями Гоголь и подчеркивает роль семейного воспитания (материнского, по преимуществу, в отношении к Андрию и отцовского – к Остапу) в формировании характеров братьев. На эту мысль, очевидно, и обращал внимание в 1916 году на своих уроках наставник великих княжон-страстотерпиц и одиннадцатилетнего страстотерпца-Наследника Цесаревича Алексия Николаевича П. В. Петров.
Один из составленных П. В. Петровым вопросов по содержанию гоголевской повести, на которые должны были отвечать его воспитанники, гласит: «Который из братьев походил по характеру на отца и который был любимцем матери?» (Виноградов И. А. «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. 1998. № 7. С. 22). (Добавим, что эту же мысль можно встретить и в известном учебнике по русской словесности для дореволюционных гимназий А. Д. Галахова, – издававшемся в конце XIX – начале XX века более двадцати раз: «Образы Остапа и Андрея являются живыми отражениями родительских свойств. Остап весь в отца… Андрей – подобие матери…»; История русской словесности (учебник для средне-учебных заведений). Составил А. Галахов. СПб., 1879. С. 234; То же. 21-е изд. М.; Пг., 1915. С. 225.) Если Остап заслуживает при встрече с отцом своими «рыцарскими», бойцовскими качествами полное одобрение, то Андрий получает от отца наименование «мазунчика» – то есть неженки, маменькина сынка, баловня (от укр. «мазать» – баловать, ласкать). «…Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь», – говорит тут об Андрии мать. «Не слушай, сынку, матери… Какая вам нежба?» – возражает Тарас. На большую, в сравнении с Остапом, любовь матери к Андрию указывает и сцена прощания ее с сыновьями в первой главе («она кинулась к меньшому»), и слова Андрия к панночке в главе шестой: «…все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, – все мое!» Безрассудная любовь матери к сыну и определяет, по Гоголю, многое в характере Андрия. «…Плотская чувственная любовь… – писал Гоголь в “Правиле жития в мире”, – не может поступать разумно, потому что очи ее слепы».
Особое место в характеристике духовного образования героев, занимает в «Тарасе Бульбе» проблема школьного воспитания. Как сообщает автор, Тарас отдавал своих детей учиться в Киевскую академию – и при этом настаивал, чтобы дети его «выучились… всем наукам» (например, в случае с Остапом, не раз зарывавшим «свой букварь в землю»). Но примечательно, что тот же Тарас, по окончании детьми академии, «бранил всю ученость» и советовал им «вовсе не заниматься ею». Это противоречие (которое намеренно подчеркивает автор) можно было бы прояснить, сославшись на слова самого Гоголя в статье «Взгляд на составление Малороссии», что в украинском народе «стремление к развитию и усовершенствованию» сочеталось «с желанием казаться пренебрегающим всякое совершенствование». Но по-настоящему указанное противоречие разрешается только в свете общего противокатолического замысла повести. В осуждении Тарасом современной ему «науки» заключен Гоголем определенный исторический подтекст. По замыслу писателя, герой отрицательно относится не к науке вообще, но лишь к «тогдашнему роду ученья». При известном господствующем влиянии в духовных училищах Южной России в XVI и XVII веках католической «школярской» схоластики (которую Тарас называет презрительно «философией», а рассказчик – оторванными «от опыта» и современности «схоластическими, грамматическими, реториче-скими и логическими тонкостями») пренебрежение Бульбы к школьной выучке его сыновей указывает на понимание относительной ценности подобных «тонкостей» (а не на недостаток «образованности», как это порой предполагается). В 1836 году в рецензии на книгу Е. И. Ольдекопа «Картины мира», Гоголь, продолжая начатые в «Тарасе Бульбе» размышления о «раздоре теории с практикою» – свойственном, по наблюдениям писателя, и для других порождений западной схоластики (всевозможных «психологических», «нравственных» и «философских» трактатов XVIII – начала XIX века), писал, что, несмотря на интерес к таким сочинениям, «нравственность» читателей их была «не очень чиста». (Сходное рассуждение о связи «постыдного поведения Римского духовенства» с «господством Схоластиков» можно найти в известном Гоголю «Курсе Всеобщей Истории» Е. Ф. Зябловского: Курс Всеобщей Истории, читанный на публичных лекциях, учрежденных при Санкт-Петербургском Педагогическом Институте для чиновников, обязанных Гражданскою службою, оного Института Профессором, Евдокимом Зябловским. Часть третья, содержащая Новую Историю. СПб., 1812. С. 4–3.) Очевидно, что образ Андрия, который, слушая схоластические «философские диспуты», предавался в то же время мечтам о женщине, создавался в прямом соответствии с такими размышлениями. Пояснением этой мысли может служить рассуждение Гоголя о вреде схоластики в статье «О преподавании всеобщей истории»:
«Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора… Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами… тогда самые священные слова в устах его, как-то: преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю, превращаются для них в мнения ничтожные».
Обращаясь еще раз к анализу взаимоотношений Андрия и панночки, следует сказать, что одним из источников для создания образа героя, гибнущего от обольщения красотой, послужила, вероятно, Гоголю библейская история об Иудифи, прельстившей и погубившей вражеского военачальника Олоферна. Действие этой истории тоже происходит под стенами осажденного города, готового от голода и жажды сдаться врагу. Так «вооружается» Иудифь, когда отправляется в стан к Олоферну: «…обула ноги свои в сандалии и возложила на себя… мониста… цепочки… и перстни… и все свои наряды, и разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее» (Иудифь, 10, 4). И конец истории: «Не от юношей пал сильный их, не сыны титанов поразили его… но Иудифь, дочь Мерарии, красотою лица своего погубила его… надела для прельщения его льняную одежду. Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее пленила душу его; меч прошел по шее его» (гл. 16, ст. 6–9).
В создании образа «ветреной» полячки использовал Гоголь и современные реалии. В частности, по предположению Р. М. Кирсановой, в описании «кисейной прозрачной шемизетки» панночки с «фестонами» (шемизетка – кофта, блузка; фестоны – зубчатая кайма отделки; фр.) Гоголь воспользовался сообщением газеты «Молва» за 1833 год о модной французской новинке – прозрачной шемизетке из черных кружев – «блонд» (фр. blonde – шелковые кружева) – с двусмысленным названием demi-vierge (девица легкого поведения; фр) (.Кирсанова Р. М. Превращения фрака «наваринского дыму с пламенем» // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М., 1993. С. 236–237). Несомненно, имело значение для Гоголя при создании образа «ветреной красавицы» и упоминание в этом сообщении «Молвы» о знаменитых, поочередно сменявших одна другую, фаворитках французского короля Людовика XIV (об одной из них, герцогине Лавальер, Гоголь неоднократно упоминал в других своих произведениях – в «Старосветских помещиках» и в «Мертвых душах»). Кроме того, существенным явилось, очевидно, и указание газеты, что мода эта является «старинной» и «готической»: «Вторжение старинных мод во всей своей силе; готический вкус господствует. Уже прошедшую зиму… провидели ту роскошно-странную моду, которая придавала столько прелестей Лавальер, Монтеспан и Фонтанж… Показались также из черных блонд шемизетки demi-vierges, доходящие только до половины груди, и их не обшивают оборочкой; вышивают края фестонами; на плечах они очень открыты.
Шемизетки хорошо носить с шелковыми или шерстяными платьями, у которых корсаж драпирован; они в роде modestie <скромность; фр.»> (Парижские моды // Молва. 1833. 10 окт. № 121. С. 482–484). Позднее об этих модных «скромностях», а также о самих «фестонах» Гоголь упоминал в первом томе «Мертвых душ» при описании бальных дамских нарядов в восьмой главе и в разговоре «дамы приятной во всех отношениях» с дамой «просто приятной» в главе девятой: «…выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем “скромностей”. Эти “скромности” скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель»; «да, поздравляю вас: оборок более не носят… На место их фестончики… вообразите, лифчики пошли еще длиннее… и передняя косточка совсем выходит из границ…»
Объясняет Гоголь в «Тарасе Бульбе» и происхождение обольстительных нарядов у дочери польского воеводы (так же, как ранее он пояснял в «Вечерах…» появление у сельских красавиц нарядных украшений от «бесовского человека» Бисаврюка). Таким объяснением служит в седьмой главе повести реплика Янкеля, пробравшегося в осажденный Дубно: «…я схватил на всякий случай с собой нитку жемчугу, потому что в городе есть красавицы и дворянки… им хоть и есть нечего, а жемчуг все-таки купят… я побежал на воеводин двор продавать жемчуг».
Давая понять читателю смертельную опасность, которую представляет красота панночки для Андрия, Гоголь, однако, не лишает свою красавицу человеческих черт. Исполняя роль соблазнительницы, она сама способна увлечься и отозваться на речи героя с той, по словам Гоголя, «чудною женскою стремительностию, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение…» В 1843 году, при посещении Сикстинской капеллы в Ватикане, Гоголь, глядя на фреску Микеланджело «Страшный суд» с изображением грешника, которого тянуло то к небу, то в ад, говорил А. О. Смирновой: «Тут история тайн души. Всякий из нас сто раз на дню то подлец, то ангел» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 52).
Христианским чувством сострадания к губящему свою душу человеку проникнуто и описание сцены отречения Андрия. «А что мне отец, товарищи, отчизна? – сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокорь, стан свой. – Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! – повторил он тем же голосом и с тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый казак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого». Незаурядные физические и душевные качества героя вспоминает Гоголь в этой сцене, конечно же, не для того, чтобы придать предательству «доблестный» вид. Гоголь показывает, что гибнет в тенетах соблазна незаурядный, наделенный от Бога всеми дарами и благами человек: «И погиб казак! Пропал для всего казацкого рыцарства… Украйне не видать… храбрейшего из своих детей…»
Столь же беспристрастен Гоголь и в изображении врагов запорожцев, поляков, в целом, – наделяя их незаурядной воинской доблестью. В конечном счете автор – будучи верен исторической правде в описании сражений казаков и ляхов – расценивает войну между ними как братоубийственную. К такому взгляду отчасти подводили Гоголя и изучавшиеся им в процессе работы над повестью исторические памятники. Так, например, согласно одному из них, «Истории Русов», Богдан Хмельницкий после очередной победы над польскими войсками писал королю Владиславу: «Свидетельствуюсь небом и землею и Самим Богом Всемогущим… что нимало неповинен есмь в крови сей Христианской и единоплеменничей!» Убитый тогда в сражении гетман Калиновский вместе с другими польскими офицерами был погребен казаками «при польском костеле с подобающею воинскою почестью» (История Русов, или Малой России. М., 1846. С. 78–79). Вероятно, этими сведениями и предполагал воспользоваться Гоголь в седьмой главе второй редакции повести, где описывал погребение казаками павших в битве товарищей. Первоначальная редакция этого места изображала именно погребение казаками и своих, и «чужих»: «…сложили честно вместе всех христиан». Затем Гоголь зачеркнул «всех христиан» и продолжил: «…сложили честно вместе козацкие тела и засыпали землею, чтобы не досталось воронам и орлам выдирать и выклевывать козацких очей». На этом фраза заканчивалась, полстроки в автографе остались незаполненными. Однако, учитывая реальные отношения запорожцев с ляхами, Гоголь, перевернув страницу, заканчивает фразу следующим образом: «…а нечистые и безбожные ляшские тела цепляли веревками и привязывали по десяткам к хвостам диких коней и пустили их далеко в поле…» Очевидно, создавая реалистическую картину, автор сохраняет между собой и своими героями определенную дистанцию. Это же следует сказать и по отношению к другой, «невидимой» брани, изображаемой в «Тарасе Бульбе».
По замечанию В. В. Ерофеева, соблазненная Европой и в свою очередь соблазняющая Малороссию Польша была для Гоголя примером того, что представляет собой погубленная, утратившая свое достоинство страна, и этим она призвана была послужить предостережением для всей России перед вооруженной и экономической экспансией Запада (.Ерофеев В. В. «Французский элемент» в творчестве Гоголя // Ерофеев В. В. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 379). Тема эта была также связана в творчестве Гоголя с памятью о 1812 годе. Неудача наполеоновского нашествия на Россию обратила Европу к «мирной» тактике порабощения – через соблазнение европейскими модами, обычаями, вкусами. Разоблачение этой «мирной кампании» и составляет одну из главных задач Гоголя в «Тарасе Бульбе». Упоминая в «Размышлениях о Божественной Литургии» о молитве священника за Государя, Гоголь не случайно называл «внутреннего», невидимого врага – «татя и хищника души», «еще опаснейшим», чем враг внешний.
Важным местом для понимания этой стороны замысла повести является сцена разговора Тараса Бульбы с Янкелем в седьмой главе. «…Видел наших?» – спрашивает Бульба у побывавшего в осажденном городе Янкеля о пленных запорожцах. «Как же! – отвечает тот, – наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло…» За внешним комизмом скрывается у Гоголя «синонимия» более глубокая и существенная. Согласно гоголевскому словарю «Малороссийских слов, встречающихся в первом и втором томах» собрания сочинений 1842 года, первоначальное значение слова «курень – соломенный шалаш». Куренем называлась также на Украине «торговая палатка» (см.: Украинские народные песни, изданные М. Максимовичем. С. 4), или «ятка» («известная ярмарочная ресторация» – «род палатки или шатра»). Подобную торговую палатку раскидывает Янкель на Сечи. «Курень» во втором значении – «отделение военного стана запорожцев». В этом значении он также находит себе соответствующий синоним: «Курень, общество съестных продавцов» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Экономическая борьба торговых «куреней»-союзов с «куренями»-орденами рыцарскими и составляет содержание иной, скрытой войны, разворачивающейся в «Тарасе Бульбе». – Здесь, несомненно, отразились и размышления Гоголя о судьбе родной Васильевки, описанной в «Старосветских помещиках», постоянными гостями которой были, по свидетельству сестер Гоголя, услужливые офени-ходебщики. Намек на торговый «курень» содержится и в «Вии» в упоминании об «исполинской брике», в которой «жиды полсотнею отправляются с товарами во все города».
Эту иную, «невидимую брань» Гоголь изображает как одно из проявлений наблюдаемого им во всей мировой истории противостояния двух типов миропонимания и вытекающих отсюда образов жизни. Различие этих типов обуславливается именно характером избираемого «утешения». Если главное назначение «казацкой нации» заключается, по Гоголю, при всех ее недостатках, в религиозном служении, то в основе «общества съестных продавцов» лежит «утешение» исключительно мирское – страсть стяжания, составляющая для членов этого «братства» самый смысл, «поэзию» жизни. С таким, например, вполне «поэтическим» вдохновением Янкель описывает богатое убранство предателя Андрия: «…так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и всякая травка пахнет, так и он весь сияет в золоте…» Ради этого «утешения» находящийся в плену мирских обольщений человек – утративший связь с источником истинного, трезвенного лиризма – Богом, способен принести в жертву и самую жизнь. На это Гоголь указывает в «Тарасе Бульбе», подчеркивая «самоотверженную» решимость Янкеля и его единомышленников на прибыльную – но весьма опасную («газардную», по определению Гоголя) – торговлю на Сечи: «Только побуждаемые сильною ко-рыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье…» (газардный – рискованный, азартный, подобный игре в кости; толкование этого слова содержится в «Коммерческом словаре» гоголевской «Книги всякой всячины…»: «Торговля газардная, наудачу ссужать деньгами отправляющихся за море с условием, что если отправляющийся благополучно возвратится, то сумму должен отдать обратно с большими процентами, а если корабль потонет, то и самый долг уничтожен. Так же называется и всякое предприятие, сопровождаемое опасностью»). «Утешительное» для страстной души упоение «игрой» наживы неизбежно оборачивается для нее в случае неудачи крайним унынием и отчаянием. Именно Янкелю, собирательному образу «съестных продавцов» в повести – этому поэту мамоны, так понятно и близко отчаяние, которое может постигнуть сребролюбца, лишившегося своих сокровищ. «Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, – говорит он Тарасу, – и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев».
Торговые союзы, располагавшиеся в Сечи и Дубно, в Варшаве и Киеве (см. выписки Гоголя из «Истории…» Н. М. Карамзина «Святополк, возведенный Мономахом…» и «Город Киев»), писатель в своих исторических штудиях сопоставляет с действовавшими в глубокой древности «отдельными бандами» торговцев-финикиян («…действовали отдельными бандами и потому не имеют истории» – очерк «Финикияне»), с образовавшимися в средние века торговыми союзами Венеции и Ганзы («О средних веках»), с возникшим в новое время купечеством Голландии, Франции, Британии («О преподавании всеобщей истории»). «Этого явления, – замечал Гоголь, – я не считаю единственным и необыкновенным. Оно повторяется в истории мира часто, хотя и в других формах и с разными изменениями». В гоголевском конспекте 1830-х годов книги английского историка Г. Галлама «Европа в средние века», о торговой Венеции в частности, читаем: «Ни одно из государств не имело таких пространных отношений с магометанами… Следствие этих союзов было ослабление религиозной нетерпимости, и несколько раз упрекали венециан в препятствии, деланном к сооружению крестовых походов». В качестве результата этого духовного падения Венеции явилось разрушение по ее интригам Константинополя во время Четвертого крестового похода: «…со времени взятия Константинополя латинцами в 1204 <году> начинается ее эпоха величия».







