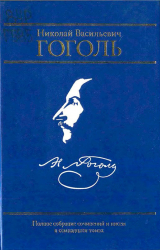
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 51 страниц)
О повести «Страшная месть» В. Г. Белинский, отликаясь на выход в свет «Миргорода» (1835), писал: «“Страшная месть” составляет теперь pendant дополнение, пара; фр.> к “Тарасу Бульбе”, и обе эти картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя». По замечанию А. Я. Ефименко, в основу изображенного Гоголем в «Тарасе Бульбе» запорожского братского союза легли именно размышления над обычаями духовного братства, побратимства, упоминаемыми в «Страшной мести» (Ефименко Л. Малороссийское казачество по Гоголю // Журнал для всех. 1902. № 2. С. 210–211). Теме религиозной и национально-освободительной войны Гоголь посвятил также, задолго до создания «Страшной мести», недошедшую до нас юношескую поэму «Россия под игом татар» (1825). Эта же тема затрагивалась Гоголем в «Ганце Кюхельгартене» (борьба православных греков против турецкого владычества). Но в «Страшной мести», как и в других повестях «Вечеров…», помимо внешней брани с врагами веры и отчизны, Гоголь изобразил и другую, «невидимую брань» – тоже против веры и отечества – разворачивающуюся в душах людей.
В черновой редакции повести имелось предисловие, которое само по себе весьма замечательно.
«Вы слышали ли историю про синего колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело! На тринадцатом году слышал я это от матери, и я не умею сказать вам, но мне все чудится, что с того времени спало с сердца моего немного веселья. Вы знаете то место, что повыше Киева верст на пятнадцать? Там и сосна уже есть. Днепр и в той стороне также широк. Эх, река! Море, не река! Шумит и гремит и как будто знать никого не хочет. Как будто сквозь сон, как будто нехотя шевелит раздольную водяную равнину и обсыпается рябью. А прогуляется ли по нем в час утра или вечера ветер, как все в нем задрожит, засуетится: кажется, будто то народ толпою собирается к заутрене или вечерне. И весь дрожит и сверкает в искрах, как волчья шерсть среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!»
Завершающий это предисловие мотив покаяния (с уходом в «святые печеры») является одним из ключевых для «Страшной мести». Он своеобразно связывается здесь Гоголем с одним из видов монашеской аскезы – спания на голой земле. Так, покаянные обеты колдуна – «Покаюсь, пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу… Не постелю одежды, когда стану спать!..» – определенно перекликаются здесь со словами о святом схимнике, которого убивает колдун: «Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в котором ложился спать вместо постели». Этому соответствует еще одно место «Страшной мести»: «На лавках спит с женою пан Данило… Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на земле». («…Ушла Катерина в свою… светлицу и кинулась на перину…» – замечает рассказчик в черновой редакции повести.) Очевидно, что спание на мягком (на «пуховиках» и «перинах» – с женою) и покаянные монашеские обеты колдуна («не постелю одежды, когда стану спать») соотнесены Гоголем с преступной любовной страстью этого «нечестивого грешника». Показательно, например, что центральный в повести эпизод подсматривания пана Данила за волхвованиями колдуна – где он видит, как «что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты… чудится… что… женщина…» – неожиданно перекликается с комической репликой подглядывающего в замочную скважину «свата» Кочкарева в гоголевской «Женитьбе»: «И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка». В одном из гоголевских сборников малороссийских песен встречается такой куплет: «Ой, козаче гарный, не ходи до Ганны, / А ходы до Марушки на билы подушки, / А в Марушки душки четыри подушки, / А пьята маленька, сама молоденька». Мотив «спания на голой земле» и сближения «перины» и женщины встречается во многих произведениях Гоголя: «Майской ночи», «Иване Федоровиче Шпоньке…», в повести «Страшный кабан», в «Тарасе Бульбе», «Коляске», «Женитьбе», «Ревизоре», «Мертвых душах» – например, в черновых набросках к восьмой главе поэмы: «…танцевал с своей дамой, точно с подушкой…»)
Некоторые переклички со «Страшной местью» – связанные уже с осмыслением Гоголем проблем европейской цивилизации – обнаруживаются в повести «Рим». Они встречаются здесь в описании «великолепного» парижского кафе – средоточия «цивилизованной» жизни римского князя: «Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване…» Кофе – загадочная «черная вода» во фляжке колдуна «Страшной мести». Эта подробность приоткрывает нам и связь «Страшной мести» с ранней поэмой «Ганц Кюхельгартен». «Старик любил на воздухе пить кофий», – замечает в ней Гоголь о своем герое, сельском «пасторе», в котором явно угадываются будущие черты покаявшегося «колдуна» («святого схимника»). Сам «пастор» говорит о себе:
Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть…
На эту возможность покаяния для грешника и указывают обращенные к Катерине слова колдуна в «Страшной мести»: «Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым».
С мотивом покаяния тесно связаны в «Страшной мести» размышления о прощении Богом кающегося грешника. «Угрюм колдун… – замечает рассказчик в шестой главе. – Может быть, он уже и кается перед смертным часом…» Но тут же рассказчик добавляет: «…только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему». Однако сам колдун все-таки надеется на прощение. «Ты не знаешь еще, – говорит он Катерине, – как добр и милосерд Бог». В последнюю минуту колдун летит в Киев «к святым местам»: «Дико закричал он и заплакал, как исступленный, и погнал коня прямо к Киеву». Но здесь его опять встречает «голос рассказчика» – и своеобразное представление рассказчика о святости: «святой схимник» – затворившийся уже много лет в своей пещере – отвечает на отчаянную мольбу колдуна: «Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе».
Вопреки этому суровому «голосу рассказчика» (но не автора), сам Гоголь всем содержанием повести говорит, напротив, о праведности прощения кающегося грешника. И эпизод с отказом «святого схимника» молиться о погибшей душе колдуна никак не может быть поставлен в ряд с действительным отношением христианских подвижников к падшему собрату. Скорее он напоминает фразу в пушкинском «Борисе Годунове», которую «рассказчик» трагедии (в данном случае сам А. С. Пушкин) вложил в уста юродивого Николки, отвечающего на просьбу Бориса Годунова молиться за него: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит». Сам Пушкин по поводу этой «сочиненной» (не заимствованной им из источников) сцены в частном письме признавался: «…никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (письмо к князю П. А. Вяземскому около 7 ноября 1825 года). Судя по статье Гоголя «Борис Годунов», написанной на выход в свет трагедии Пушкина, симпатии Гоголя были как раз на стороне обличаемого пушкинским юродивым царя: «Сколько блага? сколько пользы, сколько счастия миру – и никто не понимал его…» Вероятно, в скрытую полемику с Пушкиным и вступил Гоголь в «Страшной мести», изобразив страшные, продолжающиеся из рода в род последствия однажды не прощенного грешнику греха – тяжесть которого обрекла несколько поколений потомков этого грешника на пребывание в гибельном, греховном состоянии. А потому и суд Бога в гоголевской повести за «страшную месть» непрощения греха ближнему весьма суров: «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе Царствия Небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!»
Другой важной проблемой, рассматриваемой Гоголем в «Страшной мести», является тема «утонченной», эстетической «развитости» колдуна. Вообще говоря, из разнообразных мирских соблазнов – богатства, власти, красоты – последнему гоголевские герои часто оказываются подвержены в наибольшей степени.
Изображение эстетических переживаний очень часто начинается у Гоголя с описания картин природы и почти всегда переходит к любованию красотой женщины. В этом смысле весьма характерна выписка Гоголя из идиллии Н. И. Гнедича «Рыбаки», которую он сделал, вероятно, еще учась в Нежинской гимназии (в 1820-х годах). Главным здесь является описание «пылающих», «огненных» – с лазурью – неба и моря петербургской белой ночи, в которой «пурпур заката сливается с златом востока» и которую поэт сравнивает с такими же пленительными «прелестями северной девы» – петербургской красавицы.
Как бы прямо «по канве» этой ранней выписки Гоголь в своих повестях создал впоследствии целый ряд «сияющих», словно пронизанных светом, живописных картин, завершающихся изображением красоты женщины (или хотя бы упоминанием о ней).
«Усталое солнце уходило от мира, спокойно проплыв свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился [как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга в торжественную минуту ее отлета на небо]. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом… “О чем загорюнился, Грицько?.. – вскричал высокий загорелый цыган, ударив по плечу нашего парубка. – А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?”» («Сорочинская ярмарка»).
Ослепительную власть красоты по силе ее впечатляющего воздействия Гоголь сравнивает порой с сияющим транспарантом. Вот, например, образ блестящего Петербурга в повести Гоголя «Невский проспект»: «О, не верьте этому Невскому проспекту! Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!.. Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки!.. [Он опасен необыкновенно, этот Невский проспект… но более всего тогда, когда… огни сделают его почти транспарантом… И… сам демон зажигает обольстительные лампы для того, чтобы все показать не в настоящем виде]».
А так изображает Гоголь визит юного кухмистера Ониська к красавице Катерине в повести «Страшный кабан»: «Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента… Сердце в нем вспрыгнуло… и белокурая красавица… встретила его, отворяя ворота».
Кстати сказать, именно в последней повести Гоголь предпринял попытку изобразить благотворную – в отличие от губительной – «законодательную» власть красоты. «Прекрасная Катерина», побуждает здесь пьяницу Ониська оставить ради нее разгульную жизнь, на что тот восклицает: «Все для тебя готов сделать».
Однако положительная оценка значения чувственной красоты для воспитания человека была лишь одной из сторон взглядов Гоголя. В статье «Скульптура, живопись и музыка» он замечал по поводу скульптуры: «Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его – и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью». О себе Гоголь в 1847 году писал, что «венцом всех эстетических наслаждений» в нем «осталось свойство восхищаться красотой души человека», где бы он ее ни встретил («Авторская исповедь»). Так и в «Вечерах…» главной явилась тема не благотворной, но главным образом губительной власти чувственной, «скульптурной» красоты. В «Страшной мести» объяснение преступной страсти героя связано именно с его «эстетическими», «утонченными» переживаниями.
Изображение в повести волхвований колдуна, вызывающего «душу» Катерины, прямо перекликается с описанием «греческой» красавицы Алкинои в статье Гоголя «Женщина», написанной в январе 1831 года на смерть барона А. А. Дельвига и развивающей (как дань памяти поэта) мотивы дельвиговской поэзии. Строки повести о «душе» Катерины – являющейся своему колдуну-«отцу» в виде светящегося «эфирно-мраморного» облака, в «море» розово-голубых цветов и «небесных» звуков, – прямо повторяют описание «скульптурной» красавицы Алкинои в статье Гоголя «Женщина»: «Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амврозии, свободно удерживалась в воздухе… Казалось, тонкий, светлый эфир… по которому стремится розовое и голубое пламя… переливаясь в бесчисленных лучах… в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки… облекся в видимость и стоял перед ними…» В этих «утонченных» чувственных созерцаниях и заключаются, по Гоголю, причины предательства и сговора с «врагами православной Русской земли» «эстета»-колдуна. Мысль о внеморализ-ме эстетических переживаний, приводящих к предательству веры и отчизны, Гоголь воплотил в те же годы в незавершенном романе «Гетьман», где – как позднее в «Тарасе Бульбе» – связал измену героя делу товарищества с эстетическими переживаниями. Здесь снова Гоголь изобразил – на фоне «сребророзового» и «пурпурного» заката – чарующие прелести восемнадцатилетней красавицы («стройная роскошь» ног, «обнаженное плечо» и пр.). Пленившись красавицей, юный казак Остраница, готовый ранее выступить на защиту отчизны, «все забыл» и готов ехать с ней хоть «в Польшу к королю» или «хоть к султану».
Таким образом, в образе охваченного преступной страстью колдуна «Страшной мести» содержится несомненная «поправка» к дельвиговскому безотчетному восхищению «прекрасным», – и вместе с тем обнаруживаются переклички содержания повести со строками пушкинской «Полтавы», повествующими о недозволенной связи юной диканьской красавицы Матрены Кочубей с клятвопреступным гетманом Мазепой:
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил…
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей…
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом.
Как и в других повестях «Вечеров…», «невидимая брань» в «Страшной мести» тоже разворачивается не только в душе явного «злодея» – страшного колдуна, но и в душах вроде бы вполне «положительных» героев повести. Их «незаметные» негативные черты в свою очередь многое определяют в развитии ее сюжета. Здесь прежде всего Гоголь обращает внимание на причины, приводящие к саморазрушению казацкого единства. Главной причиной разъединения Гоголь считает постепенно проникающую в ряды казачества страсть корыстолюбия.
«Эй, хлопец! – восклицает в повести пан Данило. – Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду!.. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?.. Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам». В черновой редакции «верному хлопцу» Стецько принадлежала со своей стороны реплика, которую он произносил после гибели пана Данила: «Я пойду, соберу наших. Ляхи уже услышали про наше горе и ворочаются назад. Сердце так <и> чует, что уже шумят они в подвале. Меды поотпечатаны, и вино хлещет из воронок».
Эти реплики героев «Страшной мести» прямо перекликаются с содержанием нескольких заметок Гоголя, сделанных незадолго до создания повести при чтении «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «У князей бывало немало богатства в подвалах, кладовых и погребах: железо, медь, вино, мед, на гумнах множества хлеба. У Святослава Черниговского, брата Игоря, нашли 900 000 скирд… Меду в подвалах 500 берковцев и 80 корчаг вина <берковец – русская мера веса в десять пудов; корчага – «большой сосуд», «глиняный горшок» – гоголевский «объяснительный словарь» русского языках… В междоусобных бранях обыкновенно дружина и вожди прежде всего старались овладеть кладовыми и погребами…»
Заметка эта в свою очередь связана с размышлениями Гоголя о причинах замедления и «остановки» тогдашнего «хода развития» Руси, которую писатель усматривал именно в корыстолюбии князей: «Уделами менялись и торговались, как воины своими оружьями… Часто иные князья, когда нравился им чужой удел, изгоняли с сильною дружиною князя… Здесь-то нужно искать причины остановки хода развития в России» (заметка «Внутреннее устройство»). Эти же размышления отразились позднее и в строках «Тараса Бульбы» о «враждующих и торгующих городами мелких князьях», а также в знаменитой речи Тараса о товариществе: «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их… Паскудная милость польского магната… дороже для них всякого братства…»
Эти представления и лежат в основе образа пана Данила в «Страшной мести» – который, с одной стороны, сетует, подобно Тарасу, на отсутствие «порядка» в Украйне («…полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою… Шляхетство наше все переменило на польский обычай… продало душу, принявши унию»), с другой, – как неоднократно подчеркивает автор, – сам не лишен корыстолюбия (главной причины внутренних раздоров). В последнем же случае Данило Бурульбаш, переступая ради мирских стяжаний узы духовного родства, прямо уподобляется у Гоголя Петру Безродному из «Вечера накануне Ивана Купала».
Как ненароком, словно проговариваясь, подсказывает рассказчик, атмосфера странного недоверия царит в хуторе пана Данила. «…Козакам что-то не верится», – замечает Катерина о самых приближенных к пану Данила «отборных», «наивернейших молодцах». В черновой редакции эта мысль была повторена автором еще раз. «А вы, – сказал Данило, выходя на двор и отделяя из кучи собравшихся Козаков надежнейших, – оставайтесь дома сторожить, чтоб не досталось нечистому племени опоганить наши хаты!» (курсив наш. – И. В).
«Ох, помню, помню я годы… – восклицает в повести пан Данила о «золотом» времени казачества. – Как резались мы тогда с турками!.. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали!.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду!» Не случайно и само обращение здесь героя к жене Катерине, на дорогие наряды которой – как и на постоянное стремление пана Данила «добыть» золота (пожалуй, хоть и у «нечистого» колдуна: «…думаю, он не без золота и всякого добра») – то и дело по ходу повести обращает внимание рассказчик. В этом пан Данило опять-таки напоминает «безродного» Петруся из «Вечера накануне Ивана Купала», который ради возлюбленной задумал «пристать к какой-нибудь ватаге удалой – воевать туретчину или крымцев»: «…то и дела, что видит он кучи золота; драгоценные каменья ограбленных иноверцев беспрестанно чудились ему перед глазами» – и во сне размахивал он руками, «как будто поражая нечестивые толпы крымцев и ляхов».
Очевидно, намекая на пристрастие героини к украшениям – а самого героя к хмельному («Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?.. Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью!») – Гоголь снова повторяет в «Страшной мести» темы, поднятые ранее в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Сорочинской ярмарке» (образы Пидорки и Петруся; Грицька и Параски).
О характере главного героя, изображенного Гоголем в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», можно сказать, воспользовавшись словами самого писателя из второй главы первого тома «Мертвых душ»: «Гораздо легче изображать характеры большого размера; там просто бросай краски со всей руки на полотно… но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою… – эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты…»
Определенное основание видеть в гоголевском герое именно такой, «незначительного размера» характер дает само фамильное прозвище Ивана Федоровича. Согласно «Лексикону малороссийскому» гоголевской «Книги всякой всячины…», «шпонька – запонка». Очевидно, в фамилии Ивана Федоровича Шпоньки, одно из любимых занятий которого было «чистить пуговицы» форменного мундира и который получил очередной чин спустя одиннадцать лет, – подчеркивается явная незначительность, «пошлость» фигуры героя. Об этом, в частности, можно судить из соответствующих упоминаний в «Ревизоре»: «У нас есть один такой, что пятнадцать лет служит и получил только одну пряжку»; и в «Шинели»: «…выслужил он… пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясницу». (Пряжка – здесь: почетный знак, дававшийся за выслугу лет на гражданской службе.)
С другой стороны, пуговица, запонка в одежде гоголевских героев представляет собой (также как женские украшения – мониста, серьги, перстни) весьма немаловажную деталь, своего рода знак отличия, или «орден». В выписке Гоголя «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария)», эта мысль выражена вполне определенно: «Богатые вышивают ворот около шеи и на переду… на вершок в ширину, разноцветными шелками… выставляют… из-под кафтана и к обеим сторонам ворота пришивают большие жемчужные, золотые или серебряные запонки». В другой гоголевской выписке «Об одежде и обычаях русских XVII века. (Из Мейерберга)», тоже сообщается: «Жены боярские ходили в широком опашне… Спереди донизу застегнуто золотыми или серебряными пуговицами, иногда величиной с грецкий орех…»
Очевидно, что и «незначительному» во многих отношениях Ивану Федоровичу, заботливо чистящему на досуге свои форменные пуговицы, вовсе небезразлично его скромное звание. (Отметим, например, что в чистке пуговиц он весьма напоминает «самого» вельможного Потемкина из «Ночи перед Рождеством»: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».) Во всяком случае тщеславие Ивана Федоровича его невысоким званием вполне удовлетворено, так как для его среды является, судя из дальнейшего, вполне достаточным. (В качестве примера можно указать, что для удовлетворения честолюбия сельского головы в «Майской ночи» – в его ближайшем, деревенском окружении – довольно и того, что однажды он сидел на козлах с царицыным кучером. Для понимания «социальной иерархии» гоголевских героев уместно отметить, что отставному поручику Шпоньке прямо соответствует в «Майской ночи» «отставной поручик» комиссар Козьма Деркач-Дришпанов-ский – возможный приезд которого в село прямо приводит голове Евтуху Макогоненку на память проезд царицы в Крым. Словом, как замечал позднее Гоголь в «Шинели» при характеристике одного «незначительного» «значительного лица», – «всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное». К примеру отметим, что, по замечанию биографа Гоголя П. А. Кулиша, отец будущего писателя «Василий Афанасьевич Гоголь… во время рождения Николая Васильевича… имел уже чин коллежского асессора, что в провинции – и еще в тогдашней провинции – было решительным доказательством, во-первых, умственных достоинств, а во-вторых, бывалости и служебной деятельности» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 5).
«Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно… – пишет Ивану Федоровичу Шпоньке тетушка, – то в воинской службе тебе незачем уж более служить». («Чин ты уже имеешь хороший, – повторяет она ему при личном свидании. – Пора подумать и об детях!») «Насчет вашего мнения о моей службе, – отвечает ей Иван Федорович, – я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку».
Итак, после двух – за несколько лет – классов гадячского поветового училища («Было… ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс…»), после получения – тоже спустя несколько лет – поручичьего чина, образование свое герой считает вполне завершенным. (Добавим еще, что сам Гоголь в 1819 году поступил во второе отделение сходного начального учебного заведения – Полтавского поветового училища – в девятилетием возрасте; однако среди его соучеников в самом деле были весьма великовозрастные – четырнадцати и пятнадцатилетние.)
Подобно герою неоконченной повести Гоголя «Страшный кабан», «заштатному» семинаристу Ивану Осиповичу – отправляющемуся «на ваканции» (в домашние учители, или «в отставку») после многолетнего пребывания в начальных классах семинарии (лат. vacatio – освобождение; ваканцьовий – заштатный, отставной; укр)> – Иван Федорович, тоже взяв отставку, едет в имение в некотором роде на «заслуженный» отдых.
Кстати сказать, в образе упомянутого гоголевского «семинариста» (в основу которого в свою очередь легли, вероятно, детские впечатления Гоголя, так как, по свидетельству матери, первоначальное – домашнее образование – с семи лет – он получил именно «от наемного семинариста») есть еще несколько черт, роднящих его со Шпонькой. Сравнение этих двух образов помогает многое понять в замысле гоголевской повести.
«…Не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был… сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами…», – замечает о своем великовозрастном герое-семинаристе рассказчик повести «Страшный кабан». Схожими являются и изображаемое в обеих повестях «стоические» добродетели и – затем – «нечаянное» сватовство героев. «…Иван Осипович был настоящий стоик, – сообщает автор “Страшного кабана”, – и… не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода». – Иван Федорович, в свою очередь, в ответ на намеки тетушки о женитьбе восклицает: «Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня…»
Подобно тому, как бывший семинарист (а с приездом в село «грозный педагог») Иван Осипович отличается от его нового деревенского окружения главным образом светло-синим сюртуком с костяными пуговицами («с прибавкой» сюда еще нескольких мелких «дарований» – таких, как уменье «мотать мотки» и «прясть»), такого же рода «духовный», образовательный «капитал» везет в свое имение и Иван Федорович Шпонька. Именно на это обращает внимание рассказчик, описывая путешествие героя на родину.
Тогда как на протяжении двух недель дороги его извозчик – «набожный жид» – «шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день», Иван Федорович «в то время развязывал… чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько… снимал осторожно пушок с нового мундира… и снова все это укладывал наилучшим образом». «Книг он, – добавляет рассказчик, – вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».
Духовную «мертвенность» героя по отношению к своей вере Гоголь показывает и в равнодушии Шпоньки к соблюдению церковных постов: «Это было в пятницу… Иван Федорович… заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки… начал свой ужин…» Подъехавший в свою очередь на постоялый двор сосед Шпоньки, помещик Григорий Григорьевич Сторченко, с подобным же нечувствием к смыслу христианской пятницы начинает своей ужин курицей. Последнему герою так же, заметим, как Ивану Федоровичу, очень хорошо известно, в какой день он это делает («Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота…», – говорит он Шпоньке). Но и у Григория Григорьевича «набожность» еврея-извозчика отнюдь не вызывает размышлений о том, как он сам исповедует свою веру.
Как указывает далее Гоголь, место веры – и простого здравого смысла – занимает в душе обоих героев (как это чаще всего и бывает) суеверие (одна из примет этого – читанная-перечитанная героем гадательная книга). Вот как, например, Григорий Григорьевич рассказывает Шпоньке об исцелении от внезапной «болезни»: «Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей». На это Иван Федорович согласно отвечает: «…изволите говорить совершеннейшую-с правду. Иная точно бывает…»
Эти размышления о соотношении веры и суеверия непосредственно отразились позднее у Гоголя в десятой главе первого тома «Мертвых душ»: «Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет… Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками…» – Гоголь объяснял здесь суеверие человека именно его духовной неразвитостью, неподготовленностью к искушению, заставляющей попавшего в критическую ситуацию обращаться к первому попавшемуся средству: «Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку…»
В «Иване Федоровиче Шпоньке…» Гоголь указывает и на то, что происхождение суеверий чаще всего связано с поверхностным – ориентированным лишь на внешнее «благонравие» – светским воспитанием, оставляющим человека внутренне непросвещенным и неразвитым – таким же, как оставляли его в прежние времена «детские предрассудки» и суеверия.
Эту зависимость Шпоньки от новейших – не менее пустых и бесплодных, чем древние суеверия, – «тонких обычаев света» рассказчик подчеркивает в повести неоднократно. Судить о ней он предоставлает читателю, во-первых, по той заботливости, с которой Иван Федорович разглядывает – в невыгодном для него сравнении с занятием жида-извозчика – сложенное в чемодане белье: «так ли вымыто, так ли сложено». Второй раз, – когда Иван Федорович отправляется в гости к своему богатому соседу: «…Иван Федорович… немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому… Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его». Еще раз эта озабоченность героя выглядеть «не хуже других» изображается в повести как его кошмарный сон: «“Какой прикажете материи? – говорит купец. – Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки”… Иван Федорович… идет к жиду, портному. “Нет, – говорит жид, – это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука…” В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович».
Гоголь подробно останавливается на сути воспитания, полученного Иваном Федоровичем. Он подчеркивает, что это поверхностное светское воспитание было заложено в герое в детстве его суровыми «педагогами», обращавшими главное внимание именно на «хорошее поведение» – то есть умение «сидеть смирно на лавке». Вероятно, Иван Федорович – так же, как впоследствии Павел Иванович Чичиков в «Мертвых душах» (будучи в свою очередь в классах начального городского училища) – «вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение». Он был «преблагонравный и престарательный мальчик»; «тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки и уставив глаза на учителя»; «Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович… вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона» (ибо, поскольку должно, в соответствии с приличиями, наблюдать во всем порядок – в частности, иметь ножичек в исправности, то во избежание «непорядка» лучше не использовать его «острой стороны» по назначению).







