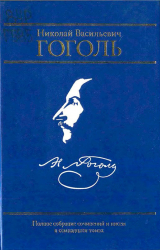
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 51 страниц)
Последнее замечание тоже весьма знаменательно и хорошо поясняет отношение Гоголя к патриархальным – почти «монастырским» – старосветским обычаям. По его словам в письме к протоиерею Матфею Константиновскому от 24 сентября (н. ст.) 1847 года, «и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг нас, так же воевать и бороться нужно со врагом нашим». По свидетельству родных Гоголя, «в постные дни, когда в деревнях готовились разнообразные постные блюда, различные винегреты и т. п., он даже иногда бывал недоволен. “Какой же это пост, когда все объедаются еще хуже, чем в обыкновенные дни?” – говорил он, отодвигая подальше блюдо, с какою-нибудь заманчивой постной пищей…» (Чаговец В. А. На родине Гоголя // Памяти Гоголя. Отд. 5. С. 20). 3 апреля 1849 года Гоголь писал родным в Басильевку: «Довольство во всем нам вредит… Заплывет телом душа – и Бог будет позабыт. Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему быть в безнуждии и довольствии. Лучше желать ему спасти свою душу». Эти строки прямо перекликаются со словами Священного Писания: «…когда будешь есть и насыщаться… и всего у тебя будет много, – то смотри, чтобы… не забыл ты Господа, Бога твоего…» (Втор. 8, 12–14; ср. также Втор. 6, 12; 31, 20; 32, 13).
Сам Гоголь в письмах 1830-х годов часто признавался, что «главный дьявол» у него «в желудке». Жалобы рассказчика «Старосветских помещиков» на то, что, приезжая к своим «старичкам», он «объедался страшным образом» и что это для него было «очень вредно», а также беспрестанное «отправление» Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной «процесса житейского насыщения», призваны, очевидно, подчеркнуть искажение изначального «первообраза» патриархальной жизни – почти полное забвение идиллическими героями духовных ценностей: состояние, в котором о Боге вспоминают лишь в приближении смерти или же при мысли о возможных несчастиях: «Пусть Бог милует от разбойников!»
«Дремлющая», почти растительная жизнь старосветских помещиков нуждается, по Гоголю, в пробуждении. Близкое к духовной смерти состояние животного покоя никак не может являться идеалом человеческого существования. Одухотворение и пробуждение «низменной буколической жизни» и изображает Гоголь в следующей повести цикла – в «Тарасе Бульбе»: «Эй вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух!» («…Афанасий Иванович… чтобы было теплее, спал на лежанке…») Разбудить сонную жизнь способны именно несчастья. «Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы, – пишет Гоголь о возникновении запорожского казачества, – его вышибло из народной груди огниво бед». Эту же мысль повторял позднее Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847), размышляя о судьбе всей патриархальной России в эпоху петровских преобразований: «…европейское просвещение было огниво («огниво бед». – И. В.), которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе». Заметим, что этот переход от «Старосветских помещиков» к «Тарасу Бульбе» тоже совершается как бы прямо «по канве» Священной истории: «…и ядоша, и насытишася, и утолстеша, и разширишася во благости Твоей велицей. И изменишася, и отступиша от Тебе, и повергоша закон Твой созади плоти своея… И Ты отдал их в руки врагов их… в руки иноземных народов» (Неем. 9, 25–27, 30).
«Что же касается до страхов и ужасов в России, – писал позднее Гоголь в статье «Страхи и ужасы России», – то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образовываются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела». 1 февраля 1833 года Гоголь писал М. П. Погодину по поводу его драмы «Петр I», посвященной эпохе, «когда Русь превратилась на время в цирюльню» – когда, по словам Гоголя, бояре, браня «антихристову новизну», сами стремились «сделать новомодный поклон и бились из сил сковеркать ужимку французокафтанника»: «Ради Бога, прибавьте боярам несколько глупой физиогномии. Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время». Еще в 1828 году, в письме к матери из Нежина от 1 марта, Гоголь писал: «Видел я здесь и тех, которые находились под особым покровительством. Им только лучше ставили классные шары, а впрочем они были глупее прочих, потому что они совершенно ничем не занимались». Строки эти предваряют противоположную характеристику бурсаков в «Тарасе Бульбе», «плохое содержание» и «частые наказания» которых «голодом» рождали «в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье».
Однако рано еще расставаться с героями первой повести «Миргорода». Ибо пробуждение дремлющей жизни происходит не только в «Тарасе Бульбе». Оно совершается в самой старосветской идиллии. Смерть Пульхерии Ивановны становится здесь тем «небесным звонком», который будит героя и, внося в повествование трагическое звучание, заставляет читателя сопереживать «пошлой», обыкновенной жизни старосветского обывателя. 20 декабря (н. ст.) 1844 года Гоголь писал М. П. Погодину по поводу смерти его жены:
«Я уже слышал, что Бог посетил тебя несчастием и что ты как христианин его встретил и принял. Друг, несчастия суть великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен…» Слышит ли Афанасий Иванович этот «небесный звонок»? Об этом можно судить из того, как воспринимает он незадолго перед своей собственной смертью ниспосланную ему весть из загробного мира. Это – проверка всей жизн и человека и предвосхищение участи, его ожидающей. Очищенная долговременным страданием душа героя, сохранившая до конца дней любовь-«привычку» к отшедшей подруге, оказывается в итоге способна даже без понятного всем страха внять «таинственному зову» иной жизни и покориться ему «с волею послушного ребенка». Именно «таинственный зов», а не «ужасный, черный», «подземный голос», который посылается героям-грешникам гоголевских «Кровавого бандуриста», «Вия», «Ревизора», встречает эту душу на пороге новой жизни. (Для гоголевского городничего, например, неожиданное известие о ревизоре – ив начале, и в конце пьесы – весьма «пренеприятное известие»; оно «как громом» поражает «всех».) Последние дни Афанасия Ивановича, так же как последние дни Пульхерии Иванс>вны> – постепенный исход души от привычного «житейского насыщения» к алканию той встречи, которую обещала ему перед кончиной Пульхерия Ивановна: он «сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ее бедное пламя. «“Положите меня возле Пульхерии Ивановны”, – вот все, что произнес он перед кончиною». «Все здесь тленно, все пройдет, – писал Гоголь в 1850 году одной из своих бывших учениц П. Ф. Минстер, – одни только милые узы, связывавшие нас с людьми, унесутся с нами в вечность». Это просветленное звучаний торжествует в итоге над тем минорным тоном, с каким ведет свое незамысловатое повествование автор «Старосветских помещиков», нечувствительно подготавливая читателя к следующей, искусно составленной им словесной снеди – подобному уже не «молоку», но «твердой пище» рассказу о запорожцах.
* * *
Продолжая в «Тарасе Бульбе» тему пробуждения дремлющей жизни, Гоголь кладет в основу этой повести иное средство, с помощью которого осуществляется, согласно его размышлениям, возвращение человеку утраченного «первообраза». Отчасти об этом «средстве» говорится уже в первой повести цикла. «Я сам думаю пойти на войну; почему же я не могу идти на войну?» – подшучивает над Пульхерией Ивановной Афанасий Иванович, слушая рассказы гостя о Наполеоне или «просто… о предстоящей войне». «Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций, – пишет Гоголь о Малороссии в первой редакции «Тараса Бульбы», – все это придавало какой-то вольный широкий размер подвигам сынов ее…» «Русский характер получил здесь могучий, широкий размах…» – добавлял он во второй редакции. Гоголю, в частности, была известна речь представителя Волынской земли на Варшавском сейме 1620 года, Л. Древинского, по поводу притеснений православных со стороны униатов: «…если бы, говорю, от нас исшедшие на нас не восстали, то таковые науки, таковые училища, толико достойные и ученые люди в народе Российском никогда бы не открылись. Учение в церквах наших было бы по-прежнему прахом нерадения покровенно» (Бантыш-Каменский Д. Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. М., 1805. С. 69; см. также: Уния в документах. Минск, 1997. С. 314–315). В соответствии со словами св. апостола Павла – «Подобает бо и ересем в вас быти, да искуснии явлени бывают в вас» (1 Кор. 11, 19), – оценивает «хищно ворвавшуюся» в Малороссию унию и Гоголь, осмысляя подобным же образом значение в русской истории преобразований Петра I. Сравнивая эти преобразования с «огнивом бед», Гоголь замечает, что в эпоху продолжательницы Петра Екатерины II «на всех поприщах стали выказываться русские таланты… полководцы… государственные дельцы… ученые…» (в число которых, очевидно, и следует поставить одного из вероятных прототипов Тараса Бульбы – гоголевского земляка, екатерининского вельможу Д. П. Трощинского. Примечательно, что любимой песней этого искреннего почитателя малороссийской старины, была «Чайка», которая «аллегорически представляла Малороссию как птицу, свившую гнездо свое близ дорог, окружавших ее со всех сторон». Слушая эту песню, Трощинский «часто закрывал лицо свое рукою и проливал слезы». Нужно заметить, что отец Д. П. Трощинского, Прокофий Иванович, готовил своего сына – как и трех других своих сыновей – на Запорожье, но к тому времени Сечь доживала свои последние дни – перед ее упразднением Екатериной II в 1775 году, – и поэтому побывать на Сечи Дмитрий Прокофьевич не успел).
На другой источник размышлений Гоголя о роли «огнива бед» в русской истории указывает «сам» Тарас Бульба в первой редакции повести, когда говорит, что «Бог и Священное Писание велит бить бусурменов», и замечает, что его сыновьям «нужно приучиться и узнать, что такое война». Это начало третьей главы Книги Судей Израилевых: «Вот… народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, которые не знали о всех войнах Ханаанских, – для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых…» (ст. 1–2).
Однако, решая таким образом вопрос о пробуждении дремлющей жизни, Гоголь не мог не остановиться на еще одной тесно связанной с этим проблеме. Выпадающие на долю человека испытания могут не только пробудить его, но порой ввергнуть в глубокое отчаяние. «…Несчастие… – пишет Гоголь в статье “О помощи бедным” (1844), – в каких бы ни являлось образах… есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни». «…Несчастия… суть крылья наши», – замечал он в письме к матери весной 1843 года. Но «русский человек способен на все крайности… иногда с горя, отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления…» (статья «Что такое губернаторша», 1846).
Тема уныния и связанная с ней проблема утешения страждущего человека является одной из определяющих для целого ряда статей Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Неудивительно, что и в «Тарасе Бульбе» – произведении, посвященном изображению одного из тяжких постигающих человека бедствий, войне, – эта тема оказывается главенствующей. «…Я не знаю выше подвига, – замечал Гоголь в “Авторской исповеди” (1847), – как подать руку изнемогшему духом». Содержание гоголевских статей в «Переписке с друзьями» о русской поэзии – «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О лиризме наших поэтов» – обнаруживают прямые переклички с речами казацких атаманов, воздвигающих упадший дух воинов в седьмой, восьмой и девятой главах «Тараса Бульбы». В письме к Н. М. Языкову от 2 апреля (н. ст.) 1844 года Гоголь еще раз замечал, что «привести человека в то светлое состояние, о котором заранее предслышат поэты», есть «вещь слишком важная, ибо из-за нее работает весь мир и совершаются все события». В творческой биографии Гоголя борьба с унынием занимает, как это ощутимо сказывается уже в «Старосветских помещиках» (переживание тяжкого зрелища разорения родного края), весьма важное место.
Согласно признаниям писателя о своих первых произведениях в «Авторской исповеди», причиной явившейся в них «веселости» были «болезнь и хандра», «припадки тоски», развеять которые ему удавалось с помощью шутки. 22 марта 1835 года, сразу по выходе в свет «Тараса Бульбы», Гоголь писал М. А. Максимовичу: «Посылаю тебе “Миргород”… я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа… Мы никак не привыкнем… глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака?.. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина». Как образно подметил П. А. Кулиш, «уже одно начало» этого письма «показывает, что автор только что воротился с Запорожской Сечи» (<Кулиш П. А.> Николай М. Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 80). Нетрудно увидеть, что все перечисленные в письме «козацкие» утешения (тропак, вино и даже само чтение исполненного «глубокого юмора» «Миргорода») прямо соответствуют изображенным в «Тарасе Бульбе» мирским утехам запорожцев (шумные пляски – «гопаки и тропаки», бражничество и «дышавшие» юмором «рассказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы»).
Обращаясь к истории возникновения этих сцен в «Тарасе Бульбе», можно предположить, что одним из первых толчков к размышлениям об унынии, составившим позднее идейную основу для художественного изображения разгульного быта Запорожской Сечи, послужил Гоголю читавшийся в доме его родителей и увезенный им впоследствии в Петербург роман М. М. Хераскова «Кадм и Гармония», где, в частности, встречается рассуждение о том, что «народные забавы и увеселения… необходимы в общежитии… ибо в противном разуме может народ… впасть в уныние, толико же силы душевные истощающее, как и неумолкаемое напряжение душевных сил к забавам и роскошествам» (<Херасков М. М.> Кадм и Гармония. М. 1793. Ч. 2. С. 82–83). (Несомненно, круг источников в данном случае может быть расширен; из них на первом месте должна быть поставлена святоотеческая литература: «…как отсутствие всякого отдыха в работе нудит душу, так и постоянная смена впечатлений и ежедневные развлечения наводят на нее скуку и уныние»; Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики. В 4 т. Н. Новгород, 1996. Т. 2. С. 240.) Уже в 1829 году Гоголь завел в «Книге всякой всячины…» раздел «Игры, увеселения малороссиян», материалы которого непосредственно использовал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Миргороде». Для «Тараса Бульбы» из этого раздела Гоголь почерпнул описание «игры в мячик» («игры в свиньи», производившейся с мячом). Сравнивая прежнюю, «школярскую» жизнь обитателей Сечи с их настоящим бытом, Гоголь замечал: «Вся разница была только в том, что… вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову…»
Мотив воинской или «бурсацкой» игры как одного из «утешений» запорожцев чрезвычайно характерен для «Тараса Бульбы». Близкое к настоящему опьянению упоение «игрой» битвы является в ряду их мирских утех едва ли не главным. «Андрий также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, – пишет Гоголь о бранной жизни сыновей Тараса в четвертой главе первой редакции повести, – потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной страшной прелести, как в битве». Во второй редакции Гоголь добавлял: «Потешна была наука… Бешеную негу и упоение он видел в битве; что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда… летят головы… падают кони… а он несется, как пьяный…» (Представление о битве как игре Гоголь почерпнул, в частности, из статьи своего школьного товарища П. А. Лукашевича «О примечательных обычаях и увеселениях Малороссиян на праздник Рождества Христова и в Новый год», опубликованной в 1826 году в журнале «Северный Архив»: «Кулачный бой есть самое древнее и любимое увеселение Малороссиян…»; Северный Архив. 1826. № 8. С. 387. Описанием кулачного боя в этой статье Гоголь прямо воспользовался при изображении школьных «битв» бурсаков в «Вии». Другим источником явилась, вероятно, ветхозаветная история: «И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют пред нами… И встали и… схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе… И произошло в тот день жесточайшее сражение…»; 2 Цар. 2, 15–17.)
Как следует из дальнейшего развития действия повести, лишение казаков этой «потехи», «пост», наложенный на них долгой осадой Дубно, заставляет их искать других, сходных «утешений». Они как бы возвращаются на время к прежним, бурсацким играм и развлечениям: «Войско… от нечего делать занялось опустошением окрестностей… запорожцы… курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет (схожими играми пробавляются и скучающие польские часовые, играющие «в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони». – И. В.)… Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина…» В это время истомившийся от осадного безделья Андрий (который, по словам автора, «заметно скучал») поддается первому же искушению, несмотря на трезвые увещевания Тараса: «Неразумная голова… Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, все вытерпит…» В это же время напиваются и казаки Переяславского куреня, попадающие в результате в плен. «…Как же может статься, – не без наивности замечает о них атаман Кукубенко, – чтобы на безделье не напился человек». Пагубные последствия невоздержания и погружения в мирские «утехи» Гоголь изображает также в гибели польстившегося корыстью атамана Бородатого, в пленении соскучившегося «бездейственным положением» Остапа (в первой редакции), в разорении от пьянства округи города Умани. Как подчеркивает писатель, поэтическая вольница, разгул и бражничество Сечи, само стремление казаков разжиться в походах деньгами для шинков (ибо «не мало всякий пропивал добра, которого бы стало человеку на всю жизнь…»), являясь принадлежностью запорожского общества, не составляют, однако, его главного, «формообразующего принципа», но, напротив, при их возрастании действуют разрушительно. Это же следует сказать и о страшной, языческой мести Тараса, справляющего «поминки» по казненному Остапу в каждом захваченном казаками польском селении – предающего огню и мечу всех, попадающих ему в руки, не разбирая пола и возраста, и испытывающего от этого «какое-то ужасное чувство наслаждения». В повести «Страшная месть» расправу есаула Горобца над поляками за убийство пана Данила Гоголь прямо называет тризной – языческим поминовением усопших, оканчивавшимся воинскими играми, – и также упоминает о ней как утешительной для героев: «Разве не пышна была тризна по нем? выпустили хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя!..» (В заметке Гоголя 1830-х годов «Обряды религиозные» читаем: «Над умершими тризна у радимичей, вятичей, северян, по словам Нестора, причем доказательство их язычества».) В итоге «страшная месть» Тараса Бульбы и приводит его к гибели.
Созидающей и укрепляющей основой рыцарского братства запорожцев является, по Гоголю, другое утешение – духовное. Это в свою очередь следует как из содержания самой повести, так и из авторских комментариев к ней.
Духовное утешение доставляет обитателям Сечи прежде всего радость от сознания осмысленности своего бытия. В обретении смысла существования – отличного от прежней, безрадостной и бессмысленно-тягостной жизни – находит себе «нежбу» и трезвенное «упоение» большая часть запорожских казаков. В статье «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь писал: «Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин… положили начало этому странному обществу… уже вначале имевшему одну главную цель – воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей». Само по себе показательно, что, помимо указываемого здесь Гоголем прообраза запорожского общества – средневекового рыцарского ордена, слова о возникновении казацкого братства несут в себе еще и несомненные ветхозаветные реминисценции – от истории царя Давида: «И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот человек» (1 Цар. 22, 2), до истории Маккавеев: «Тогда снидоша мнози ищуще суда и правды в пустыню…» (1 Мак 2, 29). Мысль же о духовном утешении как формообразующем принципе общества запорожцев (в дополнение к ветхозаветному принципу ополчения по родам; см.: Чис. 2) была почерпнута в Новом Завете: «Церкви же по всей Иудеи и Галилеи и Самарии… утешением Святаго Духа умножахуся» (Деян. 9, 31).
Очевидно, вероисповедная проверка всякого новичка кошевым – «Здравствуй! во Христа веруешь?» – вовсе не формальный обряд, дань установившейся традиции, но касается самой основы существования Сечи.
Ощущение причастности к общему плану мироздания и исполнение своего предназначения в мире и составляет главное утешение запорожцев. «Долг – Святыня, – замечал позднее Гоголь в отдельном наброске. – Человек счастлив, когда исполняет долг». Среди выписок своего сборника «Выбранные места из творений Св. Отцов и учителей Церкви» он также замечал: «…законы общества человеческого уже написаны в сердце человека и… исполнение их вносит блаженство и Самого Бога в общество». Пиршественная, праздничная атмосфера Сечи призвана подчеркнуть в этом отношении внутреннюю свободу спаянных в единое братство запорожцев, на основе которой и становится возможным подвиг их героического самопожертвования. Утешение от мысли об обретенном призвании, глубокая «радость спасения» (Пс. 50, 14) – «высокая радость служить Ему» (строки письма Гоголя к Н. Н. Шереметевой от 30 октября (н. ст.) 1845 г.) – проистекают у запорожцев непосредственно из принятого ими на себя подвига по исполнению заповеди Спасителя – являющейся основой любви к Отечеству: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Этим литургическим аспектом гоголевская повесть напрямую связана с позднейшей духовной прозой писателя – прежде всего с его «Размышлениями о Божественной Литургии».
О гибели казаков, оставшихся ради спасения товарищей под стенами Дубно, К. С. Хоцянов писал как о «священнодействии», «жертвоприношении», «при котором каждый думает занять место первосвященника, войти во святое святых своей души и самого себя принести на заклание». «Конечно, – замечал исследователь, – страшная бездна, неизмеримая пропасть между любовью запорожцев и любовью Того, Кто отдал Себя на страдания и смерть за все человечество… Но Сам Спаситель сказал: “Больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя”. Много ли самоотверженных людей, которые… осуществляют эти… слова? Такие люди редкими… единицами стоят в истории человечества… А между тем запорожцы целыми тысячами осуществляли слова Божественного Учителя» (Хоцянов К. С. Опыт разбора повести Гоголя «Тарас Бульба». СПб., 1883. С. 15–16). В знаменитой речи Тараса Бульбы о товариществе, где он говорит о родстве «по душе, а не по крови» и обличает то, что «свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке», герой, напоминая казакам об их долге, прямо призывает их положить за друзей свои души: «Пусть же знают… что такое значит в Русской земле товарищество («и как стоят в ней брат за брата», – добавлял Гоголь в черновой редакции). Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж… не доведется так умирать!..» Строки эти, кстати, прямо перекликаются с речами другого «полковника», обращенными в решающий час сражения к русским воинам, – из лермонтовского «Бородино», которое было опубликовано в 1837 году в изданном в пользу семейства покойного А. С. Пушкина журнале «Современник», где Гоголь поместил свои «Петербургские записки 1836 года»:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Потому-то Тарас, «несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украйне несчастиях… был несколько доволен представлявшимся широким раздольем для подвигов» – эти подвиги представляли ему «мученический венец по смерти». Если Тарас, замечал К. С. Хоцянов, в тот самый момент, когда желает «оживить» казаков, напоминает им о смерти, значит, он думает, «что приношение себя в жертву за товарищей и должно наилучшим образом… одушевлять казаков. А думает он так, конечно, потому, что все это в высшей степени его самого ободряет…» (Там же. С. 51).
«Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях, – писал Гоголь А. С. Данилевскому 13 апреля (н. ст.) 1844 года. – Счастие на земли начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно… Только тоска да душевная пустота заставляет нас, наконец, ухватиться за ум и догадаться, что мы были в дураках».
Все главные движения запорожского войска в повести определяются исполнением заповеди Спасителя о любви к братьям. Исполняют ее казаки, отправившиеся в поход в защиту гонимых православных христиан; казаки, оставшиеся под стенами Дубно с целью выручить друзей из польского плена; казаки, отправившиеся на Сечи на выручку товарищей, плененных татарами. Заповеди Спасителя отвечает у Гоголя и историческое предназначение казачества, связавшегося «общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников» и сдержавшего «разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу». Строки об этом из статьи «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь внес в повесть в 1841 году: «Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть».
Размышления о смысле жизни, вызывающие радость или уныние, определяют характеры гоголевских героев уже в ранних произведениях. Главный герой «Страшной мести» Данило Бурульбаш восклицает, вспоминая о прежних временах казачества: «…как резались мы тогда с турками!., живу без дела… сам не знаю, для чего живу». «На то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай», – замечают запорожцы в «Тарасе Бульбе». Тарас, возражая кошевому, отказавшемуся объявить поход «на турещину или на татарву», так же восклицает: «Так, стало быть, следует… чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем… растолкуй ты мне это». «Вот пропадает даром казацкая сила…» – ропщут уже все запорожцы в начале следующей главы. (Характерно, что в 1842 году сам Гоголь связывал «загадку» своего «существования» именно с «подвигом во имя любви к братьям»; имелось в виду завершение «Мертвых душ».) В шестой главе первой редакции запорожцы к словам о защите «веры и обычая» прибавляли: «Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих». Сама семейная жизнь Тараса имеет значение для него только через его главное призвание – и потому доставляет утешение: «…он тешил себя заранее мыслию, как он явится с двумя сыновьями своими в Сечь и скажет: “Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!”» Жена для Тараса Бульбы – прежде всего мать будущих защитников веры, и видимое равнодушие героя к ее горю при расставании с сыновьями объясняется именно этим подчинением второстепенного главному: чувства родственной кровной любви религиозному, «рыцарскому» служению, благословение на которое и испрашивает у нее для детей Тарас перед отправлением в Сечь. И любовь матери должна отступить перед призванием сыновей. Точно так же и сам Тарас, как по отношению к мученику за веру Остапу, так и по отношению к изменнику Андрию, преодолевает узы естественного родства, предпочитая им иные, нетленные узы «небесного братства».
Приобщение к этому духовному братству одно только, по убеждению Гоголя, способно по-настоящему насытить душу, ибо оно доставляет ей главную и единственную ее «пищу» – исполнение предуготованного ей Промыслом назначения в мире, по слову Спасителя: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 34). «…Как полюбить Того, Которого никто не видел?.. – писал Гоголь в статье “Нужно любить Россию”. – В любви к братьям получаем любовь к Богу» (1 Ин. 4, 20). Мысль о запорожском духовном братстве как прообразе самой Церкви («Где вас двое <или трое собраны во имя Мое>, там и Церковь моя», – перефразировал Гоголь слова Спасителя (Мф. 18, 20) в письме к С. Т. Аксакову от 18 августа (н. ст.) 1842 года) неоднократно подчеркивается в повести. «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи!» – восклицает атаман Кукубенко в девятой главе. «Садись, Кукубенко, одесную Меня! – скажет ему Христос. – Ты не изменил товариществу… хранил и сберегал Мою Церковь». Как указал Ф. Б. Якубовский, настоящий образ находит себе прямое соответствие на старинных украинских иконах, где часто рядом с тем или иным библейским или евангельским образом изображалась фигура совершенно бытовая, казацкая, в кунтуше, с усами, даже при казацком оружии (Якубовсъкий Ф. Трагедiя Миколи Гоголя // Гоголь М. Тарас Бульба. Изд. «Сяйво». <Киев, 1927.> С. 18). Эту же мысль о духовном братстве запорожцев призвано передать и упоминание рассказчика о том, что «бандурист… скажет… про них свое густое, могучее слово. И пойдет… по всему свету о них слава… подобно гудящей колокольной меди». Строки эти представляют собой реминисценцию слов 148 псалма: «Песнь <т. е. слава> всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людем, приближающимся Ему» (ст. 14).







