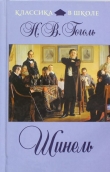Текст книги "Том 3. Повести"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
„Дома пан?“ спросил путешественник.
„Дома“, отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.
„А пани?“ „И пани дома“. „А панночка?“ Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.
„И панночка дома“.
„Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам и другой, еще и злотый“.
„Дай!“ говорила простодушно девочка, протягивая руку.
„Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?“ „Скажу“. „Как же ты скажешь ей?“ „Не знаю“. Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.
Не прошло несколько минут, как мелькнула между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее, так что формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных <членов> не была скрыта. Широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках, спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом своенравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.
„Откудова ты, человек добрый?“ спросила она, увидев козака.
„А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, – Остраницы“.
Девушка вспыхнула. „А ты видел его?“ „Видел. Слушай…“ „Нет, говори по правде! Еще раз: видел?“ „Видел“. „Забожись!“ „Ей-богу!“ „Ну, теперь я верю“, повторила она, немного успокоившись. „Где ж ты его видел? Что, он не позабыл меня?“ „Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..“ Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова. „Как ты сюда прилетел?“ говорила она шопотом: „Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украины“. „Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?“
„Люблю“, отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо. „Когда любишь, слушай же, что я скажу тебе: убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю. Он, верно, даст мне землю. Не то поедем хоть в Галицию, или хоть к султану; и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут на хуторах наших. Золота у меня много, ходить есть в чем, – сукон, епанечек, чего захочешь только“. „Нет, нет, козак“, говорила она, кивая головою с грустным выражением в лице: „Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? „Глядите, люди“, скажет она: „как бросила меня родная дочка моя!“ Слезы покатились по ее щекам.
„Мы не надолго ее оставим“, говорил Остраница: „только год один пробудем на Перекопе или на Запорожьи, а тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой“.
Галя качала головою всё с тою же грустью и слезами на глазах.
„Тогда мы оба станем присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старее твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь, – тогда и не то будет со мною“.
„Нет, полно. Ты не то, ты – козак; тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если б я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня – и всё мне“ (при этом она махнула грациозно рукой) „трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У бога не вымолишь, чтоб переменил долю… Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее; жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: „Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне всё снится, то, что она замуж выходит, то, что рядят ее в богатое платье, но всё с черными пятнами.“
„Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня“, говорил Остраница, поворотив голову на сторону.
„Я не люблю тебя? Гляди: я как хмелинонька около дуба, вьюсь к тебе“, говорила она, обвивая его руками: „Я без тебя не живу.“
„Может быть, вместо меня, какой-нибудь другой с шпорами, с золотою кистью?.. что доброго, может быть и лях?“
„Тарас, Тарас! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебе! Зачем ты укоряешь меня так?“ сказала она, почти упав на колени и в слезах.
„О, ваш род таков“, продолжал всё так же Остраница. „Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле…“
„Ну, чего ж тебе хочется? Скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?“
„Едешь со мною или нет?“
„Еду, еду!“
„Ну, вставай, полно плакать; встань, моя голубочка, Галочка!“ говорил он, принимая ее на руки и осыпая поцелуями. „Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя… За это согласен я, чтоб ты осталась с матерью до тех пор, пока не пройдет наше горе. Что делает отец твой?“
„Он спал в саду под грушею. Теперь, я слышу, ведут ему коня. Верно, он проснулся. Прощай! Советую тебе ехать скорее, и лучше не попадаться ему теперь: он на тебя сердит.“ При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу… Остраница медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался несколько раз назад, как <бы> желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.
<глава 3>
Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только приметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш верно бы досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадью его так высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает: он еще не разлучился со сном, ленивою рукою берется он за халат, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать; а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, и утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так живы и прохладны, как горный ключ. Конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и только одни приветливые ветви вишен, которые перекидывались через плетень, стеснявший узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда браться рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, он очнулся. „Кто такой?..“ Наконец ворота отворились. Остраница въехал в двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на трех уланов, спящих в мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откудова взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его приезде? И кто бы мог открыть это? Если бы, точно, узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию? И где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Всё это повергло его в такое недоумение, что <он> не знал, на что решиться: ехать ли опрометью назад, иди остаться и узнать причину такой странности? Он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым движением его было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку. „Но пойдемте, добродию, в светлицу: здесь не в обычае говорить, и слишком многолюдно“, отвечал последний. В сенях вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, с каганцем в руках. Осмотревши с головы до ног, она начала ворчать: „Чего вас чорт носит сюда? Всё только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Что вам нужно? Еще мало горелки выпили!“ „Дурна баба! рассмотри хорошенько: ведь это пан ваш.“ Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец вскрикнула: „Да это ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матусенька! Да это ж ты, мой сокол! Как ты переменился весь! как же ты загорел! как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить.“ Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился. „Сумасшедшая баба!“ говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей прямо в глаза. „Чего сдуру ты заревела? Народ весь разбудишь“. „Довольно, Горпина“, прервал Остраница. „Вот тебе, гляди на меня! Ну, насмотрелась?“ „Насмотрелась, моя матинько родная! Как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, всё не спускала глаз, боже мой! А теперь вот опять вижу тебя! Охо, хо!“ И старуха принялась рыдать.
„Слушай, Горпино!“ сказал Остраница, приметив, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. „Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и наперед подай святой пасхи потому, что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего, и даже не попробовал пасхи.“
„Да ты ж вот ото и пасхи не отведывал, бедная моя головонька! Несчастная горемыка я на этом свете! Охо, хо!“ Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и, подперши щеку рукою, <ключница?> снова была готова завыть, если б не увидела над собою замахнувшейся руки запорожца.
„Добродию! позволь кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла ж охота господу богу породить этакое племя! Или ему недосуг тогда был или бог знает, что ему тогда было…“
Остраница вошел между тем в светлицу и, снявши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он растянулся на нем в совершенной бесчувственности, не обращая ни на что глаз своих, а потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная достопамятность в той стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое опустошение и обращали в руины всё то, что успевали сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая, комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в тот век. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что ее существование должно быть эфемерно; но, однакож, поправками, приделками ветхое строение простояло около 50 лет. Стены были очень тонки, вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческим лицам, с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких изразцов. Окна были невелики, круглы; матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего на дворе. На стене висел портрет деда Остраницы, воевавшего с знаменитым Баторием. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парою <пистолетов>, заткнутою за пояс; нижняя часть ног до колен не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и всё мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с боченком водки, с надписью: „Козак, душа правдивая, сорочки не мае“, которую и доныне можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей – несколько икон, убранных калиною и зелеными цветами, а под ними на длинной деревянной доске нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; святой Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные. Подалее висело несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром; два странного вида складных стула. В этом состояло убранство комнаты… Остраница между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первым его делом было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с пасхой, с сметаной, сыром… „Вот тебе, паночиньку мой, и розговены! Вот тебе и сметанка!“ говорила <она>. „Куда ж как он проголодался, бедная дытына! Вот как не подавится, бедненький! А я-то думала, а я хлопотала, а я бегала, как бы ему, моему сердечному… А вот господь сподобил, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!“ Горпина опять было хотела всплакнуть, но запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил: „Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..“ Это остановило намерение Горпины… „Кушай, кушай, сынку мой! ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе! Голубчик мой! Мы с тобою только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..“
„Еще и христосоваться!“ проговорил Пудько сквозь сон и схватил вместо пуги Горпинину ногу. „Пошла, проклятая баба!“
„Ступай, Горпино! полно тебе!“ проговорил, поднявшись, Остраница: „А не то я, несмотря на то, что ты стара и что няньчила меня, сниму со стены вот этот батог; видишь ты этот батог?“ Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась. „Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?“ „А что ж ему делать? Известно, что делает: спит где-нибудь“. „Ну, так пойдем же и мы спать! только не в душной хате, а на вольной земле, под небом“. Запорожец натянул на себя кобеняк и пошел вслед за Остраницею из светлицы, в которой чуть было не упал, зацепившись за что-то, лежавшее у порога, но голосу которое не дало, – завернувшееся в кожух туловище. Остраница узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была страшная противуположность тому, что он говорил в дверях. Даже самый образ выражения был не тот; множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. „Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, гайда, гоп, гоп, гоп! Эка славная конница у запорожцев! Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мне: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты, мужичок? Зачем ты пришел? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп!“ и тому подобное. Остраница попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову боченок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли, как следует, и решился оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составляло самую фантастическую музыку. Скоро все уснули.
<глава 4>
Однакож Остраница долго не мог заснуть; напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его, а думы незваные приходили и силою ложились в его мозгу. Итак, его приезд понапрасну; и столько приготовлений, столько забот – всё по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при нем об другом, об отце или матери? Нет, нет! Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни отца. – „Нет, я хочу“, говорил он, разбрасывая руками: „чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнёт мне на щеки! Обнимая дрожащие груди твои, прижму тебя к моим грудям… И еще при этом думать об другом!.. О, как чудно, как странно создана женщина! Как приводит она в бешенство! Весь горишь! пламень в сердце, душно, тоска, агония… а сама она, может, и не знает, что творит в нас; она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела“. Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, <читатели> узнают сколько-нибудь жизнь героя. „И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет ее дочери! Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она. И странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь – сам не знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше бы пропал, не живши! Чужие призрели. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однакож я был весел душой; ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину, сирота-сиротою. Не встретил никого знакомого. Хотя бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однакож, хотя грустная, а всё-таки радость была – и печально, и радостно! Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину – и всё позабыл, всё к чорту. Ох, очи, черные очи! Захотел бог погубить людей за беззаконья, и послал вас. Собиралось компанейство отмстить за ругательства над христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в Польше коронный гетьман, сейм и полковники? Грех лежать на печке. Еще бы можно было поправить; вражья потеря верно б была сильнее, когда бы ударил из засады я. Бежат все запорожцы, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А всё вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, – всё вы, всё вы, черные брови! Дивно диво – любовь! Ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе к себе, так, чтобы пылающие щеки коснулись щеки, и всё бы глядеть. Боже, как хороша она была, смеясь! Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь делаешь ты? Верно, лежишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что… Как же придумать?..
Голова моя горит, а не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Остраницу: он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда… бог знает, что тогда будет! Только всё лучше, я буду близь нее жить…“ Так раздумывал и почти разговаривал сам с собою Остраница; уже он обнимал в мыслях и свою Галю; вместе уже воображал себя с нею в одной светлице; они хозяйничают в этом земном рае… Но настоящее опять вторгалось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками; кобеняк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.
<глава 5>
Как только проснулся Остраница, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбараки, женские парчевые кораблики, белые намитки, синие кунтуши; одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучею народа <он> должен был перецеловаться и принять неимоверное множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего – обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, с своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, <то> против этого хозяин выкатил две страшные бочки горелки для всех гостей, и хуторянцы сделали самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем. И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами с хреном, а другая к пустившему хмельный водопад, боясь ослушаться власти атамана, который наконец гостей принимал, держа в руках плеть. Он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенания при каждом ударе. Атаман приговаривал таким дружеским образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына. „Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу! А вот еще один раз! Вот тебе еще другой! Да, голубчик, не делай так! А вот это как тебе кажется? А этот вкусен? Признайся, вкусен? Когда по вкусу, так вот еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что, танцуешь? Тебе, видно, весело? То-то, я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так…“ Тут атаман, наконец, увидев, что молодой преступник, несмотря на всё старание устоять на месте, готов был закричать, остановился. „Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись!“ Принявший удары, с опущенными глазами, из которых ручьем полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги. „Говори, любезный: благодарю, атаман, за науку!“ „Благодарю, атаман, за науку“. „Теперь ступай! Гайда! Задай перцю баранам и сивухе!“
„Христос воскрес, атаман! Мы с тобою еще не христосовались“. „Воистину воскрес!“ отвечал атаман.
„Нет ли у тебя в запасе губки? Охота забирает люльку затянуть“. При этом <Остраница> вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.
„Как не быть! Это занятие, когда материя не клеится“.
„Я хотел сказать тебе дело“, примолвил Остраница с некоторою робостью.
„Гм!“ отвечал атаман, вырубливая огонь.
„Мое дело не клеится“.
„Не клеится?“ промолвил <атаман>, раскуривая трубку: „погано!“
„Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь“.
„Не достанется?.. Погано!“
„Придется нам возвратиться ни с чем“.
„Гм!..“
„Что ж ты скажешь?“ спросил Остраница, удивленный таким неудовлетворительным ответом.
„Когда воротиться“, отвечал запорожец, сплевывая: „так и воротиться“.
Остраницу ободрило такое равнодушие. – „Только я не пойду с вами; я поеду на время в Варшаву“.
„Гм!“ отвечал атаман.
„Ты, может быть, сердит на меня, что я так обманул и поддел вас? Божусь, что я сам обманут!“ При этом слове грянула музыка, и, вместе с нею, грянуло топанье танцующих. Атаман, с трубкою в зубах, ринулся в кучу танцующей компании, очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навприсядку.
<глава 6>
„Что он себе думает, этот дурень Остраница?“ говорил старый Пудько. „Щенок! Еще и родниться задумал со мною! Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила наперед! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень!“ говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. „Молод козак, ус еще не прошибся!“ Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется с старшими. „Знать должен, что кто задумал мстить, тот у того не жди уже милости. Скорее солнце посинеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко!“ Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит и боже сохрани жинке не явиться тот же час! На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло иссохнувшее, едва живущее существо. Вид ее не вдруг <поражал>. Нужно было вглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, всё в морщинах, почти бесчувственное лицо; глаза черные, как уголь, некогда – огонь, буря, страсть, ныне неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однакож, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этих, некогда гордых и величественных, бровей дарило счастие, необитаемое на земле? И всё прошло, прошло незаметно; образовалось, наконец, лишь бесчувственное терпение и безграничное повиновение.