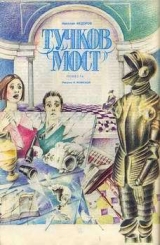
Текст книги "Тучков мост"
Автор книги: Николай Федоров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Напульсник времени
– Квартирка ничего… Ничего квартирка, – говорил дядя Боря, расхаживая по комнатам. – Кухня… Сколько кухня? Шесть и семь?
– Шесть и семь, – сказала мама.
– Так, так, так… Две лоджии. Очень хорошо. Одну застеклить надо. Ага, ванная. Н-да, ребятки, не обижайтесь, но кафелек у вас аховый. Как в морге, кафелек.
– Хозяина в доме нет, – сказала мама и выразительно посмотрела на папу.
– А это что у вас висит? – спросил дядя Боря, взглянув на потолок.
– А это, Боречка, линия электропередачи висит. Я уже три года прошу этих лодырей скрытую проводку сделать – как об стенку горох. Им ничего не надо, живут, как в хлеву.
– Ну, Семенова, не ворчи, не ворчи. У тебя такие мужики! А проводка – ерунда. Я тебе нашего Гриню пришлю – он за пять минут все сделает. Вот линолеум, братцы, – это никуда не годится. Человек должен ходить по паркету.
– А мне нравится, – сказал папа. – Очень удобно: провел мокрой тряпкой – и чисто.
– Оно, конечно, мокрой тряпкой тяп-ляп. Но вы ж, ребятки, не в Доме колхозника живете. Свою норку можно и поскрести. Поскрести можно.
– Ну что ты говоришь, Боря! – всплеснула мама руками. – Кто это будет скрести? Живут, как на вокзале. Ты посмотри, какой стол у этого так называемого ученика.
На столе у меня, конечно, как и всегда, был творческий беспорядок. Иногда папа, посмотрев на него, говорит: «Жаль, что я не художник. Готов биться об заклад, что такого неожиданного натюрморта нет ни в одной картинной галерее». Мама выражается короче и яснее: «Помойная яма». Сейчас, помимо разбросанных учебников, тетрадей, сломанных карандашей и непишущих ручек, на столе лежали: тиски слесарные, модель вертолета «Ми-5» с отбитым хвостом, обрезок сосновой доски, два десятка стреляных гильз от малокалиберной винтовки, собачий жетон, бутылка эпоксидной смолы, проржавевший напильник, кусок плексигласа и прочая разная мелочь, состоявшая из маленьких гвоздиков, шурупов, гаек, заклепок. Весь этот натюрморт был густо посыпан стружками и алюминиевыми опилками.
– Ничего, ничего, – сказал дядя Боря, взглянув на стол. – Из хаоса рождается порядок. Я тебе скажу, к кому обратиться.
Выходя из комнаты, дядя Боря зацепился за пластмассовый плинтус, и тот с диким треском отвалился от стены.
– Ох, простите, я, кажется, что-то сломал, – сказал дядя Боря, с удивлением глядя на провода, которые прикрывал плинтус.
– Пустяки, – сказал папа. – Он у нас все время отскакивает. – И, приложив плинтус, саданул по нему ногой. Тот с неменьшим треском встал на прежнее место. – Вот и порядок!
Когда мы садились ужинать, дядя Боря сказал:
– Погоди-ка, Аня, у меня тут бутылочка есть. Застойная. Теперь такую днем с огнем не сыщешь. – И он достал из «дипломата» бутылку «Рябины на коньяке».
– Борис Михайлович, – сказал папа, – вы же, кажется, на машине. Вам бы не надо…
– Ничего. Рюмочку можно. За встречу.
– Да я понимаю, что вы с рюмки не опьянеете. Но ведь без прав из-за такой ерунды остаться можно.
– Ну, ну, ну, не преувеличивайте, Александр Николаевич. В конце концов, заплатим штраф.
– В таких случаях, вы же знаете, штраф не берут.
Дядя Боря засмеялся:
– Это, дорогой мой, смотря какой штраф. Три рубля не берут, а вот триста – еще как берут.
– Это не штраф, а взятка, – сказал я. – И если честный милиционер попадется, он у вас все равно права отнимет.
– Не суйся во взрослые разговоры, – сказала мне мама. – Ешь быстрей и иди разбирай свою помойку.
– Пусть, пусть сидит, – сказал дядя Боря. – Большой уже мужик, должен знать, что почем в этой жизни. А жизнь, ребятки, дорожает. Дорожает жизнь.
– Мне кажется, наоборот, – сказал папа. – Жизнь обесценивается.
– Ну, это вы в философском смысле. Но, дорогой мой, из философии каши не сваришь и сапог не сошьешь. Вы мне лучше, Александр Николаевич, скажите, не писали ли вы стихов?
– Как же не писал! Писал. Помню, в пятнадцать лет я даже поэму сочинил. Называлась «Лимонный свет». Потом я сжег ее в печке, полагая, что иду по стопам Гоголя. Помните, тогда ведь печки еще были, а в них так и подмывало что-нибудь сжечь. Теперь писателям туго: совсем негде спалить даже маленькую бумажку. Поэтому приходится все тащить в издательства. А почему вы вдруг об этом спросили? Уж не заведуете ли вы издательским кооперативом?
– Нет, нет, у нас другой профиль. Дело у нас деликатное, но нужное. Нужное дело. Сейчас ведь народ к чему потянулся? К истокам, к истокам потянулся, к культуре. В том числе и к культуре на кладбищах. Верно, Семенова?
– Конечно, Боречка, конечно, – сказала мама, подкладывая дяде Боре салат.
– То-то и оно. Раньше ведь как: зарыл покойника, сунул в землю трубу водопроводную со звездой из жести – и вся любовь к усопшему. Теперь нет. Теперь все хотят камешек. А то и памятник с ангелочками да херувимчиками. Да чтоб непременно буковки золотые – на веки вечные.
– А-а, так у вас похоронное бюро, – сказал папа. – Вы, стало быть, гробовщик?
– Ничего подобного. Мы занимаемся только камнями: ну, плитка там, столбик, крестик. Кому что по душе. И по карману.
– Замечательно. Только непонятно, чем бы, скажем, я мог бы быть полезен. Вам ведь каменотесы нужны, грузчики.
Дядя Боря выпил рюмку и, захрустев маринованным огурцом, назидательно сказал:
– Нам, дорогой мой, никто не нужен. Думаю, легче занять кафедру в университете, чем устроиться к нам грузчиком. Что же касается вас… Видите ли, клиенту теперь камня с именем и с датой мало. Ему надпись подавай трогательную, желательно в стихах.
– Понял, понял, вам нужен сочинитель эпитафий. «Зачем душистыми цветами земля могилы убрала? Не ощутима мертвецами их освежающая мгла».
– Вот, вот, вот, – закивал головой дядя Боря, – Только это вы что-то старинное прочли. А надо бы посовременнее. Между нами говоря, я сам тут сочинять пробовал. Но туго, туго идет. Не мой профиль. Одну, правда, написал, и вроде неплохо. Да я вам сейчас прочту. – Дядя Боря полез в карман и, достав бумажку, продекламировал:
Безвременно прервал ты свой полет
Над миром нашим суетным и спешным,
Как в небе пораженный самолет…
И вот охвачен мраком ты теперь кромешным.
– А? Ну как?
– Гениально, – сказал папа.
– Я понимаю, вы иронизируете, – сказал дядя Боря. – Конечно, не шедевр.
– Почему же? – сказал папа. – Как раз шедевр.
– Ну, не будем, не будем. И все-таки, согласитесь, звучит вполне современно: полет – самолет. Чувствуется пульс времени.
– Скорее, напульсник, – сказал папа.
– Я не знаю, Саша, что такое напульсник, – сказала мама. – Но работа, мне кажется, очень интересная. Творческая. Я бы, не задумываясь, пошла.
– Погоди, Аня, – сказал дядя Боря, – расширим дело и тебе место найдем.
– Плакальщицей, например, – сказал папа.
– А что это такое? – спросил я.
– А это оплакивание покойников за умеренную плату.
– Лучше оплакивать чужих покойников, чем свою жизнь, – сказала мама.
– Ну, ну, ребятки, перестаньте, – сказал дядя Боря. – Что за настроение? Жизнь прекрасна и удивительна. Надо только рассуждать поменьше. И побольше делать.
Когда дядя Боря ушел, папа налил себе рюмку, выпил и сказал:
– Вот и хорошо. Теперь, Семенова, у тебя не будет проблем с моими похоронами. Как это там: «…охвачен мраком ты теперь кромешным».
– Надо в течение недели позвонить Борису и дать ответ, – сказала мама и, поджав губы, пошла на кухню мыть посуду.
– Не боимся буржуазного звона и ответим на вызов Керзона, – сказал папа и вылил остатки наливки в фужер.
– Пап, да не пей ты эту дрянь застойную, – сказал я. – Пойдем лучше споем что-нибудь.
– Да, да, надо спеть. Знаешь такую песню: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
Я взял папу за руку и повел в свою комнату. Так однажды я вел первоклассника, заблудившегося в новостройках.
Трудно нарисовать медведя
Я шел по двору из магазина, когда вдруг кто-то сзади на меня наскочил и закрыл ладонями глаза.
– Петька? – спросил я.
– Нет, не Петька. А ты только о своем Петьке и думаешь.
Я обернулся и увидел Олю.
– Да нет, – смутился я, – с Петькой мы договаривались… Я решил…
– Ладно, ладно, не оправдывайся.
– А что это у тебя? Прическа какая-то новая.
– Я подстриглась. Нравится?
Волосы у Оли стали совсем короткими, и теперь она походила на мальчишку.
– Нравится, – сказал я. – А ты куда?
– Я тебе звонила. А сейчас специально вышла, чтоб тебя встретить. Прямо не знаю, что делать.
– А что такое?
– Ты мою подружку Катю Чупрову знаешь?
– Ну, знаю немного.
– Так вот, она заболела, лежит, температура – сорок, горит вся. А бабка ее в деревню на два дня уехала. Одна лежит, бедненькая.
– А где ж родители-то?
– Ты разве не слышал? Отец в тюрьме, а мать с другим давно живет. У нее только бабка.
– Так посиди с ней.
– Вот, я про то и говорю, что надо посидеть с больным человеком. Но у меня родители надумали в театр пойти, а на меня Наташку оставили. Ну, как я уйду?
– Так ты чего, хочешь, чтоб я с Наташкой посидел?
– Умничка. Все сразу понял. Да ты не бойся, она уже большая, ей почти три.
Большая Наташка сидела на полу в прихожей и орала что есть мочи.
– Вот видишь, – сказала Оля. – Не может и минутку одна побыть. А вообще-то она у нас девочка спокойная, ты не думай. – И, схватив Наташку на руки, понесла в комнату. – Ну, что ты орешь? Ты лучше посмотри, кто к нам пришел. Андрюша пришел. Знаешь, как Андрюша хорошо рисует? Сейчас он тебе верблюда нарисует. Где наши карандашики?
– Не хочу верблюда, – сказала Наташка. – Хочу зайца.
– Он тебе и зайца нарисует, и бегемота.
Оля усадила Наташку за маленький столик, достала карандаши и альбом.
– Оль, да я в зайцах не силен. Я ей лучше гранатомет нарисую. Или машину.
– Нет, зайца, – сказала Наташка и сбросила карандаши на пол.
– Будет, будет тебе заяц. Не пищи, – сказала Оля, а я полез собирать карандаши. – Ну, детки, рисуйте, не скучайте. Я побежала. Андрей, горшок под кроватью.
– Какой горшок?
– Ну, если она запросится, посадишь на горшок. Неужели не понятно? Все. Я ушла.
С зайцем я кое-как справился. Уши, во всяком случае, получились. Потом я нарисовал слона, жирафа и утку, а Наташка раскрасила их в красный цвет.
– А теперь давай нарисуем пикирующий бомбардировщик, – предложил я.
– Нет, трех медведей. Маленького мишутку, папу медведя и маму медведицу.
– Да ты что! Мне такую картину не осилить.
– Нет, осилить. Рисуй.
Спорить было бесполезно, и я принялся за медведей. Но медведь – это не жираф и не утка. И, как я ни бился, выходило у меня нечто странное.
– Я тебя медведя просила, а ты свинью нарисовал, – заскулила Наташка.
– Да какая же это свинья? – оправдывался я. – Разве у свиньи такая шерсть бывает?
Но аргументы на Наташку не подействовали. Рот у нее вдруг скривился, из глаз покатились крупные слезы, и она зашлась таким громким криком, что мне не по себе стало.
– Ну, не реви, не реви. Ну, что ты ревешь? Ты, наверное, это… на горшок хочешь.
– Ма-ма! – кричала Наташка. – Где мама-а-а!
– А давай я тебя покатаю, – предложил я. – Ну-ка, забирайся.
Я посадил Наташку на плечи и забегал по комнате. На третьем круге она успокоилась и притихла. На шестом я выдохся, подошел к окну и вдруг увидел Петю. Он медленно ехал по двору на велосипеде, дергая руль и пытаясь встать на заднее колесо. Сняв Наташку, я вскочил на подоконник и закричал:
– Петя! Постой, не уезжай!
Петя подъехал под окно и, разглядев меня, крикнул:
– А ты как там оказался?
– Да потом объясню. Заходи.
– Куда?
– Ну, сюда. Я тут один. То есть не один… Ну, в общем, заходи. И велосипед тащи.
Наташка, увидев велосипед, обрадовалась и тут же полезла на багажник. Петя подсадил ее и насупленно спросил:
– Чего это ты тут делаешь?
– Да понимаешь, подруга у Оли заболела. Вот она меня и попросила с сестренкой посидеть. Родители у них в театр ушли.
– Ну, сиди, сиди. А я пошел. И незачем мне было переться наверх.
– Да, Петь, не уходи. Поможешь мне медведя нарисовать. И вообще посидим, поболтаем. А?
– Нет, ты уж без меня медведей рисуй. И ослов. Некогда мне.
Петя снял Наташку с багажника, открыл дверь и попятился с велосипедом на площадку.
Не понравилось мне, как Петя со мной разговаривал. Ох, как не понравилось. Ну, не любит он Олю, неприятно ему, когда я с ней вижусь, но чтобы так… Да и в конце концов я ж не с Олей тут рассиживал, а с маленькой Наташкой. Она-то здесь при чем? Я чувствовал, что если Петя сейчас уйдет, то нашей дружбе конец. А мне этого совсем, ну, совсем не хотелось.
Я взял Петю за локоть, легонько толкнул и, посмотрев ему в лицо, спросил:
– Ты чего?
Петя опустил голову, потом сказал:
– Да я-то ничего… Подружку, говоришь, навестить пошла. Уж не Чупрову ли?
– Ага, Чупрову. А ты… ты откуда знаешь?
– Наврала она тебе все – вот откуда.
– Как наврала? Ее что, нет у Чупровой?
– Почему же нет, есть. Только у этой больной подружки такой балдеж стоит – за три квартала слышно.
Не говоря больше ни слова, я вырвал у Пети велосипед и через три ступеньки понесся вниз. Во дворе вскочил в седло и изо всех сил нажал на педали. Напрямик, через газоны, под арку, потом по улице, снова под арку… Первый двор, второй… Стоп. Кажется, здесь.
Я огляделся и сразу понял, что можно ехать назад. Из окон первого этажа, где жила Чупрова, гремела музыка. Во дворе стояли четыре мотоцикла. Один из них был прислонен к стенке, и какой-то мальчишка, стоя на седле, что-то кричал в форточку и махал руками. Когда я подъехал, из парадной вышли Борька Кузнецов и незнакомая девчонка с накрашенными губами и с розовым нарумяненным лицом. Они сели на мотоцикл и с треском помчались на улицу.
Да, можно было уезжать. И все-таки я медлил, еще на что-то надеясь. Я зашел в парадную и, закатив велосипед под лестницу, подошел к дверям квартиры. Дверь оказалась незакрытой.
Музыка ревела, скрежетала и выла с такой невероятной силой, что в первый момент хотелось заткнуть уши. Особенно выделялись басы. Они бухали по стенам, по окнам, по потолку, и казалось, что где-то рядом забивают сваи. В квартире было так накурено, что щипало глаза. Несколько человек танцевали, кто-то сидел с ногами на диване, кто-то стоял по углам, переговариваясь, трое ребят полулежали прямо на полу, упершись спинами в стену. Олю я увидел среди танцующих, но она меня не замечала. Надо было уходить.
Я попятился к выходу и тут вдруг увидел в руках у одного из мальчишек, сидевших на полу, шар. Тот самый мраморный шар с розовыми прожилками, который я подарил Оле. Мальчишка картинно дымил зажатой в зубах сигаретой и лениво перебрасывал шар с ладони на ладонь. Уж не знаю почему, но этот шар меня доконал. Я повернулся и пошел к выходу. И в этот момент Оля меня увидела. Она побежала следом и уже на площадке схватила за локоть.
– Откуда ты взялся? Ты что, бросил Наташку? Ты за мной следил? – рассерженно заговорила она.
– Не волнуйся, с Наташкой Петя сидит, – сказал я.
Оля сразу же успокоилась и как ни в чем не бывало сказала:
– Ну, а чего ж ты уходишь? Пойдем потанцуем. Видишь, Катя уже поправилась. – Она громко, неестественно засмеялась и потащила меня за рукав в квартиру.
Тут бы мне как-то особенно на нее посмотреть, таким, как пишут в книжках, испепеляющим взглядом. Но я совершенно не представлял, как это делается.
Я просто снял Олину руку с плеча и ушел.
Голубая «вольво»
У Алисы, которая в страну чудес попала, однажды спросили: «О чем ты сейчас думаешь?» А та отвечает: «Вот скажу, тогда узнаю».
Если бы меня в тот момент кто-нибудь спросил, куда я еду, я бы, наверное, тоже сказал, что вот, мол, приеду и будет ясно.
Я неторопливо крутил педали Петиного велосипеда, и в голове у меня была пустота. Пустота – это только так говорится. Такого не бывает, чтоб у живого человека в голове совсем ничего не было. Какие-то тусклые, пустяковые мыслишки обязательно шевелятся, шуршат, роятся, как мошки под дождем.
Педаль скрипит. Левая. Наверное, подшипник полетел. Надо бы сказать Пете, чтоб каретку разобрал. Или нет, он не сумеет. Я сам разберу. Неплохо бы и свой велосипед посмотреть, смазать, подготовить к зимней спячке. Да, зима уже скоро, снег…
Когда это было? В прошлом году или… Нет, в позапрошлом. Мы с папой на Вуоксу поехали, на зимнюю рыбалку. Лещей наловили, плотвы, окушков – много, с полведра, наверное. Даже щучка одна попалась. Красавица… А потом назад отправились и застряли в снегу. По самое днище. Пошли в лес за сухими ветками, чтобы под колеса подложить. Темно уже было. Снег глубокий, по колено, чистый, легкий. И мороз… Градусов двадцать. Вышли на поляну. Тут из-за елок луна вывалилась. Да какая там луна – лунища! Огромная, зеленая и такая яркая, что хоть часы ремонтируй. Папа сел на пень, голову на луну задрал, будто загорает. Потом говорит: «Садись. Посидим немного. Жаль так сразу уходить». Я рядом пристроился, папа мне руку на плечо положил и вдруг начал стихотворение читать. Не буду врать, что у меня память какая-то особенная. Но этот стих я почему-то сразу запомнил. С первой до последней строчки:
Ночь тиха. Мороз сияет.
Выходи, снежок хрустит.
Пристяжная озябает
И на месте не стоит.
Сядем, полость запахну я,
Ночь тиха, и ровен путь.
Ты ни слова. Замолчу я,
И – пошел! Куда-нибудь.
Потом мы еще немного посидели, «позагорали» и только идти собрались – вдруг из-под елки прямо на середину поляны заяц как выскочит! Бултых в снег! На задние лапы вскочил и смотрит на нас с любопытством – уши торчком. И совершенно не боится. Мы с папой, конечно, замерли, не дышим. А заяц так посмотрел-посмотрел да и поскакал прямо на нас. Я даже подумал, уж не хочет ли он с нами вместе на пеньке посидеть. А то и прогнать – может, мы его наблюдательный пункт заняли. Когда до нас уже совсем близко было, метра три, заяц свернул в сторону и неторопливо потрусил в лес… А пристяжная – это лошадь, которую сбоку от оглобель запрягают. В центре коренная, а по бокам две пристяжки – вот и птица-тройка. Но к чему это я вдруг про лошадей? Ах да, стихотворение: «…И – пошел! Куда-нибудь».
Но идти, а вернее ехать, дальше было некуда. Город кончился, а впереди передо мной лежал Финский залив. Берег у воды был завален камнями, подгнившими бревнами, битым кирпичом, расколотыми бетонными плитами, из которых торчала ржавая, словно проросшая арматура.
Спустившись с обрыва, я сел на гладкое, отполированное волнами бревно, да так и просидел минут сорок, пока плоское, багровое солнце не уползло за Лисий Нос. Стало холодно и темно. Я встал и поехал домой.
Когда я проезжал мимо склада, где мы с Петей нашли постамент, я вдруг заметил знакомый голубой капот «вольво». Он лишь немного торчал на улицу из открытых ворот.
«Это что же тут дядя Боря делает? – с удивлением подумал я. – Неужели тоже медные трубочки на свалке ищет? А сторож где же? Дрыхнет, наверное. Нет, надо посмотреть».
На территории склада было сыро и сумрачно. Лишь фиолетовый свет уличного фонаря с трудом растворял густую темень.
Дядя Боря стоял ко мне спиной неподалеку от своего огромного пикапа. Чуть дальше, в глубине, я увидел еще одну машину – мощный грузо-пассажирский джип с открытым кузовом. Кажется, это был американский двухсотсильный «рейндж-ровер». Возле него суетились трое парней. По сброшенным из кузова на землю доскам они волокли в машину большой темный камень, уложенный на тележку. Я сразу догадался, что камень этот – постамент столыпинского памятника.
И тут под ногой у меня что-то хрустнуло – то ли стекло, то ли битый кирпич. Дядя Боря круто повернулся, и вместо знакомого, улыбчивого лица передо мной мелькнула белая гипсовая маска, искривленная не то страхом, не то злобой. Но длилось это долю секунды. Дядя Боря меня узнал. Он расплылся в улыбке, взмахнул своими короткими руками и сделал шаг навстречу.
– Ба! Кого я вижу! Спортсмен-разрядник! Как ты здесь очутился?
– Да вот ехал, катался, – сказал я, кивнув на велосипед, стоявший у забора.
– Понял, понял. Вечерний кросс для поддержания формы. – И, повернувшись к парням, жестко сказал: – Ну, что встали? Грузите. А мы, видишь, работаем, трудимся. Вот э-э-э… на реставрацию берем… Надо охранять старину, охранять. Традиции, понимаешь. Без традиций теперь никак.
Парни наконец заволокли камень в кузов. Двое сели в машину, а третий, коротко стриженный, с толстой, короткой шеей, вразвалку подошел ко мне и, встав сбоку и чуть сзади, положил руку на мое плечо. Просто положил, безо всякого нажима. Нет, я совсем не испугался. Я только удивился, что у человека может быть такая тяжелая, твердая рука. Будто на меня опустили чугунную пятикилограммовую гантель.
– Сядь в машину, идиот! – резко сказал дядя Боря и толкнул парня в грудь. Тот молча, неспешно отошел, но садиться не стал, а привалился спиной к заднему крылу и скрестил руки. Дядя Боря снова заулыбался, хотя я видел, что глаза его из-под очков смотрели с колючей настороженностью:
– Представляешь, с кем приходится работать? Нажрутся с утра водки и ни черта не соображают. Кошмар! Ну все, старина, прощай! Мне пора. Маме, папе привет.
Он заспешил к машине и одновременно со стриженым нырнул в свою «вольво». Но тут же высунулся в окно и крикнул:
– На-ка, возьми презент. Угостишь приятелей, – и протянул мне блок американской жевательной резинки.
– А когда готово будет? – спросил я.
– Что готово? – не понял дядя Боря.
– Ну, постамент. Когда вы его отреставрируете? Я приеду посмотреть. Я обязательно приеду!
С этими словами я вскочил на велосипед и помчался в сторону перекрестка, где весело мигал светофор, где на автобусной остановке толпились люди.
«Врет, – думал я, нажимая на педали. – Все врет! Ничего он не реставрирует. Украл он этот камень. Взял и украл».
* * *
А дома у меня напряженка была. Я как через порог переступил, так мама сразу в крик:
– Ты где болтаешься, паразит?! Я кому говорила – дома сидеть? И носит его где-то, и носит! Что это еще за велосипед?
– Петин велосипед. Да я завтра ему отдам.
– У нас что, стоянка? У нас своей грязи мало?
– Да так получилось, мам. Говорю же, отдам завтра.
Я поскорей проскользнул в свою комнату, схватил первый попавшийся учебник и сделал вид, что занимаюсь. А мама тут же на папу переключилась. Видно, у них еще до моего прихода, как говорят в «Новостях», состоялся откровенный обмен мнениями по актуальным вопросам.
– Объясни: чего ты тянешь? Ты что, двести лет собираешься жить? Имей в виду, он ждать не будет. Ты думаешь, ему без тебя не обойтись? Да он таких писателей тысячи найдет, только свистнет. Это он из уважения ко мне тебя пригласил. Вспомнил юность золотую, вот и впал в лирику. Но у него это быстро пройдет. Он человек деловой.
– Я думаю, – уныло сказал папа.
– Раньше надо было думать. В детстве. А теперь давно уже жить пора. Да и о чем тут, собственно, думать? Что ты в конце концов, вишневый сад продаешь?
– В каком-то смысле – да.
– Боже мой! Какие страдания у нашего дяди Вани! Да пойми ты, Саша, я устала так жить. Я как загнанная лошадь по десять часов на работе. У нас сын беспризорный растет – его некому воспитывать, все заняты. Ну неужели тебе нас не жалко?
Тут я понял, что сейчас папа сдастся. Я не выдержал, вбежал на кухню, где сидели родители, и крикнул:
– Твой дядя Боря – вор!
– Что?! – воскликнула мама.
– Вор, – повторил я. – Он старинный постамент украл, я видел. И передай ему, что меня на жвачку не купишь. – С этими словами я бросил на стол подаренный блок.
– Что ты болтаешь, дурак?!
– Погоди, Аня, – сказал папа. – О чем ты говоришь, Андрей? Объясни.
– Ну, тот постамент! Столыпинский. Про который я тебе рассказывал. Они его в машину запихали и уехали.
– Все! Я так больше не могу, – сказала мама. – Это не семья, а какой-то сумасшедший дом! Один на гармошке играет, другой по свалкам рыщет, на Ростральные колонны лезет… Да пропадите вы пропадом!
Мама схватила коробку с жевательной резинкой и саданула ее об стену. Целлофан треснул, и яркие, оранжевые пачки посыпались на пол.







