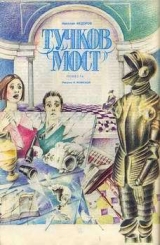
Текст книги "Тучков мост"
Автор книги: Николай Федоров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Просто Боря и еще кое-что
Я в машинах неплохо разбираюсь. Во-первых, мы журнал «За рулем» выписываем, во-вторых, дома у нас есть несколько книг по истории автомобилей, ну и папа, конечно, много рассказывает, мы с ним вместе «Буран» чиним. Так что, когда к нашему подъезду подкатил огромный иностранный автомобиль-пикап голубого цвета, я сразу определил: «вольво».
Номер на подъехавшей машине был наш, но это меня нисколько не удивило. Сейчас в городе полно иностранных машин с нашими номерами. Удивило меня другое – из открывшейся дверцы вышла моя мама. Она тоже сразу меня увидела, поманила пальцем, а потом снова нагнулась в салон и что-то сказала водителю.
Из машины вылез коренастый, лысеющий мужчина с круглым лицом, в очках с большими стеклами в тонкой металлической оправе.
– Вот посмотри. Боря, на это чудо в перьях, – сказала мама, кладя мне руку на плечо.
Мужчина зацокал языком, как китайский болванчик, замотал головой из стороны в сторону и даже, кажется, собрался потрогать меня толстыми, волосатыми пальцами.
– Ну везет, везет же тебе, Семенова, – сказал он, называя мамину девичью фамилию. – Такой мужик, такой большой мужик вымахал. Орел, орел! И всегда-то тебе везло. Я, бывало, на экзаменах со шпаргалкой три балла в поту зарабатываю, а она приходит гордая и бледная – и вытаскивает самый легкий первый билет.
– На этом мое везение и закончилось, – сказала мама и, подтолкнув меня, добавила: – Андрей, познакомься с дядей Борей.
– Ну здравствуй, здравствуй, наследник, – сказал мужчина и ухватил меня сразу за две руки.
– Здрасьте, – сказал я. – А вы мамин брат?
– Брат? Почему брат? Ты мне льстишь. Аня, он мне льстит. Неужели я старый, лысый мужик с длинным носом похож на твою молодую, красивую маму.
– Но она же сказала, что вы дядя.
– Андрей, прекрати свои дурацкие шутки!
– Стоп, стоп, стоп! Он прав. Ребенок прав. Что это еще за дяди Бори, тети Маши. Меня зовут… А знаешь что, зови меня просто Боря. Терпеть не могу, когда меня по имени-отчеству называют. Сразу кажется, что мне сто лет. Да, да, да, просто Боря. И можешь даже на ты. Договорились? Ну орел, орел! Такой огромный. Посмотри, Аня, он выше меня ростом! Спортсмен он, наверное, у тебя, спортсмен.
«Сейчас небось спросит, не играю ли я в теннис», – подумал я. И ведь надо же! Как в воду глядел:
– Ты в теннис не играешь? В большой, конечно: матч-бол, Уимблдон, Джимми Конорс…
Я уже хотел сказать какую-нибудь гадость, но мама меня опередила:
– У него любимый вид спорта – с отцом под машиной лежать.
– Это неплохо, это неплохо. Глядишь, к восемнадцати права получит. Купит себе «роллс-ройс». А теннисом займись. Советую. Игра богов.
– И джентльменов, – добавил я.
– Точно! Ну все понимает! В мать, мать пошел… Ну, Анн, мне пора. Страшно рад был тебя встретить.
– Может, все-таки зайдешь? – спросила мама.
– Нет, нет, сегодня никак. Дела. Но зайду непременно. Раз обещал – все, кремень. Ты меня знаешь. Ну-ка, спортсмен, погоди… – Он нырнул в машину и вытащил оттуда пачку американской жевательной резинки «Джуси-фрут». – На, держи. Жевать можно. Пить, курить – ни-ни.
Дома мама, даже не обратив внимания на отсутствие тапок в прихожей, сразу пошла в атаку на папу:
– Представляешь, встретила Борю Фоменко. Мы с ним на одном курсе учились. Иду по Садовой, вдруг останавливается такой роскошный «форд», и из него Фоменко вылезает.
У мамы все роскошные иностранные машины – «форды». Но я не стал ее поправлять. «Форд» так «форд» – наплевать.
– Знаю, знаю, что дальше будет, – сказал папа, – Наверняка твой Фоменко бросил свою контору или какой-нибудь там НИИ и подался в кооператоры.
– Да, подался, и нечего иронизировать. Он реалист, в отличие от некоторых. Я, правда, не поняла, чем он там занимается, но какая разница. Сашок, я с ним говорила о тебе. Он обещал подумать. Он к нам на днях придет.
– Жевачки принесет фирменной, – сказал я. – Будем пузыри надувать.
– Помолчи.
– Правда, папа, почему бы тебе не поторговать шашлыками. Работа на свежем воздухе…
– Я кому сказала замолчи! Неужели, Саша, ты всерьез думаешь, что напишешь какую-то там книгу. Это смешно! Лев Толстой в тридцать девять лет уже «Войну и мир» закончил.
– Продолжим список, – сказал папа. – Байрон написал «Чайльд Гарольда» в двадцать один, Лермонтов «Мцыри» в двадцать пять, а Пушкина в тридцать семь так и вообще убили.
– Амадей Моцарт – подлил я масла в огонь, – в пять лет играл на скрипке. А в девять написал первую оперу. Так что мне тоже не светит.
– Два идиота, – сказала мама и обиженно ушла на кухню. Прямо в туфлях.
– Папа, а ты давно маму знаешь? – спросил я. – Когда вы познакомились?
– Э-э, значит, так. Я учился на третьем курсе университета, а мама десятый класс заканчивала. Вот считай.
– Ну а как дело-то было? На дискотеке там или на пляже?
– Тогда дискотек не было – были танцы. Или просто вечера. Ну а мы познакомились. Да обыкновенно познакомились. Сидел я в гостях у приятеля, пили сухое вино, слушали магнитофон. Тогда «Битлз» еще очень популярны были, хотя они уже и распались. Последний диск у них был «Эбби Роуд» – «Монастырская дорога». Как раз мы его и крутили в тот момент, пытались слова разобрать, перевести… – Папа замолчал, задумался, потом сказал: – Интересно, ты меня сейчас спросил, а я, оказывается, все совершенно точно помню, каждый штрих… И вот мы сидим, а из магнитофона звучит одна песня, «Что-то». Очень красивая у нее мелодия, нежная. Вдруг звонок. Приходит приятель моего приятеля с двумя девушками. Одна из них сразу говорит: «Ну и свинарник же у вас, мальчики: сыр на газете, окурки в блюдце, кружки какие-то допотопные. Вы бы еще из майонезных баночек пили. Неужели в доме нет фужеров?» Ты уже, конечно, догадался, что это и была…
– Моя мама.
– Правильно. А потом мы танцевали, и я стал сразу ей говорить, что она мне очень нравится и что я хочу ее снова увидеть. А она вдруг говорит: «Ты мне все это напиши. В письме». Я удивился, говорю, зачем же писать, мы же только познакомились. Я могу все так, устно сказать. А она: «Нет, напиши. Слова улетают, написанное остается».
– Слова улетают, написанное остается, – повторил я.
– Это поговорка такая латинская, – сказал папа.
Мы помолчали, а потом я спросил:
– Пап, а вы и раньше с мамой так же ссорились? Ну, всякие там скандальчики, ругань?
– Ммм, ты знаешь, пожалуй, нет. Я что-то не припомню, чтобы мы хоть раз серьезно поссорились.
– А почему же теперь… Из-за меня, что ли?
– Ну, что ты. Нет, конечно. Просто… Как бы тебе объяснить? Вот ты бывал в зоопарке на площадке молодняка?
– Был, конечно.
– Ну вот. Видел там: медвежонок играет с обезьянкой, ослик со слоненком, тигренок с волчонком и так далее. И все вроде одинаковые, все такие смешные, милые, симпатичные. Н-да, а потом звери вырастают, и оказывается, что все они очень разные.
Что-то не очень мне понравилось папино сравнение. Конечно, люди разные, но они же все-таки люди, а не звери, и им совсем необязательно грызть друг друга. Папа, видно, тоже понял, что с зоопарком у него не очень-то складно вышло. Он дернул меня за ухо, ущипнул за нос и сказал:
– Ну, все, хватит философствовать. В конце концов самое прекрасное в жизни – это наши ошибки и заблуждения. Давай-ка лучше выведем наш «Буранчик».
– Поедем похалтурим? – спросил я.
– Нет, нет, никаких халтур! Просто прокатимся, как два джентльмена после файф-о-клока.
Последний свидетель
Во дворе мы встретили Петю и предложили ему составить нам компанию.
– Ну что, – сказал папа, когда мы сели в машину, – может, съездим, посмотрим вашего Столыпина?
– Да там только пьедестал, – сказал Петя. – То есть постамент.
Но у склада нас ждало разочарование. То, что ворота оказались закрытыми, – это ерунда. Они и в прошлый раз закрыты были. Плохо было другое. Исчезла дыра, в которую мы с Петей лазили. Она была забита свежими, необструганными досками.
– Чепуха, – сказал я. – Махнем через забор – делов-то.
– Ну, вы-то можете махнуть, – сказал папа. – А мне вроде неудобно.
– Да чего там неудобного. Сейчас ящик вон тот подставим, раз, два – и там.
Пока папа размышлял, на противоположной стороне улицы остановился милицейский газик. Шофер занялся заменой покрышки, а его товарищ, примостившись к переднему крылу, закурил папироску.
– Осмотр достопримечательностей откладывается, – сказал папа. – Иначе очень долго придется объяснять милиции, что мы ищем памятник Столыпину, а вовсе не хотим украсть обрезок трубы. Вот что, у меня есть другая идея. Посидите-ка, я сейчас.
Он вышел и направился к телефонной будке. Быстро позвонив куда-то, он вернулся и сказал:
– Едем в гости.
– Это еще к кому? – спросил я.
– О-о, к одному очень интересному и очень старому человеку. Я бы даже сказал к старинному человеку. У него и имя-то словно из прошлого века: Ардальон Васильевич. А фамилия Чернопрудский. Во как! Сам он переводчик, литературовед, ну и повидал много всего. Только предупреждаю, господа: вести себя прилично, руками ничего без спросу не хватать, ничего не выпрашивать.
Ардальон Васильевич жил в самом центре, на Невском. Папа не зря сказал нам, чтоб мы ничего не хватали и не выпрашивали. В огромной, с высокими потолками комнате было развешано, расставлено, напихано по углам, засунуто под диваны и кресла столько всего, что дух захватывало. Чего только не было в этой комнате: лихая казачья шашка скрестилась с кривым янычарским ятаганом, рядом поржавевший топор германских ландскнехтов, найденный в Чудском озере, двуствольный пистолет времен русско-турецкой войны, малайзийский крис с лезвием, извивающимся как змея, чучело небольшого нильского крокодила, гигантский орех с Сейшельских островов, акульи челюсти, в которые свободно проходила голова, пешие и конные оловянные солдатики, называемые «нюрнбергскими»…
Под стать всему этому сказочному богатству был и хозяин. Маленький, сухонький, с совершенно белыми, как пух, волосами, он резво семенил короткими шажками по комнате и, открывая очередную шкатулку, говорил:
– А вот, молодые люди, взгляните: это манифест о восшествии на престол императора Павла Первого. Мне подарил его покойный профессор Орлов. Вот у кого коллекция была! А у меня так, пустяки. Случайные вещицы.
Когда мы с Петей немного успокоились, в комнату вошла пожилая, аккуратно одетая женщина и сказала:
– Пора бы наших гостей чаем напоить. Хватит тебе, Ардальон Васильевич, их музейной пылью потчевать.
– Да, да, Машенька, будь добра, сделай нам чай, – сказал старик и, когда женщина вышла, добавил: – Сестра. Благодаря ей только и живу. Слабею, да и ноги плохо держат.
– Ну что вы, Ардальон Васильевич, – сказал папа. – Вы в отличной форме. С тех пор, как я последний раз вас видел, вы ничуть не изменились. А года четыре прошло.
– Да уж куда мне меняться. Хватит. Теперь мне одно, последнее превращение осталось. Недавно упал на Знаменской площади и лежу – не встать, и все тут. А люди идут мимо, думают, валяется пьяный старик – и черт с ним. Хорошо, офицер проходил, помог подняться.
– На Знаменской это на площади Восстания? – спросил папа, желая, видимо, увести старика от невеселых мыслей.
– Да, да. Там, где сейчас этот уродливый памятник со звездой. Зачем, спрашивается, нужно было убирать Александра Третьего? Прекрасная работа Трубецкого.
– Ну, Александру еще повезло. Памятник цел. А сколько погибло…
– Ардальон Васильевич, а вы не помните, был в нашем городе памятник Столыпину? – спросил я.
Старик разгладил усы и, откашлявшись, сказал:
– Столыпина, молодой человек, я видел один раз. Очень, доложу вам, импозантный мужчина был. С брюшком.
Мы удивленно переглянулись, и папа сказал:
– Ардальон Васильевич, дорогой, вы, наверное, не поняли. Андрей спросил о Петре Аркадьевиче Столыпине, председателе совета министров при последнем царе.
– Почему же? – даже несколько обидевшись, отвечал старик. – Я все прекрасно понял. Я и говорю, что видел Столыпина один раз, в Киеве, в опере. Мы ведь с родителями до четырнадцатого года в Киеве жили. Так вот, Столыпина в тот день на представлении и убили. Помнится, «Золотого петушка» давали.
– Так вы что же, были свидетелем убийства? – с изумлением спросил папа.
– Ну, можно и так сказать. Я, правда, всё больше на государя императора смотрел, – он в ложе со своей свитой присутствовал, – но и Столыпина хорошо разглядел. А в перерыве пошли мы с маменькой гулять в антракте, вдруг слышим – хлопок. Негромкий такой, вроде детская хлопушка взорвалась. И сразу – суета, крики, полицейские забегали, но мы ничего не понимали. Тут кто-то нам и говорит: «Столыпина убили».
– Невероятно! – сказал папа.
– Что же касается памятника, – невозмутимо продолжал Ардальон Васильевич, – то, мне кажется, был. Скромный, правда, небольшой. А вот в Киеве был прекрасный памятник Столыпину. Из серо-голубого мрамора, стоял на Крещатике, как раз напротив Думы, А на пьедестале надпись золотыми буквами: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». А почему, позвольте вас спросить, вы заинтересовались памятником Столыпину?
Тут мы с Петей рассказали старику, как нашли на свалке пьедестал от памятника.
– Любопытно, любопытно, – сказал Ардальон Васильевич. – Вот что, молодые люди. Надо мне будет покопаться у себя в бумагах. Помнится, один мой друг историк давал мне список всех монументов Петербурга по семнадцатый год. Вы ко мне зайдите через недельку-другую. Может, я и отыщу этот список. Да и вообще заходите в любое время. К старикам так редко ходят в гости. Тот, кто мог бы ходить чаще, давно уже на том свете.
Уходили мы от Ардальона Васильевича с подарками: я держал в руках маленькую бронзовую пушечку-мортиру, а Петя уносил с собой трех старинных оловянных солдатиков с длинными ружьями.
Вид с Ростральной колонны
«Это, наверное, чужие, – подумал я, идя открывать. – Петька меньше трех звонков не дает, папа, если ключи забудет, так и вообще «Танец с саблями» на звонке изобразить пытается, а мама… Мама ключи никогда не забывает. Значит, чужие».
Но я ошибся.
На площадке, прислонившись к дверному косяку, стояла Оля. На ней был длинный плащ с поднятым воротником, а на голове большой, темный, тяжелый платок с кистями. Вид у Оли был какой-то жалкий, несчастный. Она хлопала глазами, тихонько шмыгала носом и ничего не говорила. Я растерялся и тоже молчал. Никогда раньше Оля не была у меня дома, и я даже не предполагал, что она знает номер моей квартиры.
– Андрюшка, ты один? – наконец тихо спросила Оля.
– Один.
– Можно, я у тебя посижу?
Она медленно, как лунатик, прошла по квартире, провела пальцем по корешкам книг, полки с которыми занимают у нас всю прихожую, потом остановилась и долго, молча разглядывала картину Саврасова «Грачи прилетели». Папа говорит, что эта картина – самое ценное, что есть в нашем доме. Конечно, это копия. Но сделал ее сам Саврасов. Папа рассказывал, что, когда художник был уже старый и больной и не мог работать в полную силу, он написал много, больше ста, копий своих знаменитых «Грачей». Одну из них и купил мой дед в Риге вскоре после войны.
– Грачи весной прилетают, – сказала Оля. – В апреле…
Она хотела еще что-то добавить, но, так ничего и не сказав, прошла в мою комнату и села на диван, поджав под себя ноги и натянув плащ на колени.
– Ты, наверное, замерзла? – спросил я. – Хочешь, я чай согрею. У нас мед есть вкусный. Маму на работе угостили.
Оля отрицательно покачала головой, потом сказала:
– У тебя нет хлеба?
– Конечно, есть, – обрадовался я. – Только зачем хлеб? Сейчас мы с тобой как следует поедим, суп разогреем, котлеты… Пирожное даже есть. Одно, правда…
– Нет, нет, я ничего не хочу. Только кусочек черного хлеба. И, если можно, с солью.
Хлеб, как назло, оказался черствым, но Оля не обратила на это внимания. Она отламывала маленькие, колючие ломтики и рассеянно клала их в рот. А я сидел на стуле посередине комнаты и совершенно не знал, что делать. И в то же время было как-то очень хорошо оттого, что Оля вот так, вдруг очутилась у меня в доме, уютно примостившись в самом уголке дивана. Привычная, надоевшая комната, в которой я знал каждую трещину, каждое пятнышко на обоях, сразу преобразилась и даже, казалось, стала светлее.
– Ты не обращай на меня внимания, – сказала Оля. – Ты ешь суп, котлеты. – И без всякой связи вдруг добавила: – Какие же все-таки они дураки.
– Кто? – не понял я.
– Родители. Нужны мне их сережки! Да мне ничего не нужно. Ни-че-го. Знаешь, я летом в деревне у деда жила. А дед пчел разводит – у него шесть ульев. Так вот, он мне рассказывал, что есть такой пчелиный волк. Оса-одиночка – злая жутко. Она охотится за домашними пчелами, убивает их и тащит в нору на корм своим мерзким детенышам. Вот.
– Это ты к чему? – спросил я.
– Да так, вспомнила… А еще там озеро было, в лесу. Маленькое такое, черное, а у берега кувшинок – много-много. Я туда уйду с утра и целый день там сижу – купаюсь, ягоды собираю. Земляники вокруг – тьма. Целые поляны земляничные. Я с собой бутылку молока и кусок хлеба возьму, наберу земляники – вот у меня и обед. Знаешь, как вкусно – хлеб, земляника и молоко парное! – Оля вскочила с дивана, быстро расстегнула плащ и бросила его на пол, оставшись в длинном, до колен, свитере.
– А почему ты меня не поздравляешь? У тебя совесть есть?
– С чем, Оль? С чем поздравлять-то? – не понял я.
– Как это «с чем»? У меня сегодня день рождения. То есть именины. Да, именины.
– Так я же не знал. Откуда…
– Нет, вы послушайте: у меня именины, а он кормит меня засохшим хлебом с солью. Такой солью, между прочим, дворники улицы посыпают.
– Да я, честно, не знал. И потом, ты ж сама попросила…
– Ты никогда не знаешь то, что нужно. И вообще: кто оправдывается, тот виноват. Вот так. Понял? – Оля вдруг засвистела, как мальчишка, какую-то мелодию, похожую на вальс, и закружилась по комнате, свалив стул, на котором я только что сидел. Потом она подхватила этот упавший стул и продолжала кружиться вместе с ним. Наконец, она остановилась и с размаху плюхнулась на диван. – Какой хороший стул. Просто прелесть. Это, наверное, венский? Да, да, я знаю, это венский стул. Послушай, Андрейка, у тебя есть мука?
– Мука? Есть, кажется.
– А сгущенка?
– Тоже вроде есть.
– Отлично! Сейчас мы испечем праздничный пирог.
На кухне Оля быстренько обрядилась в мамин передник и, затребовав еще два яйца, соду и уксус, сказала:
– Ну, а ты иди пока переодевайся. Через пятнадцать минут будет готово.
– То есть как переодеваться?
– Надень фрак и костюм. Не в школьную же форму.
Я, конечно, понимал, что никакого дня рождения и никаких именин в самом деле нет. Но разве это имело значение? Главное, Оля была здесь, рядом. И мне ужасно хотелось, чтобы праздничный пирог пекся не пятнадцать минут, а по крайней мере сто лет.
Я выскочил из кухни, напялил на себя белую рубаху и даже причесался. Потом подумал: надо же подарить какой-нибудь подарок. Но легко сказать – подарить. Если бы речь шла о Петьке или о каком-нибудь другом моем приятеле, тогда б можно было что-нибудь придумать. Но вот так, сразу найти подарок для Оли… Не дарить же ей в самом деле полкоробки охотничьих капсюлей или модель пикирующего бомбардировщика. Лучше всего, конечно, было б цветы, но где же их возьмешь? Кроме пыльного кактуса в горшке, цветов в квартире не было.
Тут я вспомнил, что как-то вместе с Петей на развалинах дома, шедшего на слом, мы нашли шар. По размерам он напоминал бильярдный, только сделан был из мрамора. Мрамор был нежно-голубого цвета с розовыми прожилками.
«Делать нечего – подарю шар, – решил я, – Вещь, конечно, непонятная, но… может, оно и хорошо».
Я отыскал шар в коробке со всякой мелочишкой – коробку эту мама звала «помойка», – положил его в бумажный мешок с надписью «Ленторг» и пошел на кухню, откуда уже пахло чем-то очень вкусным.
– Ты, кажется, говорил, что у нас есть мед, – сказала Оля, – Доставай. Мы из него начинку сделаем.
Вскоре из духовки был извлечен румяный, блестящий корж, который при помощи нитки мы разделили на две плоские половины. Оля полила эти половинки медом и вновь соединила.
– Все, – сказала она, – праздничный пирог готов.
В комнате я сказал:
– Ну, Оль, я тебя это… поздравляю с днем рождения. То есть с именинами. Именины – это же день ангела, верно? Значит, был такой ангел по имени Оля… – Тут я запнулся, почувствовав, что краснею. – В общем, поздравляю. Вот. – И я протянул пакет с надписью «Ленторг».
Оля взяла пакет и чуть было не уронила.
– Ой, что это тут такое тяжелое? Булыжник ты, что ли, положил?
Олины слова были так недалеки от истины, что я испугался, не обидится ли она за такой дурацкий подарок. Но, к счастью, я ошибся.
– Ммм, какой шар красивый, – сказала она. – Из чего же это он, интересно?
– Мраморный, – сказал я. – Знаешь, я где-то читал, что в Древнем Риме во время пиршеств гостям раздавали мраморные шары. Как думаешь, для чего?
– Не знаю.
– Ни за что не догадаешься. Для охлаждения ладоней. Представляешь?
– Как здорово! Значит, это древнеримский шар?
– Ну, я точно не знаю, но может быть. Вот смотри: в нем нет никаких дырок. Если бы дырка была, да еще с резьбой, значит, можно было подумать, что его куда-то крепили, подвешивали. Ну, как часть украшений. А он совершенно ровный, никаких дыр.
– Да, да, ты абсолютно прав. Это древнеримский шар для охлаждения ладоней.
Она подбросила шар, а потом тихонько пустила его по полу. Шар с тугим гудением покатился по комнате и торжественно скрылся под диваном. Оля вскочила и полезла следом.
– Да погоди, зачем? Я сам достану, – сказал я и тоже нырнул под диван. Там мы и столкнулись. Прямо лбами.
– Ой! – сказала Оля.
– Больно, да?
– Да нет, ничего. Просто ты меня напугал. А хорошо тут, правда? Я, когда маленькая была, страшно любила забираться под кровати, под столы. Да еще подушками или стульями заставиться. Сразу представлялось, что сидишь где-нибудь далеко-далеко… в какой-нибудь избушке или пещере. Ты бы хотел жить в избушке?
– Да, я бы хотел.
– Со мной?
– С тобой.
Оля приблизила ко мне свое лицо так близко, что его очертания размылись, а глаза слились в одно огромное, глубокое окно. И тут я с ужасом почувствовал, что сейчас должен чихнуть. Я отвернулся, изо всех сил потер переносицу, но было уже поздно.
– А-пчхи! – громко чихнул я.
Оля засмеялась и вылезла из-под дивана.
Когда праздничный пирог был съеден, Оля сказала:
– А сейчас мы пойдем гулять. Или нет, мы пойдем знаешь куда? В церковь. Ты был когда-нибудь в церкви?
– Был. А зачем мы туда пойдем?
– Потом узнаешь. Собирайся.
В церкви было чисто и тихо. Пахло ладаном и горевшими свечами. Мы прошли вперед, к алтарю, где на возвышении под стеклом лежала потемневшая, наверное, очень древняя икона, перед которой на массивном бронзовом подсвечнике мерцали три тоненькие нежно-розовые свечки.
Так мы простояли некоторое время. Потом Оля коснулась рукой моей ладони и тихим, низким голосом, подражая священнику, сказала:
– Венчаются раб Божий Андрей и раба Божья Ольга. Жених, согласен ли ты взять в жены Ольгу? – Она дернула меня за руку и своим, нормальным, голосом добавила: – Ну, отвечай: да или нет.
– Да, – сказал я.
Оля крепко сжала мою ладонь и вновь голосом священника продолжила:
– Невеста, согласна ли ты выйти замуж за Андрея? – Она помолчала и, повернув лицо в мою сторону, ответила: – Да.
Мы еще постояли немного, потом обошли церковь вокруг, разглядывая образа в тяжелых, золоченых окладах и читая надписи, выполненные старым, славянским шрифтом. Под образами висели белоснежные, отделанные кружевами полотенца.
– Как ты думаешь, зачем эти полотенца? – спросила Оля.
– Не знаю, – ответил я. – Скорей всего это какие-то символы. Ну, символы чистоты, торжественности.
Когда мы вышли из церкви, Оля сказала:
– Андрей, у тебя есть деньги?
– Есть, – сказал я. – Рубль. Правда, мелочью.
– Очень хорошо. Давай сюда.
Я понял, что Оля хочет раздать эти деньги нищим старикам.
– Да, может, не надо, Оль, – сказал я. – Неудобно как-то.
– Чего ж тут неудобного? Люди просят, значит, надо дать.
Потом мы медленно шли по саду, усыпанному опавшими листьями, перешли Тучков мост, и длинная, строгая набережная Малой Невки вывела нас на Биржевую площадь.
– Знаешь, – сказал я, – мне отец рассказывал, что раньше, давно на Ростральные колонны пускали. Платишь гривенник – и, пожалуйста, наверх.
И тут я заметил, что дверь одной из колонн, той, что ближе к Дворцовому мосту, открыта. Когда мы подошли поближе, из этой двери вышел рабочий в комбинезоне с мотком стальной проволоки на плече и с деревянным сундучком в руках. Он присел на корточки и, достав молоток, принялся расклепывать какую-то деталь.
Я, конечно, сообразил, что это исторический шанс и что упускать его нельзя. Можно всю жизнь прожить в Ленинграде, можно тысячу раз проходить и проезжать мимо этих колонн, так ни разу и не взглянув на город с их исторической высоты.
Я посмотрел на бородатого великана с веслом, притомившегося у подножия колонны, на спину рабочего, долбившего молотком седой петербургский гранит, и, наконец, на Олю. Ни говорить, ни объяснять ей мне ничего не пришлось. Оля поняла меня без слов. Она первая нырнула в открытую дверь колонны. Я за ней.
Крутые каменные ступени винтовой лестницы казались бесконечными. Свет не горел, и, если б не редкие, похожие на бойницы, отверстия в стене, можно было б и загреметь.
Наконец, мы выскочили на верхнюю площадку, и город, такой знакомый и такой неожиданно другой, распростерся далеко внизу под нашими ногами. Тугой балтийский ветер хлестнул нам в лица, чуть было не сдув с головы у Оли платок.
– Вот это да! – восторженно сказала она. – Я даже не представляла, как это здорово! Смотри – автобусы, как жуки. А мостов-то сразу сколько видно… Раз, два, три… шесть штук!
– Я в прошлом году на Исакий лазил – ну, совершенно не сравнить, – сказал я, – Это, наверное, потому, что вокруг ничего не мешает, простор… Вот бы отсюда на дельтаплане над Невой!
Не знаю, сколько времени мы пробыли наверху, болтая о разных пустяках и разыскивая глазами знакомые, но представавшие в неожиданном ракурсе места, но только, когда мы спустились вниз, дверь была заперта. Я толкнул ее плечом, ударил ногой, но тяжелая железная дверь даже не шелохнулась.
– Влипли, – сказал я.
– Ну вот, это уже похоже на приключение, – сказала Оля.
Я изо всех сил заколотил в дверь ногами, но за шумом трамваев и машин никто моих ударов, наверное, не слышал.
– Н-да, – сказал я. – Приключение – это, конечно, хорошо. Но сколько ж мы с тобой будем сидеть в этой каменной кишке?
– Думаю, что вечно, – сказала Оля. – Потом, через много-много лет, когда дверь откроют, на вершине найдут два обнявшихся скелета.
– Нет, – сказал я. – До скелетов дело не дойдет. Сейчас какой месяц?
– Октябрь.
– Ну вот, к седьмому ноября, когда факелы будут зажигать, нас и откроют. Осталось всего ничего – один месяц.
Я снова повернулся к двери и принялся в нее дубасить.
– Погоди, Андрей, не шуми, – сказала Оля. Она близко подошла ко мне, подняла лицо, а потом вдруг притянула руками мою голову и поцеловала. Я стоял, опустив руки по швам, и не смел пошевелиться.
– Теперь стучи. Ну, стучи же! Что ты на меня уставился? Я замерзла. Мне здесь надоело. И, пожалуйста, не воображай, что я в тебя влюбилась по уши. Ты думаешь, почему я тебя поцеловала? Да потому, что мы сидим в этой дурацкой колонне. Понял?
– А при чем здесь колонна?
– При том. Может, в ней двести лет никто не целовался. А может, и вообще никогда. Вот ты проживешь жизнь и всегда будешь помнить, что я тебя в Ростральной колонне поцеловала. А если б я тебя на скамейке поцеловала или там в парадной, ну, ты бы и забыл скоро.
– Я бы не забыл, – сказал я.
– Ладно, не сердись. Я знаю, что ты бы не забыл. Но я хочу домой. Мне здесь надоело. Да открой же наконец эту проклятую дверь!
Когда мама уводила меня из семнадцатого отделения милиции, она ничего не говорила. Она молча шла, крепко держа меня за руку.
А я только об одном думал: «Хорошо, что мне удалось упросить милиционеров, сажавших меня в «ПМГ», не забирать Олю». Не повезло только, что дежурный, звонивший мне домой, наткнулся на маму.
На трамвайной остановке, пока мы ждали «тридцать третий», мама наконец отпустила мою руку и тихо спросила:
– Зачем ты туда залез?
– Да посмотреть хотелось, понимаешь. Ну, что особенного-то?
– Что посмотреть?
– Ну, город. Папа рассказывал, что раньше туда пускали и они с ребятами на свой дом смотрели.
– Смотрели на свой дом. Не понимаю. Почему на дом нужно смотреть с Ростральной колонны? Я этого не понимаю. Вот что, мой дорогой, будешь теперь сидеть дома на привязи. Как собака. Понял?







