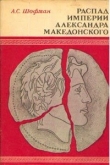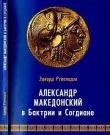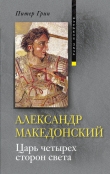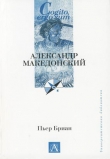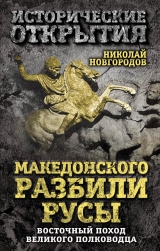
Текст книги "Македонского разбили русы. Восточный поход Великого полководца"
Автор книги: Николай Новгородов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 2. Восточный поход «после Дария»
Противоречие между Восточной и Западной традициями в освещении Восточного похода Александра
Ученые считают, что «существуют две основные традиции повествования об Александре: западная – историческая и восточная – литературная (фольклорная). Западную представляют античные историки, которым принадлежат классические труды об Александре: Арриан, Плутарх, Квинт Курций Руф, Диодор, Юстин и Страбон. Восточные берут свое начало из романа Псевдо-Каллисфена. Этот роман послужил основой сказок, суфийских притч, средневековых рыцарских романов и знаменитой русской „Александрии“» [35, с. 7–18].
Е. В. Косолобова считает, что недопустимо пренебрегать литературной традицией, даже если она сильно мифологизирована, ведь при формировании мифов «забываются все „второстепенные“ с точки зрения человечества детали и сохраняются (и приукрашиваются) наиболее важные черты, события, замыслы и деяния» [35, с. 9]. Русская «Александрия» повествует о встрече Александра с русским царем Кинталом и его матерью Клеопидой Марсидонской, о походе в страну Мрака, о войне с гогами и магогами и заточении их в горах, о выходе в Океан и достижении Макарийских островов, населенных блаженными людьми – рахманами, о вознесении на небо. Кстати, сюжет вознесения Александра на небо крылатыми львами или орлами нередко встречается на барельефах древнерусских храмов и средневековых изделиях (рис. 6, 7).
Главное противоречие в освещении Восточного похода Александра состоит в том, что историческая и поэтическая традиции в этом вопросе отличаются друг от друга, как небо от земли. Историки, основываясь на античных источниках, утверждают, что после Каспийских ворот путь Александра пролегал через Гирканию, Парфию, Арианну, Согдиану, Бактрию и Индию в Вавилон (рис. 15), где он скоропостижно скончался в 223 году до н. э. Согласно поэтической традиции, Александр «после Дария» пошел на запад и посетил Каабу, затем завоевал Дербент, посетил Рей и Хорасан, после чего пошел в Индию, оттуда в Китай, затем через кыпчакскую степь прибыл в область русов, с которыми долго и напряженно воевал и лишь чудом победил. После этого он пошел в страну Мрака, где построил стену против библейских гогов и магогов, и наконец вернулся в Рум.
Возникает вопрос: кому верить – историкам или поэтам? Обычно такой вопрос даже не ставится, ведь очевидно, что верить надо правдивым историкам, а не поэтам, которые ради красного словца якобы врут напропалую. Академик востоковед И. Ю. Крачковский, правда, призывал к большему доверию по отношению к незаслуженно обижаемым поэтам, утверждая, что в средневековых поэтических традициях цветистость оформления текста ни в коей мере не нарушала его правдивости. В силу универсальности знания того времени поэты так же, как историки, изучали источники и не отступали от истины ни на шаг. Персидский поэт рубежа XII–XIII вв. Низами Гянджеви в поэме «Искендер-наме» [41] так подчеркивал эту мысль:
Ясность мысли моей – от источника знанья.
Все науки познав, я добился признанья.
Наличие двух точек зрения, высказываемых разными науками, в частности филологией и историей, знаменует собой наличие междисциплинарной проблемы, для разрешения которой необходимо привлечение третьей стороны – третейский суд. Таким третейским судьей призвана быть наука география. И география со всей решительностью подтверждает правоту поэтов в споре с историками.
Восточный поход в освещении Низами
О Восточном походе Александра писали персидский и таджикский поэт Фирдоуси (около 940–1020 или 1030) в поэме «Шах-наме», азербайджанский поэт Низами Гянджеви (ок. 1141 – ок. 1209) в поэме «Искендер-наме», Дехлави, узбекский поэт Алишер Навои (1441–1501) в поэме «Искандерова стена», таджикский поэт Абдуррахман Джами (1414–1492) в цикле поэм «Семь корон». Ювенал, наверное, первым из поэтов, утверждал, что Александр доходил до крайнего моря, где было неподвижное (застывшее) море, окутанное вечной тьмой (то есть царила полярная ночь).
После взятия Фарса, пишет Навои:
И знамением счастья озарен,
В поход на Север устремился он.
И цепи гор пустынных увидал…
Вернулся и Хорезм завоевал,
Даря, как солнце, милостью своей
Простор кипчакских пастбищ и степей.
И он в трудах походных не ослаб,
Прошел через Саксин, через Саклаб.
Прошел он стороною Ос и Рус
И с ними дружбы заключил союз.
И гурджей и чаркасов посетил,
И гурджей и чаркасов покорил.
От Севера, где древних рек исток,
Он с войском устремился на Восток
[5, с. 610–611].
Мы видим, что Навои недвусмысленно упоминает путь Искандера на север, упоминает кипчакские степи и землю русов, с которыми он заключил союз дружбы.
Из восточных поэтов наиболее полно поход Александра осветил Низами Гянджеви в поэме «Искендер-наме» [41]. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать оглавление к этой поэме. После смерти Дария:
Искендер завоевывает Дербентский замок при помощи молитвы отшельника.
Искендер направляется в замок Сарир.
Искендер направляется в Индию.
Поход Искендера из Индии в Китай.
Пребывание Искендера в Китае.
Китайский хакан принимает у себя Искендера.
После возвращения Искендера из Китая.
Искендер прибывает в Кыпчакскую степь.
Прибытие Искендера в область русов.
Искендер вступает в боренье с племенами русов.
Кинтал-рус поражает гилянского вождя Зериванда.
Дувал бросается в бой.
Появление неизвестного всадника.
Второе появление неизвестного всадника.
Русы выпускают в бой неведомое существо.
Искендер действует арканом. Необычайный пленник приносит Искендеру Нистандарджихан.
Последнее сражение Искендера с племенами русов.
Освобождение Нушабе и примирение Искендера с Кинталом.
Повествование о живой воде.
Искендер проникает в страну Мрака.
Искендер узнает о таинственном городе.
Начало нового странствования Искендера по свету и сетования Низами.
Вторичный поход Искендера в Индию и Китай.
Странствования по Китайскому морю. Город в пустыне.
Прибытие Искендера в северные пределы и постройка вала, ограждающего от народа яджудж.
Из оглавления видно, что после Индии Александр был в Китае, после Китая посетил Кыпчакскую степь, оттуда прибыл в страну русов. С русами он долго и многотрудно воевал, у Низами этой войне посвящено вдвое больше страниц, чем войне с Дарием. После примирения с русами Александр посещает страну Мрака и ищет живую воду. Удивляют главы «Вторичный поход Искендера в Индию и Китай» и «Странствования по Китайскому морю», ведь о вторичном посещении Александром Индии мы ничего не слышали. Что касается Китайского моря, то странствование по нему означает выход в Северный Ледовитый океан, поскольку Китайским морем арабские географы называли акваторию Карского моря. Заканчивается поэма эпизодом строительства Искендером вала против народа яджудж.
Несколько выдержек из Низами. О кипчаках:
Царь на русов спешил и в своих переходах
Ни на суше покоя не знал, ни на водах.
Не смыкал он очей – и, огнем обуян,
Пересек он широкие степи славян.
Там кыпчакских племен увидал он немало,
Там лицо милых жен серебром заблистало.
Были пламенны жены и были нежны,
Были солнцем они и подобьем луны.
Узкоглазые куколки сладостным ликом
И для ангелов были б соблазном великим.
Что мужья им и братья! Вся прелесть их лиц
Без покрова – доступность открытых страниц.
И безбрачное войско душой изнывало,
Видя нежных, не знавших, что есть покрывало.
И вскипел в юных душах мучительный жар,
И объял всех бойцов нетерпенья пожар.
О войне с русами:
Мир стал пышным павлином от румских знамен,
К стану русов был царский шатер обращен.
Стало ведомо русам, воинственным, смелым,
Что пришел румский царь к их обширным пределам…
Это – царь Искендер, и свиреп он, и смел!
В сердце мира стрелой он ударить сумел…
И, когда предводитель всех русов – Кинтал
Пред веленьями звезд неизбежными встал,
Он семи племенам быть в указанном месте
Приказал и убрал их, подобно невесте.
И хазранов, буртасов, аланов притек,
Словно бурное море, безмерный поток.
От владений Ису до кыпчакских владений
Степь оделась в кольчуги, в сверканья их звений.
В бесконечность, казалось, все войско течет,
И нельзя разузнать его точный подсчет.
«Девятьсот видим тысяч, – промолвил в докладе
Счетчик войска, – в одном только русском отряде»…
И когда черный мрак отошел от очей,
С двух сторон засверкали два взгорья мечей.
Это шли не войска – два раскинулись моря.
Войско каждое шло, мощью с недругом споря.
Шли на бой – страшный бой тех далеких времен.
И клубились над ними шелка их знамен…
Краснолицые русы сверкали. Они
Так сверкали, как магов сверкают огни.
Хазранийцы – направо, буртасов же слева
Ясно слышались возгласы, полные гнева.
Были с крыльев исуйцы; предвестьем беды
Замыкали все войско аланов ряды.
Посреди встали русы. Сурова их дума:
Им, как видно, не любо владычество Рума!
С двух враждебных сторон копий вскинулся лес,
Будто остов земли поднялся до небес…
Долго в схватке никто стать счастливым не мог,
Долго счастье ничье сбито не было с ног…
Кто бесстрашен, коль с ним ратоборствует рус? —
вопрошает Низами, оправдывая то, что Александр Великий дрогнул.
Схвачен страхом —
ведь рок стал к войскам его строгим,
И румийцам полечь суждено будет многим, —
Молвил мудрому тот, кто был горд и велик:
«От меня мое счастье отводит свой лик.
Лишь невзгоды пошлет мне рука небосвода.
Для чего я тяжелого жаждал похода!
Если беды на мир свой направят набег,
Даже баловни мира отпрянут от нег.
Мой окончен поход! Начат был он задаром!
Ведь в году только раз лев становится ярым.
Мне походы невмочь! Мне постыли они!
И в походе на Рус мои кончатся дни!».
После этих строк как-то неубедительно выглядит «поэтическая победа» Александра:
Искендер новой славой увенчанным стал,
Испытал пораженье могучий Кинтал.
И когда от вина цвета розы вспотели
Розы царских ланит и в росе заблестели,
Шаха русов позвал вождь всех воинских сил
И на месте почетном его усадил.
Вдел он в ухо Кинтала серьгу. «Миновала, —
Он сказал, – наша распря; ценю я Кинтала».
Пленных всех он избавить велел от оков
И, призвав, одарил; был всегда он таков
В одиночку ли тешиться счастьем и миром!
[41, с. 362–422]
На севере к Александру за помощью обратились местные племена:
«Милосердный и щедрый, будь милостив к нам —
К просветленным своим и покорным сынам.
За грядой этих гор, за грядою высокой
Страшный край растянулся равниной широкой.
Там народ по названью Яджудж. Словно мы,
Он породы людской, но исчадием тьмы
Ты сочтешь его сам. Словно волки когтисты
Эти дивы; свирепы они и плечисты.
Их тела в волосах от макушки до пят
Все лицо в волосах. Эти джинны вопят
И рычат, рвут зубами и режут клыками.
Их косматые лапы не схожи с руками.
На врагов они толпами яростно мчат.
Их алмазные когти пронзают булат.
Только спят да едят сонмы всех этих злобных.
Каждый тысячу там порождает подобных…
Царь, яджуджи на нас нападают порой.
Грабит наши жилища их яростный рой.
Угоняет овец пышнорунного стада,
Всю сжирают еду. Нет с клыкастыми слада!
Хоть бегут от волков без оглядки стада,
Их пугает сильней эта песья орда.
Чтоб избегнуть их гнета, их лютой расправы,
Убиенья, угона в их дикие травы,
Словно птицы, от зверя взлетевшие ввысь,
На гранит этих гор мы от них взобрались.
Нету сил у безмозглого злого народа
Ввысь взобраться. Но вот твоего мы прихода
Дождались. Отврати от покорных напасть!
Дай, о царь, пред тобой с благодарностью пасть!»
И, проведав, что лапы любого яджуджа
Опрокинут слонов многомощного Уджа,
Царь воздвиг свой железный, невиданный вал,
Чтоб до Судного дня он в веках пребывал…
[41, с. 661–663].
Впрочем, о строительстве железной стены против яджуджей и маджуджей лучше написал Фирдоуси:
На гору взглянуть повелитель пришел,
Владеющих знаньем с собою привел.
Доставить велит венценосный мудрец
Тяжелые молоты, медь и свинец,
И гяджа, и леса, и камня – всего,
Что нужно для замыслов смелых его.
И вот в изобилии все припасли,
И промыслы в должную ясность пришли.
Клич брошен повсюду, и с разных сторон
Все те, кто в работах таких искушен:
Кузнец, камнетес, что сноровкой богат, —
На помощь деянью благому спешат.
Собравшись, умельцы за дело взялись,
И вскоре две мощных стены поднялись.
Сравнялись с горою они вышиной
И в добрых сто рашей они толщиной.
Слой в локоть железа, слой угля над ним,
Заложена медь меж одним и другим,
И сера слоями под каждым лежит —
Ум царский нередко находкой дивит!
Вот так слой за слоем росли две стены,
И вскоре горе они стали равны…
Нефть с маслом смешать поспешили затем
И стены той смесью облили затем.
И нового угля меж тем подвезли,
На стены насыпали и подожгли.
Немедля владыка зовет кузнецов,
Огонь раздувают в сто тысяч мехов;
Их шум устрашающий слышен в горах
И пламенем звезды повергнуты в страх.
Немалое время работают в лад,
И стены все жарче и жарче горят.
За медью железа расплавился слой,
Смешались и сплавились между собой.
От страшных Яджуджей-Маджуджей страна
Отныне на веки веков спасена.
Весь край Искандеровой славной стеной
Был так огражден от напасти лихой…
[66, с. 69–70]
Согласно Восточной традиции, Александр в конце маршрута вышел в море и посетил Гиперборею. В «Романе об Александре Македонском» по русской рукописи XV века, называемом «Сербской Александрией», об этом говорится совершенно однозначно: «И покидая их, спросил: „Что впереди находится?“. Они ответили: „Ничего иного, кроме Макарийских островов в океан-море, где люди блаженные живут, которые называются нагомудрецами, так как совлекли с себя все страсти“» [3, с. 108]. «И дошли до Океана-реки, и увидели острова блаженных, которые отстояли от берега на двадцать поприщ…
Когда Александр пошел вглубь острова, один из блаженных встретил его и сказал: „…Иди в глубину острова, и приведу тебя к старейшине нашему, Иванту, он и расскажет тебе все о жизни твоей и о смерти твоей, и обо всех других поведает тебе правду“ …И сказал ему Александр: „Радуйся, Ивант, учитель рахманский… Расскажи мне, что находится впереди“. Рассказал ему Ивант: „Море это, в котором находятся многочисленные острова наши, называется Океан, и всю землю он омывает, и все реки впадают в него. По ту сторону его гора, которую ты видишь, плодами различными украшена, она у вас Эдемом зовется, тут господь бог Саваоф, землю сотворив, рай создал, на востоке, в Эдеме, и тут поселил Адама, праотца нашего“» [3, с. 109, 111].
Для древних греков и римлян острова Блаженных служили синонимом Гипербореи, в которой в сферическом храме хранились величайшие знания, накопленные с глубочайшей древности. Историк и географ I в. до н. э. Диодор Сицилийский писал, что некоторые греки посещали этот таинственный храм и оставляли в нем богатые дары с эллинскими надписями. Жрецы в этом храме все свое время посвящали занятиям литературой, естествознанием и философией. Один из героев Плутарха сообщил, что приобрел там «столь большие познания в астрономии, до каких только может дойти человек, изучавший астрономию».
Античные источники
На какие же источники опирается историческая наука? Известно, что многие ветераны Восточного похода оформили свои воспоминания в виде мемуаров. Прежде всего, необходимо упомянуть племянника Аристотеля Каллисфена, принимавшего участие в походе в качестве придворного историографа. Свои сообщения, основывавшиеся на военных отчетах штаба, он посылал в Грецию небольшими частями по мере их написания; там они сразу же выходили в виде отдельных книг. Каллисфен успел описать поход лишь до боев на Яксарте, позже был осужден как заговорщик и скончался в застенке.
Записки о виденном и слышанном оставили, прежде всего, царский телохранитель и полководец Птолемей, сын Лага, будущий царь Египта, флотоводец Неарх, архитектор Аристобул из Кассандрии, царский кормчий Онесикрит и распорядитель двора Харет из Митилены. Кроме них Плутарх упоминает такие имена авторов мемуаров: Аристоксен, Поликтит, Антиген, Истр, Антиклид, Филон Фиванский, Филипп из Теангелы, Гекатей Эретрийский, Филипп Халкидский и Дурид Самосский. В распоряжении некоторых из этих авторов имелись дневники похода (эфемериды) и многочисленные письма самого Александра и участников похода.
К сожалению, ни одна из работ перечисленных авторов не сохранилась до нашего времени. Они известны потомкам в пересказах более поздних историков. Сохранились пять основных античных исторических произведений об Александре. Наиболее раннее (I в. до н. э.) принадлежит Диодору Сицилийскому, это «Историческая библиотека» в 40 книгах. XVII книга целиком посвящена походу Александра [23]. Известный английский исследователь В. Тарн высказал предположение, что Диодор кроме Аристобула, Неарха и Онесикрита опирался на какое-то анонимное сочинение грека, служившего наемником в персидском войске.
На рубеже нашей эры, во времена Августа, Помпей Трог также составил обширное сочинение по всеобщей истории в 44 книгах. Оно сохранилось в кратком изложении, принадлежащем писателю II или III в. Марку Юниану Юстину. В XI и XII книгах содержится история Александра [75].
Особым доверием современных историков пользуется Флавий Арриан, живший во II в. Считается, что Арриан следовал древним образцам классической греческой историографии, подражая при этом знаменитому «Анабасису» Ксенофонта, опирался на Птолемея и Аристобула и стремился дать объективное и выверенное изложение фактов [8].
Плутарх писал во II в., но не исторический труд, а биографию Александра. Он подчеркивал, что «ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями».
На латинском языке единственное сохранившееся литературное произведение принадлежит Квинту Курцию Руфу (I в.) [30, 31, 32]. Оно соединяет в себе особенности как исторического, так и биографического жанра. В качестве источников Курций Руф упоминает Птолемея, Клитарха и Тимегена (Тимеген – александрийский грек времен Августа).
«Суммируя все сказанное, надо признать, что, несмотря на отрывочность находящихся в нашем распоряжении источников, до нас все же дошло достаточно сведений об Александре. Благодаря тем произведениям, которые дошли до нас, мы имеем возможность проследить поход Александра во всех подробностях» [70, с. 99]. При этом Шахермайр признается: «нашим основным источником, относящимся ко времени императоров, является „Анабасис“ Арриана».
Еще при жизни соратников Александра Птолемея и Аристобула, одновременно с написанием ими своих мемуаров, в Александрии появился труд Клитарха «Об Александре» в 12 книгах. Отец Клитарха Динон был сочинителем персидской истории, что служит объяснением взгляду Клитарха на события как бы с персидской стороны, поскольку он нередко путает правый и левый фланги. Судя по отзывам древних писателей, книга Клитарха была более похожа на роман, чем на строгое историческое повествование. Считается, что в ней было много фантастического. Слабым местом работы Клитарха является то, что он не был непосредственным участником похода. Но достоинство его книги состоит в том, что она суммировала устные рассказы ветеранов. Десятки тысяч участников похода принесли в Александрию, Грецию и Македонию знания о восточных странах, в которых они побывали. Их рассказы несли мало информации о диспозиции войск, но подробно характеризовали климат, орографию, особенности жилищ и быта восточных народов. Именно в рассказах ветеранов ярко характеризовались лютые морозы и глубокие снега на Инде, отсутствие дневного света в «Стране Мрака» и бесконечные трудности войны с народом, который греки называли спорами или порами. Именно устные рассказы лежат в основе поэтической традиции, противостоящей позиции историков.
Критика Арриана
Историки поделили античных авторов на серьезных и несерьезных. Самый серьезный для них Арриан, ему вполне можно доверять. Самый несерьезный для историков – Квинт Курций Руф – якобы привирает напропалую.
Я берусь доказать, что Арриану нельзя доверять в самом главном – в последовательности изложения событий.
Все исследователи Восточного похода Александра признают, что знаковым событием в его ходе было убийство Клита. О нем пишут Арриан, Плутарх, Юстин, Курций Руф.
Клит, по прозвищу «Черный», был известным военачальником, он служил еще отцу Александра Филиппу. Его сестра Ланика была кормилицей Александра, говорят, он ее очень любил. Клит командовал царской илой (царским кавалерийским эскадроном) и поэтому в бою почти всегда сражался рядом с Александром. В битве при Гранике он спас жизнь Александру: «на македонского царя сзади наскочил с кинжалом Спитридат, но подоспевший Клит отрубил персу правую руку» [15, с. 119].
Весной 328 г. до н. э. на пиру в честь бога Диониса в Самарканде Александр собственноручно по пьяному делу убил Клита. Клит только что получил повышение – был назначен сатрапом Бактрии. Возможно, он этим «повышением» был крайне недоволен, так как отлучался от армии. Возможно, он, как и многие другие македоняне, был недоволен тем, что Александр все более делался восточным деспотом, отдаляясь от друзей, где все были равны, и от македонской и греческой демократии. Так или иначе, но, когда на пиру греки начали подшучивать над македонским корпусом, потерпевшим поражение при Политимете, Клит счел необходимым защитить честь погибших товарищей. Курций Руф так описывает это событие: «Недостойно во вражеской стране, среди варваров смеяться над македонянами, которые и в беде выше греческих шутов». Александр поспешил уязвить Клита: «Сам себя изобличает тот, кто называет трусость бедой». Клит возразил: «Не этой ли трусости, отпрыск богов, обязан ты своим спасением в тот час, когда ты уже повернулся спиной к персидским мечам? Только кровь македонян и эти вот рубцы сделали тебя, Александр, тем, чем ты являешься сейчас, когда напрашиваешься в сыновья Аммону и отрекаешься от твоего отца Филиппа. Царю, конечно, незачем стесняться, пусть он говорит, что вздумается, но пусть знает, что не стоит ему приглашать к своему столу свободных и привыкших к свободным речам людей. Ему лучше жить среди варваров и рабов, которые будут падать ниц перед его персидским поясом и персидской одеждой».
Слово за слово, ссора все круче, царь метнул в Клита яблоко, потянулся за кинжалом. Приближенные убрали его, тогда Александр приказал трубачу дать сигнал общей тревоги. Тот медлил, Александр бросился его избивать. Тем временем друзья увели Клита от греха подальше, но пьяному море по колено, и Клит вернулся через другой вход. Тогда Александр выхватил копье у стражника и пронзил им Клита.
Говорят, Александр сильно переживал собственноручное убийство близкого человека, даже хотел уколоться тем же копьем. Три дня ничего не ел и не показывался из своей палатки. Диодор, правда, по-иному показывает Александра в этой позорной для него ситуации. Но я хочу высветить совсем другой аспект этого события. Дело в том, что «убитый» Клит отправился вместе с Александром в Индию, участвовал там в боевых действиях в качестве командира царского эскадрона, и Арриан трижды упоминает его в своем дальнейшем повествовании. Вот эти цитаты: «Из Бактрии в конце весны (327 года. – Н. Н.) Александр с войском пошел на индов. Переправившись за десять дней через Кавказ, он пришел в Александрию, город, основанный им в земле паропамисадов во время его первого похода в Бактрию… затем он повернул к Кофену… Тут он разделил свое войско: Гефестиона и Пердикку он послал в землю певкелаотов, к реке Инду, дав им отряды Горгия, Клита и Мелеагра…» [8, IV, 3, 5, 7]
Готовясь к битве при Гидаспе с индийским царем Пором (начало лета 326 г. до н. э.), «Александр отобрал с собой агему „друзей“, гиппархию Гефестиона, Пердикки и Деметрия, конных бактрийцев, согдиан и скифов, даев, верховых лучников, щитоносцев из фаланги, отряды Клита и Кена, лучников и агриан и тайком пошел с ними далекой от берега дорогой, чтобы незаметно добраться до острова и до горы, откуда он решил переправляться» [8, V, 12, 2].
На Гидаспе же, близ устья Акесина, воюя с независимым индийским племенем маллов, Александр вновь использует Клита: «Как только пехота подошла, он отправил Пердикку с его гиппархией, гиппархией Клита и с агрианами к другому городу маллов, куда сбежалось множество местных индов» [8, VI, 6, 4].
В приведенных цитатах Клит упоминается как командир конного отряда (гиппархия – это конница), более того, при Гидаспе Клит находится рядом с царем, как начальник царского эскадрона. Нет сомнения, что это «тот самый Клит».
Другие античные авторы, в частности Юстин, также упоминали того самого Клита в числе живых и здоровых «после Самарканда» и после возвращения с Инда. «Александр уволил со службы еще 11 тысяч ветеранов. Из друзей Александра получили увольнение старики: Полиперхонт, Клит, Горгий, Полидам, Аммад, Антиген. Во главе уволенных был поставлен Кратер, которому было приказано управлять македонянами вместо Антипатра, а Антипатра Александр вызвал к себе на место Кратера с пополнением из новобранцев. Возвращающимся на родину было положено такое же жалованье, как и находящимся в действующей армии. Пока все это происходило, умер один из друзей Александра – Гефестион» [75, XII, 12, 5–11]. Как известно, Гефестион умер в 324 г. до н. э. в Экбатанах.
Поскольку убитый ранее Клит не мог принимать участие в индийском походе, мы можем сделать обоснованный вывод: последовательность событий у Арриана безбожно перепутана. На самом деле Александр после сплава по Инду и боев с индийцами на этой реке заходил в Самарканд, где и убил Клита (если он осуществил это злодейство именно в Самарканде). Кстати, Клит и сорвался, возможно, потому, что все войско готовилось к возвращению на родину, а ему Александр уготовил должность сатрапа на чужбине. Вот всегда уравновешенный старый воин и не выдержал. Да и у Александра нервы были на пределе, ведь он только что погубил цвет своего войска – три его четверти.
Но это все психология. А как же относиться к Арриану? Да и к другим античным авторам? Ответ прост: относиться с предельной осторожностью, поскольку нарушено самое главное – последовательность событий.
Арриан и сам признается, что ему все равно, где и когда происходили те или иные события: «Тут, мне кажется, не следует умолчать об одном прекраснейшем поступке Александра, все равно, был ли совершен он здесь или еще раньше в земле паропамисадов, как рассказывают некоторые. Войско шло по песку среди палящего зноя; надо было дойти до воды, а идти было далеко. Александр, томимый жаждой, с великим трудом шел впереди войска пешком, как и остальные солдаты: легче ведь переносить трудности, если все страдают одинаково. В это время несколько вооруженных солдат, ушедших в поисках воды от войска в сторону, нашли в неглубоком овраге маленькую лужу с застоявшейся и плохой водой. Без труда набрав ее, они поспешили к Александру, неся ее как подлинное сокровище. Вблизи от него они перелили эту воду в шлем и поднесли ее Александру. Он взял ее, поблагодарил принесших и вылил воду на глазах у всех. Это придало войску столько сил, словно вода, вылитая Александром, оказалась питьем для всех» [8, VI, 1–3].
Но ведь если столь небрежно компоновать эпизоды, можно получить любую последовательность, какая заблагорассудится. Так, по-видимому, и была написана каноническая история индийской части Восточного похода Александра.
Предельно четко описывая диспозиции войск в сражениях, победительную тактику Александра, детальные цифры потерь, Арриан крайне небрежен в географических описаниях. Достаточно сказать, что более чем двух тысячекилометровый путь от Гиркании до Инда занимает у него абзац в шесть строк, два-три упоминания покоренных перед этим народов буквально одним словом. Так он упоминает ариев, зарангов и аримаспов, а весь остальной довольно объемный текст посвящает описанию наказания заговорщиков. «Покончив с этим, он пошел в Бактрию на Бесса, подчинив себе по пути дрангов и гадросов. Подчинил он и арахотов; сатрапом же у них поставил Менона. Он дошел до земли индов, живущих по соседству с арахотами». И далее совершенно меланхолически Арриан добавляет: «Войско истомилось, проходя по этим землям: лежал глубокий снег и не хватало еды» [8, III, 28, 1].
Напоминаю, что это была зима 330/329 гг. до н. э. Согласно общепризнанной версии истории Александра, до похода на Индию оставалось еще два года. И Арриан в последующем тексте делает вид, что Александр на Инде еще не был. Но проговаривается Курций Руф, предоставляя слово самому Александру перед штурмом Согдийской скалы в 328 г до н. э.
Воодушевляя своих воинов перед броском на скалу, Александр напоминает им о совместных победах и преодоленных трудностях похода. В числе трудностей он говорит о холодах Индии. Тем самым он недвусмысленно заявляет, что и он сам, и его войско в Индии уже были: «Царь усмирил и остальные области. Оставалась одна скала, занятая согдийцем Аримазом с 30 000 воинов, собравших туда заранее продовольствие, которого бы хватило для такого числа людей на целых два года. Скала поднимается в вышину на 30, а в окружности имеет 150 стадиев. Отовсюду она обрывистая и крутая, для подъема есть лишь очень узкая тропа. На половине высоты есть в ней пещера с узким и темным входом; затем он постепенно расширяется, а в глубине имеется обширное убежище. Почти повсюду в пещере выступают источники, воды которых, соединившись, текут потоком по горным склонам. Царь, увидев неприступность этого места, сначала решил оттуда уйти; однако затем в нем загорелась страсть преодолеть и природу. Прежде чем испытать случайности осады, он послал к варварам сына Артабаза Кофа предложить им сдать скалу. Ответ Аримаза, который полагался на свою позицию, был полон дерзких слов, под конец он даже спрашивает, не умеет ли Александр летать. Эти слова, переданные царю, столь задели его за живое, что, созвав лиц, с которыми он обычно совещался, он сообщает им о дерзости варвара, насмехающегося над тем, что у них нет крыльев; он добавил, что в ближайшую ночь он заставит Аримаза поверить, что македонцы умеют и летать. „Приведите ко мне, – сказал он, – каждый из своего отряда, триста самых ловких юношей, которые привыкли дома гонять стада по тропам и непроходимым скалам“. Те быстро привели к нему юношей, отличавшихся ловкостью и энергией. Царь, глядя на них, сказал: „С вами, юноши и мои сверстники, я преодолел укрепления прежде непобедимых городов, прошел через горные хребты, заваленные вечным снегом, проник в теснины Киликии, претерпел, не поддаваясь усталости, холода Индии“» [31, 6, 11, 1–8].
Кроме того, Арриан «грешен» тем, что подчас совершенно недвусмысленно смотрит на Индию с востока. Так в своем труде, специально посвященном Индии, он говорит: «Местности за рекой Индом к западу, вплоть до реки Кофена, заселяют индийские племена астакены и ассакены. Но они ростом не так велики, как те, которые живут по сю сторону Инда… В стране ассакенов есть большой город Массака, где сосредотачивается и все управление этой ассакийской землей. Есть и другой город Пейкелатис, тоже большой, расположенный неподалеку от Инда. Вот кто живет по ту сторону Инда, к западу, вплоть до реки Кофен» [7, с. 230–263].