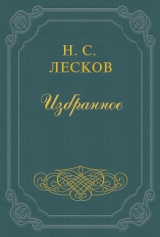
Текст книги "Рассказы кстати (Цикл)"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Глава одиннадцатая
Между тем отплывшие под митрополичьим флагом суда совершали свой ход так весело и благополучно, что это навсегда оставило самое приятное впечатление во всех соучастниках эскадры. Погода стояла прекрасная; солнце горело на небе, воздух был тих и тепел, невозмутимая гладь вод блистала как зеркало. Везде, на встречных судах и по берегам реки, все замечались оживленные и веселые лица. Некоторые были даже очень веселы. В последнем роде отличалась публика, помещавшаяся на палубе небольшого частного парохода, который отвалил от другой петербургской пристани почти одновременно с эскадрою митрополита и, нагнав ее, шел за нею очень в небольшом расстоянии.
На этом пароходе было много кавалеров и дам: оттуда слышались звуки музыки, смех разных голосов и смешанный русский и иностранный говор.
Появление этого парохода с веселыми пассажирами было неожиданностию для митрополита и его спутников, и им удалось разгадать эту неожиданность только в Шлиссельбурге, где пароходы, прежде чем войти в озеро, пристали на короткое время, чтобы дать возможность пассажирам поклониться чудотворному образу, находящемуся в прибрежной часовне.
Оказалось, что это едет очень интересная компания милых и веселых людей, состоящая по преимуществу из французских и русских артистов и художников, тоже собравшихся полюбоваться красотами Валаама. Пришелся ли выезд их случайно в одно время с отплытием митрополита, или они, быть может, нарочно старались увидать монастырский остров, когда там будут встречать высшего церковного сановника, – это осталось неизвестным. Одни говорили так, а другие иначе; но высокопреосвященный Никанор, чувствовавший себя тоже в прекрасном расположении, слушая сообщение об этом, не обнаружил ни малейшего неудовольствия и сказал:
– Господь с ними! они нам не мешают.
Услыхав такой снисходительный отзыв от владыки, некоторые из его свиты, заметившие в числе артистов известного комика Мартынова, сделали было даже предложение пригласить его в Шлиссельбурге пересесть с частного парохода на казенный пароход митрополита, но высокопреосвященный Никанор улыбнулся и отвечал:
– Нет. Зачем его отрывать от своих. Всякому в своей компании свойственнее. Не станем мешать друг другу.
Пароходы вошли в озеро и, держась одного фарватера, опять пошли на виду и на слуху один у другого. Пассажиры их как будто не обращали друг на друга никакого внимания; но, однако, тем не менее, с обеих сторон можно было наблюдать взаимную деликатность. Несходные по своему положению путники старались ничем не стеснять одни других: митрополит не выходил на палубу, а сидел у открытого окна в рубке, а по другую сторону этого окна, против него, сидели на морских складных табуретах Брянчанинов и китайский Аввакум. Преосвященный и его спутники вели самые веселые и оживленные беседы. «Лицедеи» пели и шутили, но сдержанно; они, очевидно, старались умерять свое веселье, чтобы оно не очень доходило до подвижного монастыря.
Тотчас по входе в Ладожское озеро начался обед, который был отдельно сервирован для мирян и для монахов. Для первых готовили обыкновенные морские «кохи», а для митрополита и его свиты изготовлял трапезу тот знаменитый в свое время православный чухонец Сергий, кулинарными способностями которого скромно щеголял Игнатий Брянчанинов.
Тот, кто хотел быть «говейным» и, отказавшись от скоромной стряпни «кохов», присоединился к постной трапезе иноков, – был положительно в выигрыше, потому что отец Сергий на воде даже превзошел свою репутацию, составившуюся на суше. Впрочем, может быть, этому много помогал и свежий морской воздух, развивающий аппетит и поддерживающий легкое расположение духа.
Затем солнце стало склоняться к западу, пошло вечереть; с частного парохода порывами легкого ветерка доносилось отрывками стройное пение. Митрополит опять сидел у открытого окна рубки, а Брянчанинов долго-долго глядел молча вдаль и вдруг, как бы забывшись, забредил стихами Пушкина, которых знал наизусть чрезвычайно много…
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И плеск, и тень, и говор волн.
Владыка и Аввакум не прервали его; поникнув головами, они его тихо слушали… Протодиакон Виктор стоял у косяка, опершись головою о локоть, и тоже слушал… Его простое внимание было своего рода «народная тропа» к могиле певца. Вечер густел. На беловатом летнем северном небе встала бледная луна; вдалеке слева, на финляндском берегу, заяц затопил листвой печку, и туман, как дымок, слегка пополз по гладкому озеру, а вправо, далеко-далеко, начал чуть зримо обозначаться над водой Коневец.
Митрополит взглянул на часы и сказал:
– Мы опоздали ко всенощной.
– Мы сейчас споем ее здесь, владыко! – отозвался Виктор, и в одну минуту достал и подал где-то близко у него под рукою лежавшую эпитрахиль Брянчанинову. Отец Игнатий сейчас же ее надел и громко, вслух благословил царство вездесущего бога под открытым куполом его нерукотворного храма…
Виктор читал и пел наизусть. Аввакум пел с ним. Митрополит стоял у окна с сложенными на груди руками и молился… Другие, кто попал на эту отпетую без книг вечерню, стали на колена, – некоторые плакали…
О чем и для чего? – ведает гот, кому угодно было, чтобы «благоухала эфирною душою роза» и чтобы душа находила порою отраду и счастье омыться слезою.
Это была не всенощная, не вечерня, а какое-то вольное соединение того и другого или, еще вернее сказать, – это был благоговейный порыв высоко настроивших себя душ, которому знаток богослужения Виктор вдруг сымпровизировал молитвенную форму.
На пароходе было небольшое число взятых с собою митрополитом певчих, но их не позвали. Они бы, выстроившись с регентом, не так тепло воспели «славу в вышних Богу», как спели ее втроем «китаец», Виктор и Брянчанинов…
К концу их молений пароход был завиден с Коневца, и по волнам озера поплыл навстречу путникам приветный звон…
На частном пароходе, где плыли артисты, все было тихо: пароход держался близко к судну митрополита, и артисты – дамы и мужчины – стояли у борта и… тоже молились…
Те, кто помнят описанное путешествие, никогда не говорили об этой минуте иначе, как с чувством живого восторга…
Глава двенадцатая
Ночевали у Коневца. Митрополит и более высокие из лиц его свиты почивали в помещениях монастыря (тогда еще очень не обширных), а все прочие ночевали где пришлось на своих судах. Пассажиры частного парохода все остались на судне, которому, вдобавок, и вполне удобного места для стоянки не было, так как у пристани стали военные пароходы под митрополичьим флагом.
Да экипаж частного парохода так преисполнился деликатностию, что и сам сторонился от митрополичьих судов, и на другой день утром снялся от Коневца и ушел в море ранее казенных пароходов.
На Валаам артисты прибыли за час или за полтора ранее прихода эскадры митрополита. Над артистами здесь шутили, что они, вероятно, пошли вперед, чтобы известить иноков о приближении именитого гостя, или поспешили, чтобы занять под себя помещения, а свиту владыки оставить без крова. Но в самом деле это было не так: артисты действительно укрывались, чтобы не стеснять своим появлением лиц, положение и настроение которых не могло отвечать их положению и их настроению. Ими не руководили никакие другие соображения, кроме тонкой деликатности, столь много свойственной женщинам французской крови, которых было много в этой артистической компании, и они своим мягким влиянием давали тон всей группе. Они не хотели отказаться от возможности осмотреть Валаам, для чего выехали большою компанией после больших и довольно сложных сборов, но хотели сделать это как можно незаметнее для настигших их внезапно попутчиков, и для этого как можно скорее стушеваться и, если можно, совсем скрыться с их глаз.
На пароходе под митрополичьим флагом ими теперь тоже не занимались, потому что свежее впечатление, охватившее всех вчера в начале плавания, теперь уже притупело после ночи, не совсем удобно проведенной в коневецких помещениях; да и притом, в конце перехода к Валааму, с большою серьезностью надо было обдумать, что там надо посмотреть и что приспособить на случай предвиденной графом Протасовым возможности посещения острова государем.
Вообще настроение изменялось тут и там и не располагало более путешественников к шуткам.
На остров они прибыли, как я выше сказал, за час до парохода под митрополичьим флагом и застали тут совсем неблагоприятное для них положение: для них не было ни места, ни людей, которые бы имели время с ними заниматься, и если артисты съехались с митрополитом не случайно, а с расчетом видеть остров в минуты торжественной встречи высокого гостя, то этот расчет их выходил самым неудачным. Валаамская братия была более чем когда-нибудь усиленно погружена в деятельность, которую можно было замечать далеко с моря. Прежде чем нога путника становилась на берег, он видел, что зеленые острова усеяны иноками и послушниками в их белых холщовых кафтанах и таких же колпачках, и все они, не покладая рук, «ворошили» и гребли свежее, скошенное сено.
При приближении частного парохода, они было остановились, опершись на свои вилы и грабли, но точно получили издали условный, побудительный знак и опять продолжали работать. Но зато, когда вслед затем в заливе показался митрополичий флаг и на колокольне раздался встречный звон, все эти «трудники» покидали на месте свои вилы и грабли и, бросив недокопненное сено в валах, бросились бегом к пристани, опережая друг друга, чтобы принять благословение и поцеловать руку любимого архипастыря.
Увидав эту картину – сбегающих с гор иноков, артисты, остававшиеся до сих пор беспристанными, поняли, что им тут и ждать нечего, и, как не в пору пришедшие гости, они ушли в дальние части лесистого острова и, пробродивши ночь, уехали на другое утро рано, когда братия еще молилась за заутренею в храме.
Впрочем, когда и как отплыли артисты, на это не обращали внимания и об этом и не говорили, потому что у каждого было много дела, а к тому же еще случился обративший на себя внимание необыкновенный случай: недокопненное вчера вечером сено было так и брошено в рядах на ночь, но утром оно оказалось все сгребено и сметано в копны…
Это было на виду у всех; никакой фальши или сомнения тут быть не могло: уснули – сено оставалось в валах, а когда встали – сено было в копнах…
Мало того, два брата-трудника, «производившие смолу» или гнавшие деготь из бересты (работа которых не могла быть прервана), робко и нерешительно рассказывали, что они, не спавши светлою ночью, видели, как из леса вышли некие «легкие естеством и препоясанные воздушного круга сеножати и начали метать сено». А братья-трудники, увидев таинственных сеножатей, отвернулись.
Они не знали, как им отнестись к появлению тех сеножатей, а когда настало утро, они увидели, что появление это было не призрак, потому что сено оказалось убрано и сметано в копны.
И вот все пошли, все посмотрели и все удивлялись: сено было в копнах…
Иноки крестились и отходили. Рассказ двух братий-трудников о «сеножатех» передавался из уст в уста и дошел до митрополита…
Высокопреосвященный Никанор выслушал об этом чудесном событии и улыбнулся. По-видимому, занятый настоящими целями своего приезда, он не расположен был придавать особенного значения происшествию с сеном, но некто из «птенцов Андрея», много писавший под диктовку своего учителя,[35]35
Андрей Николаевич Муравьев имел очень дурной почерк и остерегался своих неладов с русскою орфографиею, а потому он не любил писать собственною рукою. Он обыкновенно диктовал свои сочинения которому-нибудь из «птенцов», назначавшихся по каждому случаю в должность «генерального писаря». Для получения более широкого и сильного вдохновения Муравьев во время диктовок надевал на себя, поверх полукафтанья с запонами, широкий бедуинский плащ и диктовал, ходя скоро по комнате, чтобы плащ на нем веялся как будто от ветра в пустыне. Так настраивался он, «закидывая за себя Шатобриана» или «метая горящие угли на головы» мало почтительных к нему людей
[Закрыть] изложил в тоне своего учителя и представил митрополиту проект записи «дивного события о сеножатех…»
Владыка отверг эту литературу, а когда другие, желавшие поддержать «птенца», попробовали представить соображения, что событие о «сеножатех» не малозначуще, и что оно, без сомнения, находится в связи с значением, какое имеет посещение острова митрополитом, то преосвященный рассердился.
Запись «о сеножатех», сделанная птенцом муравьевского гнезда, так и осталась без санкции владыки и никуда не могла быть занесена, а только списана «для себя» теми, которых рассказанное таинственное событие особенно поражало и которым описание, сделанное ему муравьевским слогом, особенно нравилось.
Глава тринадцатая
К тому же, как приезд митрополита был легок и весел, так возвращение его вышло неблагоприятно. Он распределил свое время когда ему угодно было вернуться, и в тот самый день, когда хотел, тогда и отплыл. А между тем на заре, перед восходом солнца, в этот день по воде озера, щурясь, мигали, то расширяясь, то суживаясь, маленькие кружочки. Это называют, будто «кот плакав», и считают за предвестие к буре; и в самом деле поднялась буря, пошла бросать пароход, и пришлось убрать поскорее флаги… На пароходе появилось много больных, и не было того, кто бы мог приготовить трапезу, потому что о. Сергий, чухонец, лежал пластом на палубе, бледный как мел, и вопиял:
– Ой, моя мартонька!.. Вынимайте скорее с меня мою дусаньку.
Отец Виктор стоял над ним и уговаривал:
– Подожди умирать, – ты человек нужный.
Отец Аввакум был непоколебим, и то по особой причине.
Так приехали в Петербург все не в авантаже и прежде чем передавать о том, что и как учредили на Валааме, – все поспешили искать покоя и отдыха. Только одни строго-дисциплинированные «птенцы Андрея», ни минуты не упуская, явились донести ему о всем происшедшем и, конечно, изложили притом и историю «о сеножатех».
Андрею Николаевичу не понравилось, что этакое достопримечательное событие могло произойти в его небытность.
Непосредственную связь между приездом на остров высокопреосвященного Никанора и появлением «сеножатей» Андрей Николаевич отвергал.
По его мнению, событие могло быть всегда, но оно действительно заслуживает внимания и исследования, а не этакой «пусторамашки».
Из этого был вывод тот, что при митрополите не было надлежащих людей, которые бы знали, что надо делать, и – главное – которые сумели бы «бесстрашно настоять на том, что должно».
– Завтра я ему против этого пропишу, – решил Андрей Николаевич и назначил себе на случай сего писания завтра «дежурного генерального писаря».
В назначенный день и час писарь сидел на месте и выводил быстролетным пером, что изрекал, быстро летая в своем бедуинском плаще, Муравьев.
Смысл писанья был тот, «что нельзя отрицать…» что «испытывать надо»: но тут вдруг совсем некстати доложили, что пришел актер Мартынов и непременно просит его принять.
Андрей Николаевич изумился и пошутил:
– Свят, свят, свят! Зачем ко мне «Филатка и Мирошка»? Не ошибся ли он дверью?
– Никак нет, – он к вам, ваше превосходительство.
– Час от часу не легче! Но кое же общение тьме со светом? Впустите его.
Впустили.
Иван Евстафьевич вошел и удивил еще более, объявив Муравьеву, что он желает говорить с ним с глазу на глаз и не может говорить при постороннем.
– Но это мой близкий человек, – отвечал Муравьев, указывая на секретаря.
– Все равно, я не могу ни при ком. Муравьев пожал плечами и сказал:
– Выйди на минутку.
А когда тот выходил, он добавил:
– Не вздумал ли он и здесь разыграть своего «Филатку и Мирошку»?
Глава четырнадцатая
Но игры не было. Набожный, как большинство русских актеров, Мартынов пришел к Муравьеву с испугом и за самым серьезным содействием.
Утром на репетиции он слышал от Максимова о бывшем на Валааме «чуде о сеножатех», которому будто Муравьев желает составить описание, как предвещательному к войне событию, – ибо были будто те сеножати не люди, но духи, а между тем…
Мартынов остановился.
Муравьев его поддержал:
– Договаривайте – я Муравьев.
– Извольте, – заключил Мартынов: – я договорю: здесь ничего худого нет и никакого дурного умысла не было, а сено убрали мы.
– Как это вы?
– Мы, наша компания, – артистки и артисты… Мы ходили, бродили по острову в ожидании дня… пришли на место, где оставалось сено, и вилы, и грабли… Одна французская актриса взяла грабли и говорит: «давайте уберем за этих бедных старичков», и все стали гресть и копнить, и скопнили. Но теперь мне – как православному – это очень неприятно, и я пришел просить вас разъяснить это кому нужно и не допустить до ложных толкований.
– Благодарю, – произнес Муравьев и снисходительно протянул Мартынову руку, а бумагу, написанную ранее под диктовку, разорвал и поехал в лавру, где Аввакум видел его при вхождении и при выхождении от митрополита «в позе громадной».
Он одержал верх над всеми своими недоброжелателями и показал, что таких людей, как он, нельзя манкировать, потому что до них и отовсюду и всеми путями доходят обо всем известия.
И Аввакум, и Виктор, и Ласский с Навроцким должны были уступить и помолчать.
Это было летом в поздний сенокос 1852 года, и сочтено было за «предвестие войны», которой нигде не было на горизонте.
Андрей Николаевич очень эффектно разрушил это предсказание. Но не прошло года, как в мае 1853 года возник официально вопрос о «святых местах», и в Константинополь был послан чрезвычайным послом князь Меншиков, а 14-го июня последовал высочайший манифест, которым повелевалось нашим войскам занять Дунайские княжества «с миролюбивыми целями»…
Муравьев вспомнил все это в некотором разговоре в Киеве, и сказал:
– Да, вот вам и разбирайте теперь – было ли это предвещательное «событие о сеножатех», а война была.
Впервые опубликовано – журнал «Новь», 1885.
Александрит
Натуральный факт в мистическом освещении
В каждом из нас, окруженном мировыми тайнами, существует склонность к мистицизму, и одни из нас, при известном настроении, находят сокровенные тайны там, где другие, кружась в водовороте жизни, находят все ясным. Каждый листик, каждый кристалл напоминает нам о существовании в нас самих таинственной лаборатории.
Н. Пирогов
Глава первая
Я позволю себе сделать маленькое сообщение об одном причудливом кристалле, открытие которого в недрах русских гор связано с воспоминанием об усопшем государе Александре Николаевиче. Дело идет о красивом густо-зеленом драгоценном камне, который получил название «александрит» в честь покойного императора.
Поводом к усвоению этого имени названному минералу послужило то, что камень впервые найден 17 апреля 1834 г., в день совершеннолетия государя Александра II. Местонахождением александрита были уральские изумрудные копи, находящиеся в восьмидесяти пяти верстах от Екатеринбурга по речке Токовой, впадающей в Большую Ревть. Название «александрит» дал камню известный финляндский ученый минералог Норденшильд, именно потому, что камень найден им, г-м Норденшильдом, в день совершеннолетия покойного государя. Сказанной причины, я думаю, достаточно, чтобы никакой другой не разыскивать.
Как Норденшильд назвал вновь найденный кристалл «камнем Александра», так он и именуется по сие время. Что же касается до свойств его природы, то о них известно следующее:
«Александрит» (Alexandrit, Chrisoberil Cymophone) есть видоизменение уральского хризоберила. Это минерал драгоценный. Цвет александрита – темно-зеленый, довольно сходный с цветом темного изумруда. При искусственном освещении камень этот теряет свою зеленую окраску и переходит в малиновый цвет.
«Самые лучшие кристаллы александрита были найдены на глубине трех сажень в Красноболотском прииске. Вставки из александрита очень редки, а безукоризненно хорошие кристаллы составляют величайшую редкость и не превышают весом одного карата.[36]36
Карат собственно считается равным тяжестью одному зерну сладкого рожка, или около 4 гран. – (Прим. Лескова.).
[Закрыть] Вследствие этого александрит в продаже не только весьма редок, но даже некоторые ювелиры знают о нем только понаслышке. Он почитается камнем Александра Второго».
Сведение это я выписал из книги Мих. Ив. Пыляева, изданной с. – петербургским минералогическим обществом в 1877 г. под названием: «Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление».
К тому, что выписано из сочинения г. Пыляева о местонахождении александрита, надо прибавить, что редкость этого камня еще более увеличилась от двух причин: 1) от укоренившегося между искателями камней поверья, что где обозначился александрит, там уже напрасно искать изумруда и 2) оттого, что копи, где доставали лучшие экземпляры камня Александра II, – залило водою прорвавшейся реки.
Таким образом прошу заметить, что александрит очень редко можно встретить у ювелиров русских, а иностранные ювелиры и гранильщики, как говорит М. И. Пыляев, «знают о нем только понаслышке».
Глава вторая
После трагической и великоскорбной кончины усопшего государя, при котором прошли теплые, весенние дни людей нашей поры, многие из нас, по довольно распространенному в человеческом обществе обычаю, желали иметь о дорогом покойнике какие кто мог вещественные «памятки». Для этого разными чтителями покойного государя избирались разнообразные вещи, впрочем, преимущественно такие, которые бы можно иметь всегда при себе.
Одни приобрели миниатюрные портреты покойного государя и вделывали их в свои бумажники или часовые медальоны, другие вырезывали на заветных вещах день его рождения и день его кончины; третьи делали еще что-нибудь в этом роде; а немногие—кому позволяли средства и кому представился случай – приобретали вставки из камня Александра Второго. Из них или с ними устраивали перстни, чтобы носить и не снимать эту памятку с руки.
Перстни с александритом были из самых любимых и притом из самых редких и, может быть, из самых характерных памяток, и кто добыл для себя таковую, тот уже с нею не расставался.
Колец с александритом, однако, никогда не было много, ибо, как справедливо сказано у г. Пыляева, хорошие вставки из александрита и редки, и дороги. А потому на первых порах были люди, которые прилагали чрезвычайно большие усилия, чтобы отыскать александрит, и часто не находили его ни за какие деньги. Рассказывали, будто это усиленное требование даже вызвало опыты подделывать александрит, но подделывать этот оригинальный камень оказалось невозможным. Всякая подделка непременно должна обнаружиться, так как «камень Александра Второго» обладает дихроизмом или светопеременностию. Опять прошу помнить, что александрит при дневном свете зелен, а при вечернем освещении он – красен.
Этого достичь никаким искусственным сплавом нельзя.








