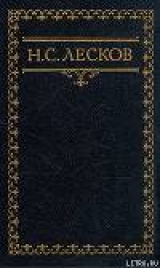
Текст книги "Заметки Н. Лескова (сборник)"
Автор книги: Николай Лесков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Большие брани
(Общественная заметка)
То сей, то оный на бок гнется.
Опять превеликие и буйные брани настали в нашей литературе. Пребывая по возможности в стороне от всех этих турниров, мы, может быть, не без основания несем от кого-нибудь из наших читателей упрек, что мало следим за литературными явлениями и относимся к ним, по-видимому, совсем безучастно. Сознаемся, что известная доля подобной укоризны отчасти, может быть, нами и заслужена: мы действительно не пишем ни срочных обозрений русских журналов, ни периодически появляющихся критик и рецензий на новые книги. Но всего этого мы не делаем отнюдь не по невниманию или неуважению к литературе, а именно и по вниманию и по уважению к ней. Мы того убеждения, что основательных, подробных и дельных критик писать в газете невозможно, а потому и искать такой критики в какой бы то ни было газете будет всегда труд напрасный. Газеты, посвященные разработке вопросов дня, не могут, да и не обязаны отдавать большого места явлениям литературным. Известные газеты так это и принимают, а другие, которым такой взгляд кажется ошибочным, держатся иных обычаев. Эти последние посвящают очень большое внимание не только всему появляющемуся в печати, но даже не манкируют и тем, что происходит в самой жизненной среде литераторов. Некоторые из таких газет, следя за поведением литераторов, при появлении произведений того или другого из них напоминают публике, что вот этот автор человек хороший, а этот сделал то-то и то-то, или даже и не объясняют, что именно он сделал, а просто не одобряют его с нравственной стороны. Одна из таких газет была так аккуратна, что однажды как-то заявляла даже, что один покойный критик (тогда еще живой) бывает иногда пьян; а другая обличала одного редактора, что он в карты играет.
Мы никогда не могли конкурировать в этом роде с многосторонними изданиями, о которых упомянули. Особых усилий к приобретению сколько-нибудь значащих и веских критических статей мы не употребляли как потому, что их при нынешнем совершенном отсутствии критических дарований в среде наших писателей негде достать, так опять и потому, что заботы об этом не считали своим главным делом. Повторяем снова: вполне ценя и высоко ставя значение критики, мы все-таки не гонимся за нею особенно и убеждены, что настоящее место ее в журналах, а не в газетах, ибо газета, по всем условиям ее издания, не может так внимательно заниматься критикою, как может делать это месячный журнал. Обозреть книгу журнала или какого-нибудь отдельного сочинения в газетном фельетоне, заключающемся приблизительно в трехстах коротеньких строчках, и обозреть так, чтобы тут все дело было выслежено и доказано, – это задача не только трудная, но, по нашему мнению, даже и недостижимая. Стремясь достичь эту недостижимую задачу, критик-фельетонист прежде всего манкирует доказательностью и заставляет себе верить на слово. Стесненный пределами газетной статьи, он поневоле говорит с публикою, как мог бы говорить разве только человек уже ауторизованный и аккредитованный общественным доверием. Он говорит: такой-то роман хорош, а такой-то дурен, и ему надо верить почти без всяких доказательств, потому что ему некогда, да и негде приводить эти доказательства. Отсюда у всех таких критиков укоренена привычка говорить бездоказательно, а эта привычка неминуемо влечет вслед за собою другую привычку – говорить безответственно. Развязный фельетонист объявляет одного писателя честным, другого бесчестным, одного независимым, другого продажным, одного талантливым, другого бездарным, и тоже не станет приводить в подкрепление своих слов ничего или приведет ничего не стоящую сплетню, вздорный намек, и, конечно, и он дальше ни за что не ответствует. Была ваша воля читать; в вашей же власти ему и верить или не верить.
Но зачем же читать, если не верить? Им верят. Справедливость заставляет сказать, что положительное отсутствие критических дарований, вследствие которого наши журналы давно в корень оскудели критическими статьями, у нас для многих отзывы фельетонистов преблагополучно заменяют критику, и публика на это не только не жалуется, но даже этих фельетончиков «спрашивает» и подчас очень нередко их «одобряет». Фельетонист объявит, что вещь дурна, и публика повторит это и позудит насчет обруганного автора. Фельетонист скажет, что этот роман фельетонен, и публика склоняется и к этому приговору, даже вовсе не замечая того, что самое определение фельетонности повести или романа она вычитала не более как в фельетоне. Что приобретут наши читатели от того, если мы без всяких доказательств скажем, что «Обрыв» г. Гончарова интересный и мастерской роман, а «Люди сороковых годов» г. Писемского – роман из рук вон плохой и слабый? Читатели вполне вправе не положиться на наши слова и вправе требовать, чтобы мы поддержали свое мнение доказательствами, а если мы таких доказательств не представим, то вправе не доверять нашему приговору. Излишнее доверие их в этом случае не только было бы неуместно, но оно возлагало бы на нас и слишком большую ответственность, которой мы вовсе не рискуем брать на себя.
Мы никогда не считали удобным домогаться такого безграничного доверия к нашим суждениям по литературным вопросам и, не имея возможности высказываться о литературных явлениях положительнее и доказательнее (как это могут делать журналы), находили, что газета наша и ее читатели ничего не потерпят, если мы вовсе не будем касаться чисто литературных вопросов или будем касаться их лишь в некоторых особенных обстоятельствах и случаях.
Газета различествует от журнала не одним сроком выходов и формою издания: у нее есть свои задачи, между которыми литературная критика занимает не первое место. Если медицина поделила врачевство между специалистами, и ныне уже терапевт не мешается в болезни хирурга и ларингоскопист не врывается в область окулиста или офтальмиатра, то в литературе тем паче давно уже, кажется, пора принять деление и по неизменному закону политической экономии не стремиться в одни руки сделать все, а делать лишь то, что удобнее приспособлена делать наша мастерская. Здесь закон разделения труда.
Потом, у нас есть и другие причины, воздерживающие нас от вмешательств в так называемые литературные дела. Чужой, а частию и свой собственный, опыт убедил нас, что все подобного рода вмешательства весьма неприятны и небезопасны: они отклоняют издание от его прямого назначения и увлекают его нередко на путь бесконечной полемики, имеющей у нас совершенно особенный, беспокойный и для многих нестерпимый характер брани. Начнется дело будто и вправду о каком-то деле, а потом дело это бросится в сторону, а пойдет вскрывание чужих тайн, чужих побуждений и критика чужой совести. Это занятие, по нашему мнению, всего менее идет к тому, что мы должны делать, исполняя свои обязательства перед нашими читателями. А к тому же мы не питаем ни к чему подобному никаких влечений, считаем все это, с одной стороны, несколько излишним для издания, а с другой, неприятным и скучным для читателей, которым решительно все равно, например: действительно ли все сотрудники журналов «Дела» и «Недели» все люди особой честности, какой сотрудники других изданий никогда достигать не могут, или же возможно, что честный человек случайно забежит и в «Сын отечества» и в «Русский вестник»? Вмешаться в подобные разбирательства значит самим рисковать попасть в колею, которая что дальше, то грязнее, что дальше, то зловоннее, а попав в нее раз, ею придется идти, пока или самого какой-нибудь досужий человек бесцеремонно оборвет и опачкает, или самому придется браться за такое же точно занятие и ратовать против совестливости многих добрых людей, с которыми должно счесть за лучшее на абордаж не сцепливаться. Пусть себе летят от них и бомбы и ядра – благо они существенно безвредны нам, – мы их можем оставлять без всяких ответов. На этом никто не теряет: ни мы, сохраняющие себя от излишнего труда и раздражений; ни наша газета, сберегающая на своих столбцах место для известий, из которых самое незначащее все-таки более полезно, чем целый поток ругательств; ни читатели, которые таким образом не получают намеков на то, чего не ведает никто; ни беспокойные нападчики, за которыми скорее и легче остается неоспоримым их последнее слово; ни самая литература наконец, потому что, молча о ней, мы по крайней мере не делаем вкладов в корванну ее горестных скандалов и не участвуем в выводах на позорище ее деятелей. Правда, что между последними мы знаем много людей, недостойно забрызганных «слюною бешеной собаки», и, может быть, иначе рассуждая, мы и не совсем вправе бы молчать и не поднимать голоса в защиту их долго и упрямо попираемой репутации, но мы имеем на это свой взгляд и думаем, что поднимать слово к обществу, слагающему свои мнения по тому, что ему скажет последняя печатная строчка, дело бесполезное. На выраженную вчера клевету явится сегодня опровержение, а его завтра опять подернет новою клеветою, и опять все темно и мрачно. Клевета неистощима, истина же, повторяемая раз за разом, как глас вопиющего в пустыне, так и остается, как vox clamantis in deserto.[4]4
Глас вопиющего в пустыне (лат.).
[Закрыть] Что пользы в том, если бы мы, или другая из неторопливых на осуждения газет, вступились за ведомых нам с наилучших сторон литераторов, на добрые имена которых навалены самые гнусные клеветы и покоры? Что, если бы в ответ на то, что А. или Б. люди нечестные, со всею энергиею заявлено, что все известные поступки этих людей говорят лишь в пользу их честности, а не бесчестья? На это бы очень просто ответили, что мы или еще не доросли до того, чтобы судить о честности, или что мы, пожалуй, и сами-то люди сомнительной честности. Такие примеры были и вполне возможны и на будущее время, пока в наших литературных нравах не произойдет благого перелома. Но, пока такого перелома не чувствуется, спрашиваем: на какую же почву может быть сведен у нас литературный спор? На суд, или на самозащиту, или на пренебрежение?
Суд!.. но где еще пока те понятия, в которых приговор суда может оправлять дело оскорбленной чести? Самозащита!.. но наши литературные люди ни пороха, ни шпаг не принимают, и остается, стало быть, одно: пренебрежение всему, что говорят, где говорят и как говорят? Прекрасно! Но тогда какая же вернейшая тактика класть хранение устам людским, как не молчание?.. Одно оно, оно, святое молчание, иже ни в чем ответ, оно источник сосредоточивающейся в себе мудрости, оно только еще и может что-нибудь здесь, где уже ничего не может сделать никакое слово и никакое убеждение.
Для подкрепления слов наших живым примером расскажем два самые свежие случая, до чего доводят русских литераторов усвоенные ими полемические приемы.
Первый из недавних случаев к неистовой полемике подали бывшие некогда именитые сотрудники именитого в свою очередь «Современника», гг. Антонович и Жуковский. Они издали книжку, в которой сильно охуждали нрав и убеждения г. Некрасова, вычисляли различные вины его против Белинского и других его сотрудников и намекали на сношения г. Некрасова с влиятельными людьми, – сношения, по мнению гг. Антоновича и Жуковского, вероятно непристойные для редактора такого журнала, каков был «Современник». Тут же, в этой книжечке, авторы коснулись и г. Елисеева и вывели на чистую воду, о чем с ними говаривал в былые времена г. Слепцов. Кстати, при этом гг. Антонович и Жуковский напомнили здесь, как водится, нечто и о рублях и этим финалом дали другим досужим людям повод к истолкованиям мотивов, которые двигали гг. Антоновичем и Жуковским к сочинению и изданию их вполне неодобрительной и притом очень дурно и бестактно написанной книги. О деле этом до сих пор поговорили почти все газеты, и гг. Антоновича с Жуковским особенно не похвалили за их странный поступок. Книжка этих писателей, как мы сказали, в самом деле написана даже без уменья писать, – авторы как будто разучились и в этом. Кроме того, имен, обруганных в этой книжонке кстати и некстати, несть числа, и за что они здесь обруганы, тоже неведомо. Это делает книжку каким-то скучным поминаньем, а затем в ней всё личные, никому не интересные счеты. Общее впечатление, какое эта книжонка произвела в обществе, для авторов, вероятно, было нелестно. Всякий мало-мальски порядочный человек видел в пасквиле гг. Антоновича и Жуковского самую оскорбительную непорядочность, ибо понятно, что порядочные люди могут делать дело вместе и потом разойтись, могут порядочные люди разладить и во взглядах и в убеждениях и не только перестать любить один другого, а даже возненавидеть друг друга, но чтобы они, разойдясь, выводили на общественное позорище то, что кто у кого в прежних отношениях видел на столе или о чем друг с другом говорил по-приятельски, – этого порядочные люди позволять себе не могут. Гг. Жуковский и Антонович очевидно пренебрегли этим правилом, и это им поставлено на вид всеми излагавшими свое суждение об их странном поступке. Нет сомнения, что авторы очень много повредили себе этою книжкою. Можно думать, что они могли сказать нечто очень веское вдобавок к тому, что разновременно говорилось об их врагах, но недостаток такта и чувства меры увлек их, и они своею книжкою сделали просто проступок против нравственности, за который и наказаны единогласным осуждением их.
Но недостойное дело, которому всего приличнее было бы тем и заключиться, однако, так не окончилось. Гг. Антонович с Жуковским убеждали общество, что люди, оставшиеся при г. Некрасове после их отхода, «гроша не стоят», а г. Елисеев (сотрудник нынешних «Отечественных записок») ответил этим своим бывшим собратом, что «за них грош дать еще можно», и так как статья г. Елисеева написана хорошо и уж во всяком случае несравненно умнее, последовательнее и строже, чем полная раздраженных метаний книжечка Антоновича и Жуковского, то теперь последнее слово осталось за г. Елисеевым, и публика оповещена, что гг. Антонович и Жуковский промахнулись, променяв г. Некрасова на Тиблена, и недовольны, что «Отечественные записки» идут теперь без их подспорья, но что, однако же, сотрудники нынешних «Отечественных записок» находят, что за гг. Антоновича и Жуковского «грош дать все-таки можно».
Теперь, благодаря тому, что ни один орган, вероятно, не может предложить гг. Антоновичу и Жуковскому таких огромных районов, какие им, судя по их прежним полемическим статьям, необходимы для того, чтобы вести свои препирательства, плодотворный спор этот, вероятно, на этом и замолкнет. Но, не будь этого обстоятельства, были бы, конечно, исписаны еще целые стопы бумаги о том, за кого «можно дать грош» и кто «гроша не стоит». И кто был бы виновником этого спора, в котором дошло бы до выворачивания снов, а не только до воскрешения старых памятей? Вся, конечно, вина в этом пала бы, разумеется, на г. Елисеева, удостоившего ответа нелепую выходку гг. Антоновича и Жуковского. На подобные вещи один благоразумный ответ: молчание.
Второй случай еще характернее, и притом как этот случай еще в полном своем развитии, то он невесть чем и заключится.
Здесь вначале спор было пошел совсем ученый, и пошел по-человечески. Люди не соглашались во взглядах и мнениях: г. Катков, как известно, поддерживает так называемое классическое образование, а г. Стасюлевич (редактор «Вестника Европы») взялся стоять за реальное. Стояли они довольно долго друг против друга, издали лишь потачивая один на другого свои шпоры, как вдруг роковой случай, и они сразились. В одном английском журнале была статейка, в которой доводилось, что классическое образование применимо не для всех. В «Вестнике Европы» стали приводить эту статью и кстати при этом выправили ее немножко так, что вышло, будто классическое образование совсем ни для кого не удобно. Г-н Катков изловил г. Стасюлевича на этой вольности в передаче чужих слов и, распространившись о деле образования, самый английский журнал, из которого была заимствована исправленная «Вестником Европы» статья, назвал уничижительным именем «журнальчика». Г-н Стасюлевич отвечал г. Каткову с заметною неловкостию, но зато с своей стороны изловил московского редактора, что «журнальчик», о котором тот в этом споре отнесся неуважительно, в прежнее время встречал в журнале г. Каткова почтенные отзывы. Г-н Катков ничем не опроверг этого, и г. Стасюлевичу так и удалось оставить на г. Каткове некий покор в том, что у него к одному случаю одно и то же издание титулуется с почетом, а к другому то же издание рядится в затрапезную кличку. Как гг. Катков и Стасюлевич продолжали спорить о самом деле, то есть о преимуществах той или другой образовательной системы, того касаться не будем. Один доказывал свое, другой свое, но вдруг оба сорвались с вопроса и повели речь совсем о постороннем. Г-н Стасюлевич в одной из своих последних статей по этому вопросу, неведомо с какого повода, напечатал нечто совершенно неуместное. Он стал в этой статье сопоставлять стояние г. Каткова за классицизм с тем, что им, г. Катковым, и г. Леонтьевым в Москве основан классический лицей, в котором определено брать по 900 р. в год за воспитанника… Этим как будто бы выяснилась вся тайна стояния «Русского вестника» и «Московских ведомостей» за классицизм…
Ответ на эту во всяком случае нелитературную выходку был легок и прост. На устах каждого, кто прочел такой подход г. Стасюлевича к классицизму г. Каткова, вертелось: «А разве не мог Катков завести для своих выгод реального училища, если у него о том только шло дело, чтобы собирать девятьсот рублей за ученье?»
Ответ этот был у всех, и касательствам к искренности г. Каткова в деле образования в обществе не придавали решительно никакого веского значения, как вдруг г. Каткова обходит какой-то злейший его враг, и московский редактор с размаха палит оглушительный и безобразный выстрел в лужу.
Некто Б. М., личность, очевидно проживающая в Петербурге и не чуждая литературного мира и его сплетен, прислала г. Каткову статью своего приготовления. В этой статье, написанной тоже a 1а г. Антонович, без такта, без силы и без сдержанности, г. Б. М. ни более ни менее как вступается за г. Каткова в его же, г. Каткова, газете. Но и это бы еще пола-горя; но услужливый медведь г. Каткова нашел еще более увесистый булыжник: для того чтобы согнать муху со лба своего друга, он пустил в его газету такой самый снаряд, какой был вложен г. Стасюлевичем в статью «Вестника Европы». Одобрив убеждения, планы и искренность гг. Каткова и Леонтьева, г. Б. М. говорит, что г. Стасюлевич совсем не таков, что у него вовсе нет похвальных качеств г. Каткова, и его, г. Стасюлевича, в споре о науке скорее есть основания заподозревать в неискренности, потому что он сердится на учебное ведомство за то, что раз его с профессорской кафедры смыло, а в другой он на нее метил, да не попал. Притом г. Б. М. рекомендовал обратить внимание на то, что фамилия редактора «Вестника Европы» кончается на ич, а в журнале он помещает статьи, в которых сквозит желание, чтобы Россия была лишена высшего образования. А мало всего этого, так он, г. Б. М., указывает, что г. Стасюлевич еще держит в ленном владении такие влиятельные органы, как «Петербургские ведомости» и солидарные с этою почтенною газетою журнал «Дело» и журнальчик «Неделю» (очень ничтожную газетку, ныне запрещенную на три месяца и, как слышно, уже совсем прекратившуюся).
Таким образом, как мы видим, разговор, начатый о системах образования, сведен мало-помалу ко вскрытию тайных побуждений г. Каткова и неявных действий г. Стасюлевича. Поводом к начатию спора была перефразировка статьи, а в числе средств, при содействии которых весь ученый спор этот достиг нынешней своей зрелости, оказались сначала со стороны г. Стасюлевича, а потом со стороны сотрудника г. Каткова сведения, собранные, что называется, «под рукою».
Одним словом, полемика эта снова доведена до степеней самых низменных, но и всему этому еще не конец, всему этому суждено идти еще дальше.
Только что нелепая выходка г. Б. М. появилась, г. Стасюлевич ею тотчас обиделся и напечатал в «Петербургских ведомостях» письмо, в котором, между прочим, по поводу окончания своей фамилии на ич сказал, что он тому не виноват, что по этому-де судить о направлении человека не следует и что может быть-де, что и автор напечатанной г. Катковым статьи, скрывающийся под буквами Б. М., называется Болеславом или другим каким не православным именем и сам имеет фамилию, кончающуюся на ич.
Кто хотя мало-мальски знаком с литературным миром, тому тотчас становилось понятно, в чей огород бросал г. Стасюлевич свой камушек. Здесь в Петербурге, как только прочли в «Современ<ной> летописи» г. Каткова сказанную статейку, подписанную буквами Б. М., так сейчас же по разным то льстивым, то наглым приемам и особенно по совершенно типичному языку, который можно назвать развязно кадетским, или барчуковским, или, – принимая название, данное этому языку Л. Н. Толстым, – языком «ерническим», назвали автора без затруднений. Здесь нимало не удивлялись, что известный человек написал и имел неделикатность послать эту льстивую и в других отношениях предосудительную статью редакторам «Московских ведомостей», но все были безмерно удивлены, как редакторы «Московских ведомостей» эту статью напечатали! Как бы кто с какими чувствами ни привык относиться к изданиям г. Каткова, всяк все-таки усвоил себе привычку видеть, что издания эти не манкируют уважением к печатному слову, и… вдруг позволить самих себя расхвалить в своей газете, а противника, который, положим, сам первый перешел к личностям, отделать на все стороны, объявляя его стоящим во главе центрального управления тремя органами, в которых патриотические русские вопросы встречают обыкновенно непатриотическое разрешение. «Петербургские ведомости» вопиют, что это донос … Мы давно слышим в литературе это нелитературное слово, давно у нас называют доносами и статьи, и повести, и критики, и даже объемистые романы; но имеем свой взгляд на эти доносы, по которым никого не берут, не судят, не вяжут и не могут ни брать, ни вязать, ни судить. Когда-нибудь в другое время мы поговорим и об этих доносах, и о доносчиках, в которые у нас, между прочим, зауряд попали все более известные современные романисты, начиная гг. Тургеневым и Гончаровым и заканчивая гг. Крестовским и Клюшниковым, а теперь не будем отрываться от нашего рассказа. Г-н Б. М., рассуждая в своей статье о доносах, сказал, что он не признает литературных доносов, потому что за донос, что не на ухо нашептывается, а передается посредством печати вслух всему миру? Г-н Б. М. написал, что г. Стасюлевич держит в своих руках, кроме «Вестника Европы», еще «Петербургские ведомости», «Дело» и «Неделю», а г. Стасюлевич ответил, что это неправда, и почему ж теперь этой неправде непременно должно называться «доносом», а не враньем, не сплетнею и не каким-нибудь другим подобным более ей приличным именем? – Г-н Стасюлевич может почивать спокойно: никто его среди ночи по поводу статьи г. Б. М. не потревожит, да и г. Б. М. может тоже не тревожиться: он никого не погубил, ибо истинная цена слов его везде обозначена ясно. Все в этом видят ни больше, ни меньше, как: заговорили два русские ученые о деле, перешли к личностям и, наконец, оба приняли к своим услугам сплетню. – Дело обыкновенное.
Русская поговорка гласит: «Что пойдет по рукам, то будет и в песьих зубах».
По общему закону судеб, как барынино платье донашивается ее служанкою, так и вопросы, на которых столкнулись лица более крупные, дорешаются, так сказать, людцами более маленькими, и гг. Катков и Леонтьев после пересмотра их совести «Вестником Европы» поступили на суд таких петербургских судей, перед которыми не оправдится всяк живый. От этих теперь московские редакторы получают окончательную отделку.
В ряду этих беззаветных писателей в своем роде видное место занимает некто, пишущий в «Петербургских ведомостях» под именем «Незнакомца». Этот писатель давно уже и сам ощущает свое значение и в своих фельетонах беззастенчиво говорит: «Этого даже я не могу», или «на это даже я не решуся». Мы упоминаем об этом, конечно, вовсе не в укоризну ему, а говорим потому, что упомянутый писатель в известном жанре действительно достиг замечательного совершенства и своею беззастенчивою смелостию и развязностию должен возбуждать зависть в плетущейся за ним ватажке его последователей и подражателей… Не говоря ни слова о достоинствах его стиля, его манеры и о проявляемых им способностях и талантах, мы должны сказать, что одна его неустрашимость составляет уже нечто выходящее вон из уровня. Он ни перед чем ни останавливается; всех тормошит: и актеров, и писателей, и режиссеров, и танцовщиц, и генералов, и докторов, и дам, и никого не боится. Страха в нем нет ни следа. Коснулся он как-то чересчур близко г-жи Лядовой, ему за это сделали некоторые замечания, – он извинился. Но спустил немножко, и опять за свое. Ему кто-то чем-то погрозился в анонимном письме. Он даже вовсе не скрыл этого и показал, что он вполне пренебрегает угрозами. «Что же такое, – говорил он. – Будет убийство в Бассейной улице» (здесь, верно, этот писатель живет). Это ему решительно ничего: пусть убьют, а уж он если за что взялся, не бросит. Ему и опять кто-то еще чем-то грозился, а романист Крестовский за подтруниванье над его фантазиею поступить в уланы даже обещал прямо воздействовать на г. Незнакомца, но, верно, потом раздумал. Таков уж русский человек: сгоряча погрозится, а там и сбрендит, и выйдет по пословице: «В храбром уборе, да без храбрости». Но как бы там ни было и почему бы то ни было, только не слыхать, чтобы г. Крестовский «воздействовал» на г. Незнакомца, как сулил ему.
Их мундиры, их султаны,
Сабли, каски, доломаны
скрылись, а г. Незнакомец по-прежнему продолжает свое служение обществу и от времени до времени уделяет даже немалую часть своего внимания г. Крестовскому, высказываясь о нем по-прежнему в том же малопочтительном духе, который вызывал со стороны последнего обет воздействия.
Этому же бесстрашнейшему человеку попались, наконец, в руки злополучные московские редакторы, гг. Катков и Леонтьев! – Ужасный Незнакомец взял солидных людей в свою приспешную и накрошил из них вот какую окрошку.
Г-н Незнакомец написал фельетон о собаках и в нем-то и решился отделать московских редакторов под одну стать с собаками, «которые спят в конурах и которые спят на подушках». Так как здесь и прием, и смысл речи, и все ее переходы имеют неоспоримейшие достоинства непосредственной оригинальности, то мы немножко познакомим наших читателей с этим последним произведением писателя, вносящего в газету нечто действительно неподражаемое и самобытное.
Г. Незнакомец прямо в первых двух строках фельетона объявляет, что «нынешний раз мы сначала будем беседовать о собаках» и, сказав несколько слов о собачьих натурах, упоминает, что «есть собаки двуногие», добирается, что значит, когда собаки лают, виляют хвостами и лижутся, и говорит:
На основании этих известных признаков можно бы построить целую диссертацию, но с тех пор, как г. Леонтьев, соратник г. Каткова, объявил, что диссертации пишутся только людьми недобросовестными, добросовестные же люди, как он, г. Леонтьев, получают ученые степени за передовые статьи в «Московских ведомостях» и за ведение счетоводства у г. Каткова, с этих пор даже я не решусь сочинять диссертацию; а потому займемся безразлично собаками вообще, не касаясь подробностей и не обозначая, к какой породе они принадлежат.
И вот, поговорив о собаках у садков и о собаке, которая кого-то испугала, а потом о режиссере Яблочкине (этом новом злополучном bête noire[5]5
Пугало (франц.).
[Закрыть] наших фельетонистов) и о пожарном солдате, который, по мнению г. Незнакомца, совершенно мог бы заменить режиссера Яблочкина, г. Незнакомец снова увидал удобный случай сделать переход к гг. Каткову и Леонтьеву. Он говорит (о режиссерстве пожарного солдата):
что для всего этого мудрости особенной не требуется, и на нее хватит как г. Яблочкина, так и всякого пожарного. Да что? Нынче и не на такие дела мудрости особенной не требуется.
Г-н Леонтьев, профессор Московского университета и сотоварищ г. Каткова, человек, кажется, совсем не мудреный, а управляет тремя редакциями и лицеем. Мало того. Совет университета соглашается на различные его предложения, очевидно вызванные экономическими соображениями сего знаменитого классика, который, впрочем, творений никаких, вероятно, не оставит. Г-н Иванов, которого он предложил в экстраординарные профессоры и который не написал ни одного сочинения «по крайней добросовестности», как выразился г. Леонтьев, дает уроки в лицее; повысив его в экстраординарные профессоры, г. Леонтьев «по крайней своей добросовестности» вознаградит своего учителя. Хорошо и дешево.
Я знаю, что г. Б. М., который выдумал, что «С.-Петербургские ведомости», «Неделя» и «Дело» находятся в «личном владении» у г. Стасюлевича, напишет панегирик бескорыстию гг. Каткова и Леонтьева, а гг. Катков и Леонтьев, «по крайней своей добросовестности», напечатают его в одном из своих органов. Г-н Б. М. распространится, как распространился уже он в «Современной летописи», «о безвозвратных пожертвованиях деньгами и тяжком безвозмездном труде» гг. Каткова и Леонтьева, учредивших лицей будто бы единственно для славы России, не заботясь о своих карманных интересах, хотя 900 руб. годичной платы за воспитанника пойдут, несомненно, в общую кассу бескорыстных редакторов «Московских ведомостей».
Г-н Незнакомец трактует г. Б. М. очень невысоко и говорит:
Он развлекает своих господ Леонтьева и Каткова подьяческими шуточками вроде: «едет чижик в лодочке в генеральском чине, не выпить ли водочки по этой причине» Господа смеются, а г. Б. М. рад: почему же господа смеются? По легкомыслию, конечно, не подозревая, что «чижики в генеральском чине» суть не кто иные, как гг. Катков и Леонтьев, а «лодочка», на которой они едут, «Московские ведомости»; их лакеи и камердинеры, «по этой причине», пьют водочку и напиваются до того, что теряют разум, пишут панегирики доносам и отождествляют редакцию «Московских ведомостей» с министерством народного просвещения. Г-н Б. М. прямо говорит, что тот, «кто считает редакторов „Московских ведомостей“ злыми обскурантами и гасильниками светлых педагогических идей, несомненно должен считать таковым же и нынешнее управление народного просвещения». Вот они каковы, эти «чижики в генеральском чине», вечно отождествляющие себя то с целою Россиею, то с разными ведомствами. Самолюбие поистине громадное, хоть и не приставшее чижикам в генеральском чине, которые привлекают к себе не пением, а «щелканьем», как настоящие чижи, и, как настоящие же чижи, выбирают для своего щелканья вершины леса, как места совершенно безопасные. Настоящие чижи отличаются ловким устройством своих гнезд; чижи в генеральском чине тоже прекрасно устроили свое гнездо из веточек «Московских ведомостей», мха классического лицея, прутиков «Русского вестника» и лишаев Московского университета. Настоящий чиж совершенно особенным образом порхает перед самкою, как будто не может летать как следует. Чижи в генеральском чине тоже подобным образом порхать умеют, в особенности г. Леонтьев, порхающий перед университетом, профессоров которого он хочет приручить к своему лицею. Быть может, найдутся читатели, которые, по добросердечию, в самом деле поверят, что этим чижам в генеральском чине плохо, что они «безвозвратно тратят деньги» и поднимают «тяжкие безмездные труды». Таким читателям я повторю слова Брема, сказанные им о чижах настоящих: «Чижи, прилетающие зимою на дворы, далеко не так достойны сожаления, как думают некоторые нежные души, потому что чижам очень хорошо». Смею уверить, что и чижам в генеральском чине очень хорошо, и это блаженное состояние их продлится до тех пор, пока общественное равнодушие не пробьет дыры в их лодочке и не снимет с них генеральского чина.








