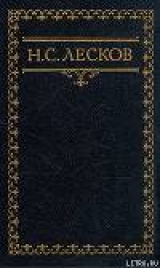
Текст книги "Заметки Н. Лескова (сборник)"
Автор книги: Николай Лесков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Бригадирше даже весело стало, и она даже жалела, для чего не с ним, а с попом первый совет советовала, и зато, чтобы ему не быть перед попом в обиде, самого на ворок посылала, чтобы сам взял себе там любого коня, на которого только глаз его взглянет.
Но дьякон умнее себя показал и похвалами не обольстился и коня выбирать борзяся не кинулся, да не будет у старшего зависти.
– А желаю, – говорит, – я себе что скромнейшее – получить с твоего скотного двора молочную коровку сновотелу, и с теленочком, да пусть будет промеж нас двоих такое в секрете условие, что получать мне от тебя из рук в руки к успенью и к рождеству по двадцати рублей на сына в училище, чтобы ему лучше жить было, и он бы, подобно всем, на харчи не жаловался. А я это стану брать и весь наш секрет соблюду во всей тайности.
То слыша, бригадирша отвечала:
– Однако же ты, вижу я, себе не враг, и хитрости твоей даже опасаться можно.
Но дьякон ей:
– Себе никто не враг, но моей хитрости тебе бояться нечего: я тебе уготовился яко же конь добр в день брани и сам через тебя от господа помощь приемлю.
Она же хотения его совершила, но чрез все остальные дни свои имела к нему большую престрашку, а о сочетавшихся Луке и Пелагее – ниже сего предлагается.
О слабости чувств и о напряженности оных
(Двоякий приклад от познаний и наблюдения)
Благочинный градских церквей не от себя предлагал, что замечено некое охлаждение религиозных чувств, а для того, чтобы священники к трогательному покаянию как можно чувствительнее кающихся убеждениями располагали и через то как их спасение, так и свое уважение в обществе делали вероятнее. Но когда о сем все судить начали и речь дошла до уст отца Павла, то он, предлагая загвоздку, сказал:
– Как это «располагать»? И еще же мне неизвестно: какие результаты весьма сильная напряженность чувств дать может. Она может потребовать повсеместного всем выражения правды и обличения без всякого на лица зрения; но кто же снесть это может, особливо средь тех, иже рекутся «столпы»?.. Ныне не тот уже свет, как было при пророках, что и самого Ахава за колеса останавливали и даже в коляску к нему босиком поскакивали. Век наш во всем любит, чтобы были умеренны, и следует в нем живущим умеренность предпочитать прочему. Да и нам самим, худым иереям бога вышнего, не хуже ли было бы, если свет преисполнился бы непомерною страстностию. Я о себе скажу, что смотрю на это как опытный кухарь, знающий трапезующих по пословице: «недосол на столе, а пересол на спине», и сие одобряю.
А когда отцу Павлу все иные стали возражать и настаивать, что горячность более духовенству принести может, то он не согласился и предложил два предлога, которые всех раздумать заставили.
– Были у меня, – сказал отец Павел, – двое чад духовных: один открытый недоверок из столичных высланцев, непозволительного характера и мыслей, который мне о вере своей и настоящих упованиях в другой жизни никогда не говорил иначе, как по символу: «чаю воскресения» и «аминь». А была же другая, женщина сердовых лет, всегда благочестию учащаяся, но николи же в разуме истины приидти могущая. Та всегда мне весьма пространно веру свою излагала и грехи в мельчайших подробностях высказывала, и то не по единожды в год, а по трижды мне подносила. – Как же вы думаете: с которым из сих двух чад моих у нас наиближайшие и приятнейшие духовные отношения стали?
Все отвечали:
– Разумеется, с дамою, которая сильнее верила и говенье любила.
А отец Павел опроверг и сказал:
– Вот то-то и есть, что наоборот! Тот петербургский недоверок, когда он ко мне подходил, ибо обязанность чувствовал, то я его всегда поначалу спрашивал: «Ну, как ваше дело?» Он участие к нему принимал сухо и, бывало, кратко ответит: «Не знаю». – «Надеетесь ли?» – «Как же, говорит, все тем только и живут, что надежда им лжет детским лепетом своим». А я на него, бывало, не сержусь, а похвалю: «Надейтесь, говорю, это хорошо: вера, надежда и любовь – это три христианские добродетели, но любовь больше всех. А потому следуйте, не смущаясь, заповеди спасителя нашего: и любите и врагов ваших, и ненавидящим вас творите благая». И с тем его, бывало, отпущу; а когда, по возвращении домой, сняв рясу, начну отрясать из ее кармана принятое, то знаю, что находящаяся в числе прочем краснуха всегда от сего непокорного пришла, и более я с ним во весь год ровно никаких хлопот не имею. – Дочь же моя, по трижды в год себя облегчавшая, когда приходила, то такое множество грехов за свободою своею открывала, что я даже ни одного совета ей дать не мог, ибо постигнуть не был в состоянии: коим она духом злее беснуется? А за все то находил в кармане одну мелкую серебряную монетку от нее, увернутую в розовой бумажке с надписью: «Помяните в своих молитвах дочь вашу такую-то». – И, кроме того, еще те досаждения причиняла, что когда каким-либо грехом была попрекаема, то всегда подозревала, что то отец Павел открыл ее исповедь, и прибегала справляться и расспрашивать. А когда же однажды, выведенный ее стремлением говорить о своих грехах, отец Павел ей нетерпеливо заметил: «Вы блудливы, как кошка, а торопливы, как заяц», – то она вскрикнула:
– Ах вы преступник! Вы самый секретный грех моей исповеди выдали!
Тогда, несмотря на свое бесстрашие, отец Павел дал ей собственных своих десять рублей под честное слово, чтобы она избрала себе другого для ее тайных грехов сохранителя, а в противность пригрозил ей, что по рассеянности своей может ошибочно присвоить ей один из тех грехов, которые Макар отмаливает, стоя па коленях среди стада пасомых им в отдалении телят.
И тем лишь от горячности ее избавился…
Об иностранном предиканте
Помещик нашей губернии, служа с юных лет своих в досточтимом гвардейском полку, провождал там жизнь свою столь прилично, как и прочие военные гвардейского общества. Он всегда исправно говел и однажды в год сподоблялся святых тайн в полковой своей церкви – и жил во всем как и прочие дружные и верные товарищи, ни в чем не отклоняясь ни от умеренного употребления вина, ни от общеупотребительной игры в клубах, ни от прочих удовольствий, полковому званию свойственных. Женясь же на девице некоторого русского же именитого рода, но с пристрастием к иностранным обычаям, вдруг престранно изменился. В одно лето поехал он с женою к ее родным, пребывавшим на близком к аглицким берегам острове Уайт, и, повстречав там много людей не духовного звания, но о религии рассуждающих и весьма начитанных в св. писании, сам их примером стал увлекаться и толковать себе иное не столь послушливо, как учит мать наша, святая вселенская церковь, а каждый по-своему, и все воедино твердословя, якобы всему благому на земле можно быть токмо от веры в господа Иисуса и от любви к грешным, за коих проливалась святая кровь его на Голгофе. – После же принятия такого духа все усвояли будто какую-то неопределенную радость и многие неизвестно о чем плакали и в жизни своей делали над своими привычками перевороты: не пили вина, не курили, не гневались и больше всего любили благоговение и чистоту.
Учением сим помещик, как бы Савл, озаренный, возмнил себя уже видящим небо отверсто и стал проповедовать другим; а на следующее лето вызвал к себе познакомленного на том острове нарочитого предиканта, который тоже не курил и не пил ни вина, ни сикера, но детей имел область и возил их всех при себе вместе с женою, а с духовенством насчет их главных дел практики ни о чем решительно спора иметь не хотел, ибо боялся верно, что нозе его в тесные колоды забьют или на скользком пути поставят. Он стал оспособлять хозяев, как наилучше говорить с простыми людьми о вере и как обращать их к вере во Иисуса, а о всем прочем в церквах важнейшем умалчивал и о жизненных доходах православного духовенства от треб для спасения душ верующих даже вовсе пропускал.
Духовные, скоро это заметив, доложили владыке, чтό это такое и к чему клонит в неотдаленном времени.
Услышав, что все это в наших палестинах совершается, владыка пришел в превеликую гневность, которая не была отнюдь подобна пылкому и суетливому гневу светских правителей, а, возгреваема духом благочестивой ревности, твердо и непреложно к поревнованию пламенела. Дерзость же тех ожесточенных дошла до того, что они своего предиканта из деревенского дома даже в городской дом привезли и здесь всем дамским синклитом его слушали у предводительши, званной за свое изящное лице Еленою Прекрасною. И что еще более, при тех предикациях был в послухах отец Георгий, то есть тот дамский духовник, который посвящен из княжеских заграничных учителей и иностранными диалекты объяснялся.
Как скоро все сие стало владыке известно, то он в величии гнева своего не захотел нимало этого дольше терпеть и, велев заложить карету, сам поехал к губернатору; но на езде раздумал прежде проверить все расспросом бывшего на предикации отца Георгия. Тогда он повелел ехать к его дому, чего тот священник не ожидал и даже до того не допускал, что, увидя в окно остановившуюся карету и особу в ней помещающуюся в голубом атласном одеянии, полагал, что это не к нему, а к соседям купчиха в салопе, и не трогался и оставался покоен. Когда же, наконец, известился о настоящем значении гостя, то выбежал к нему на всходы, встречу ему сделал и кланялся и вел его под руки, направляя к скоро заказанному в гостиной чаю. Но владыка, будучи не в гостином настроении, не чаю ожидал, а, ревнуя высшему, высшего и усматривал; и потому обнаружил нарочитую сухость, так что даже в гостиные покои вовсе не взошел, а сел не обинуясь со входа в предпокое, где ожидающие простые просители в ожидании просимого ими у священника снемлются. И тут с удивлением в голосе и в устах спросил без предисловия:
– Вы ли Алену исповедуете?
Но поп, будучи светск, показал хитрость и сделал выражение, как бы не понимая о ком следует, и довел до того, что владыка по настоящему имени предводительшу назвал.
Тогда он отвечал:
– Да, владыка, Елена Ивановна есть моя духовная дочь.
– Запрети же ей принимать у себя этого иностранного развратителя.
Но поп снова представил, как бы не понимает, и побудил владыку точно так же по имени назвать предиканта.
Тогда отец Георгий отвечал, что он такого запрещения сделать не отважится.
– А для какой причины?
– Для нескольких причин, ваше преосвященство.
– Поясните оные.
Отец Георгий стал пояснять.
– Первая моя причина, – говорит, – та, что моего запрещения могут не послушаться, и я тогда буду через то только в напрасно постыждающем конфузе.
– Неубедительно, – отвечал владыка. – Это не что иное как гордость ума. Излагайте другое.
– Другое то, что предиканта того «развратителем» назвать будет несправедливо, ибо он хотя и иностранец, но человек весьма хороших правил христианской жизни и в предикациях своих располагает сердца ко Христу, а никаких церковных сторон не касается.
– Гм, гм! Вон вы как!.. А третье что?
– А третье, осмелюсь буду представить вам, владыко, то, что духу веры православной не свойственно страшиться робко всякого мнения в чем-либо несогласного, а, напротив, ей вполне свойственно похвальное веротерпимство и свободное изъяснение и суждение, как и у апостола на то совет находим: «Все слушать, а хорошего держаться».
Но сей третий довод владыка дослушал с кипящим нетерпением и, скрытно в душе на говорящего негодуя, отвечал:
– Да… То весьма хорошо, что вы мне привели нечто и от апостола… А не приведете ли вы еще чего-либо во изъяснение, по скольким причинам у вас власы главы вашей постоянно кратки и а-ла-мужиком кружат, а назарейской долготы не досягают?
– Не знаю, – отвечал Георгий.
– Не подстригаете ли вы их о молодом месяце?
– Подстригаю.
– Напрасно.
– Я делаю это потому, что многие говорят, будто, если концы волос о молодом месяце подстригать, то от того ращение гораздо шибче бывает.
– Оставьте – это неверно… А я вот сейчас прямо от вас поеду к губернатору, да скажу, чтобы он этого предиканта за хвост да за заставу.
Но отец Георгий, как робости подчинения не приученный, отвечал:
– Опасаюсь, что вы сделаете это напрасно.
– Это почему?
– Потому, что губернатор его за хвост и за заставу выбросить не отважится.
– Это почему?
– Во-первых, потому, что он ничего достойного выгнания не сделал.
– Это ничего не значит.
– Во-вторых, что он хорошего рода и уважения, и чрез то в европейских государствах нам вредные слухи распространены будут.
– И сие мне нимало не важно.
– А в третьих… губернатор сам вчера у Елены Ивановны вечером предиканта, за ширмою сидя, слушал…
Услыхав это последнее, владыка остановился и сказал:
– Так для чего же вы мне об этом последнем с самого начала не сказали?
И с сими словами, вместо того чтобы идти, как прежде намеревал, к выходной двери, перешел с веселым видом в гостиную и на ходу ласково молвил:
– Если так, то и мне наплевать! (Разумеется, презрение сие касалося предиканта.)
Засим владыка кушал чай и мадеру и в доброте своей шутил о деде своем, бывшем дьяконе, который, при введении в моду нового ксересного вина, этой новизне противлялся и ему внушал: «Имей веру – пей мадеру».
Особы духовного происхождения и в светском быту иначе уважаются
Губернатор, предполагая сделать у себя званый для всех лиц обед, передал своему правителю писаный список – кому надлежит послать приглашения. И как губернатор был очень занят делами, то он писал скоро и обозначал лица очень кратко, как-то например: «непремен. члену», «директору», «архирею». А правитель, тоже не менее занятый, и считая, может быть, что надписание приглашений по реестрику есть дело очень простое, поручил это сделать двум канцелярским – одному старшему и уже в чине, а другому младшему, который всего один год служил и чина еще не имел. Молодцы эти были: один из воспитанных светских школ, кузин институтской дамы, которой от губернатора особое почтение оказывано, а другой простой – из семинарии в приказные вышедший. Первый из сих, то есть кузин, обладал значительною легкомысленностию, а второй общепринятою в духовных училищах грубостию. И когда они два оставлены были при своих занятиях, чтобы печатные приглашения надписывать по кратко начертанному губернатором списку, то начали делать это кое-как – так что кузин, имевший плохой почерк руки, только произносил – кому адресовать, а тот простой, что из семинаров, под его диктант четким характером пера надписывал. – И оба они спокойно располагали, что умудрились прекрасно; и, скоро все листки надписав, отдали их верховому жандарму, который склал пакеты в кожаную суму и, надев на руки белые рукавицы, повез их возить по надписанию. Но надписание сделали как раз так, как губернатор со скоростию черканул в чернетке – то есть, например: «непременному члену», «директору» и «архирею». Так же было надписано и всем прочим, без всякого внимания к их заслугам и полному титулу должности. Так светский кузин диктовал, а грубый семинар, нимало сумняся, надписывал. Светские чины приняли это с тонкой политикой, как бы не заметив, но архиерей по внимательности своей заметил, и хотя, уважая зов губернаторский, в дом к нему приехал, но при возвратной отдаче ему губернатором визита, на прощании с ним, вынул из своего кармана разорванный пакет с краткою надписью «архирею» и обратил его внимание на эту неуважительность.
Губернатор очень сконфузился и извинялся, и говорил:
– Владыко, простите и позвольте мне этот пакет, я все дело исследую и виновника строго накажу.
Владыка отвечал:
– Нет, к чему это? Я таких наказаний не требую, – но пакет отдал.
Губернатор же, приехав к себе в дом, тотчас призвал своего правителя и много кричал: «как это можно сделать, что надписать просто архирею? Разве вам нестерпимое монашеское самолюбие неизвестно? Сейчас мне узнать, кто в этом виновен, и того по надлежащему пункту со службы выгнать!»
Но, услыхав от управителя, что виноват в этом не один, а двое, и именно один кузин его знакомой институтской дамы, – губернатор тот же час первое пылкое решение отменил, а велел обоих виновников самолично представить архиерею, чтобы они просили у его преосвященства в своей ошибке прощения.
Правитель поступил, как ему насчет молодцов велено было; он призвал обоих тех скорохватов и велел им хорошо одуматься и изготовиться, как отвечать, а завтра явиться к архиерею для испрошения себе прощения. – Сам же правитель, явясь ко владыке, тоже в недосмотре своем извинялся и сказал, что оба виновника умаления сана присланы будут для нижайшего прощения. Причем просил, что, может быть, его преосвященство сделает им свою нотацию, чтобы знали, что только для его просьбы их не исключают.
Владыка сказал: «хорошо» и благословил прислать к нему виновников умаления в десятом часу на другой день.
Те и предстали – оба в форменных фраках на все пуговицы, в черных штанцах и причесаны гладко, а не по моде.
Владыка скоро к ним вышел без задержки, благословил обоих и заговорил ласково. Кузину, который только в том виноват был, что диктовал писать коротко «архирею», владыка сказал, что в быстром разговоре это для краткости еще простительно, но с надписывателем, который был из простых, беседовал обстоятельнее, и притом постепенно изменяясь и возвышая.
Поначалу владыка спросил:
– Как вам фамилия?
Тот отвечал: «Крыжановский, ваше преосвященство», ибо ему действительно такая была фамилия.
Владыка заметил, что это фамилия очень обширная:
– Крыжановские есть малороссийцы, есть и евреи, и также из польской шляхты, а также купцы, и дворяне, и низкого звания. – Вы, верно, из поляков? Поляки вежливостью отличны.
– Никак нет, – отвечал Крыжановский, – я не из поляков.
– Из евреев? Есть с образованием.
– Тоже нет, ваше преосвященство: я из малороссиян.
– Эти простодушны. Вы в кадетах обучались?
– Никак нет, – я учился в духовной семинарии.
– Как! – воскликнул владыка, – в семинарии!!
– Точно так, ваше преосвященство.
– Так ты из духовных?!
– Священнический сын.
– Ах ты, бестия в новоместии! Кузин! удалитесь тотчас за дверь.
И когда кузин удалился в другой предпокой, то в ту же минуту услыхал нечто особенное, после чего Крыжановский тотчас же вышел, поправляя прическу, и объявил, что он владыкою прощен совершенно.
Остановление растущего языка
Благо и преполезно будет всякому, как верующему, так же и неверующему, услышать, что в настоящей поре, когда мы живем, рука чудодейственная не токмо не сократилась и силы ее не устали, но наипаче безумие умных и гордость непокорных преданиям плющит и сотирает.
В смежной с нами епархии был один архимандрит, имея уже себе от роду более сорока лет, и славился начитанностию во всех науках и все свое время провождал за книгами. Но хотя при совершенно неохужденном его поведении ему то долго не вредило, но потом он вдруг объявил, что снимает с себя сан ангельский, и священство, и архимандритство и желает в мир простым человеком. Быв же через немалое время увещеваем такие свои намерения оставить, оных не оставлял и даже не хотел иметь в виду того, что свет его может просветиться пред человеки: ибо его впереди может ожидать викариатство и вскоре потом полная епархия, когда благодать духа святого опочиет на нем в преизбытке и чрез возложение рук станет изливаться на многих. Но ко всему этому несчастный оставался непреклонным и даже вопрошавшим его о цели замысла не давал полных объяснений – почему такое ужасное вздумал? Напротив, все ответы его были с обидною краткостию и обличали только как бы его скрытность и лукавство, ибо говорил: «Не могу: ярем, чрез омофор изображенный, весьма свят, но для меня тяжек, – не могу его понести». При напоминании же о том, что совлекает с себя чистоту чина ангельского и опять берет мрачную кожу ефиопа, отвечал:
– Нет, я познал себя, что нет во мне ничего ангельского, а есмь токмо простой человек со всеми слабостями и к таковым же равным мне простым людям жалость сердца чувствую и обратно стремлюся, да улучу с теми равные части как в сей жизни, так и в другой, о коей не знаем.
Тогда пронеслись некие обидные для него клеветы, что будто затем расстригается, что идет в мужья к престарелой вдове купчихе, которой муж его весьма почитал; но он ни на что сие не посмотрел – расстригся и вышел из монастыря весьма тихо и братолюбиво, но только клобук бросил под лавку. Однако и то еще не достоверно и тоже к намерению оклеветать отнести можно. Затем он уехал и стал жить в другой губернии, где никого не имел ни ближних, ни искренних, и тут действительно скоро начал получать многие убедительные письма от дам, которые, странною к нему фантазиею уносясь, предлагали ему сами себя в супружество, не искавши никаких обольстительных удовольствий света, а, напротив, чтобы делить с сим расстригою все, что встретят на пути его дальней смятенной жизни. Враг рода человеческого, диавол, чрез женщин обыкший строить злое, привлекал их к сему приманчивою кротостию его духа, которую тот являл, вероятно, не столь искренно, сколько притворно, но с постоянною неизменностию. И дошло это душевное влечение к его мнимой доброте со стороны особ другого пола до того безумия, что в числе писем, оставшихся после смерти расстриги, было одно от женщины настоящего высокого звания русских фамилий, которая даже называть его прежнего сана не умела и заместо того, чтобы писать «архимандрит», выражалась: «парфемандрит», что ей было более склонно к французскому штилю. Он же так скрепился опровергнуть о нем предположенное, что все эти предложения отклонил и с терпением всякой его искавшей с ласковою мягкостию изъяснял, что будто вовсе не для того монастырь оставил, чтобы ринуться в жажду удовольствий, а хочет простой, здравой жизни по благословению божию, в поте своего лица и не в разлад с своею верою и понятиями.
И так и в действительности себя наружно соблюдал, живя в мире, точно как бы даже не снял с себя ни одного монашеского обета, – содержал себя на самое скудное жалованье и жил приватным учителем при фабричной школе. Но как он был расстрига, то большого хода ему все-таки не было и почтением и доверием от православных простолюдцев он все-таки не пользовался, особенно в рассуждении преподавания божественного закона и молитв. Да и утверждения он на месте учительском не получал, и впоследствии, для избежания чего-нибудь, вовсе был отказан и придержался границ двух смежных губерний, и перебегал так, что когда его в нашей за учительство ловили, то он спасался бегством в соседнюю, а когда там о нем духовенство светские власти извещало и становой его искать и связать приказывал, то он, спасаясь, опять в нашу границу снова возвращался и здесь опять учил детей не только за всякую плату, но столь своим пристрастием был одержим, что и без всякой платы учил чтению святого письма и наводил мысли на нравственность и добротолюбие.
Так, неизвестно что в целях своих содержав и с ними в беспрерывных бегах с одного места на другое постоянно крыясь, расстрига сей многих грамоте научил и наставил, по видимости, не в худших началах жизни; но, проживая весною в водопольную росталь в каменной сырой амбарушке при оставленной мельнице, заболел, наконец, тою отвратительною и гибельною болезнию, которая называется цынгота, и умер один в нощи, закусив зубами язык, который до того стал изо рта вон на поверхность выпячиваться, что смотреть было весьма неприятно и страшно. И пока ему гроб сделали и его в оный положили, престрашный язык его все рос более вон, и мнилось уже всем, что и крыши гроба на него иначе наложить нельзя будет, как разве оную просверлив и язык сквозь оную выпустив. Но, по счастию для перепуганных сим посельчан, случился к той поре на селе некий опытный брат, приезжий из недальней обители за нуждою монастырскою. Тот, увидев сие, покивал головою и сказал: «Брате, брате! Чего доспел еси!» И, обратясь, молвил: «Видите, яко есть бог и он поруган не бывает».
Крестьяне отвечали: «Видим», – и просили: «Аще ли твоему благочестию возможно есть, то помоги, отче!..»
Он же спросил:
– А что ми хощете дати?
Они же отвечали:
– Что сам потребуешь, – все пожертвуем: только много не спроси, ибо худы есьмы и многого не имеем.
Брат же спросил только постного угощенья по силам и денег, сколько надобно на устроение новой камилаухи с воскрылиями. Крестьяне сказали: «Это – согласны».
Тогда брат, сняв с своей камилаухи ветхие, порыжелые воскрылия, вверг их в гроб и покрыл совершенно лице мертвого, сказав: «Приими то, от чего сам неразумно отпал». И ращение обличавшего расстригу языка его в ту же пору стало невидимо и прекратилось, и гроб, по благословению брата, был предан земле без необходимости сверления крыши, и поучительный случай сей везде старанием брата распространился, и темные крестьяне получили полезный урок – сколь доверие детей своих таким доброхотам, как сей расстрига, не безопасно.[1]1
В рукописи против приведенного рассказа другою рукою и позднейшими чернилами сделана на поле следующая приписка: «Хоча ж папера и атрамент все терплять и на свiт выносять, одначе в сей чудасии, сдаетьця, ни бы-то щось таке соплетено то що, мало бути, але и в правде було, з тiм, що николы нигде буты не могло, да и не буде, ни при здешнем грiшном, ни у том будущем святом вiце, его же от господа не достойнии раби собi чаемо».
Под этими строками подпись: «Просфорнык Геронтый» (прим. Лескова).
[Закрыть]








