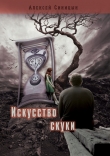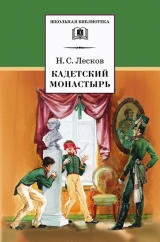
Текст книги "Кадетский монастырь"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Глава девятая
Привидение не было мечтою воображения – оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»*: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения… Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем… Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие, худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.
Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.
Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К – дин взял покойника за нос.
Глава десятая
Увидав это грозное привидение, три оставшихся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К – дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.
Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг и еще шаг, и наконец оно близко, оно подошло к гробу, но, прежде чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К – дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и… перекрестило его…
Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало…
Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро и это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.
Глава одиннадцатая
До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки заупокойной песни.
Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.
Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:
– Боже мой, как она сюда пришла!
Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.
Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастие пережить своего мужа. По крайней слабости она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.
Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.
– С этого случая, – говорил он, – всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

Томленье духа
Из отроческих воспоминаний
Все это томленье духа.
Екклезиаст

В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич, по прозванью Коза. Настоящей его фамилии я не знаю, – он своею наружностью напоминал козу, и все мы звали его заочно Козою.
Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу, в город. Для нас в деревне было несколько учителей: русский, Иван Степанович Птицын с женою, жил во флигеле, и француз, мосье Люи, тоже с женою и с сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле, и еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и драчливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан; тогда на его место был взят Коза, который ранее этого жил уже в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но «с фантазиями». Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать.
Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо, но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока.
Летом раз заехала к дяде, по дороге в свое имение, губернаторша с сыном, мальчиком лет одиннадцати, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал Садовникова сына, мальчика Костю, и стал его спрашивать: кто оборвал сливу? Костя не знал, и на него упало подозрение, что эту сливу оборвал он и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя, но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить, и когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, – что он не вор, а вор вот кто, а мы все дали клятву его скрыть.
Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул:
– Как – клятву?! Как вы смели клясться? Разве вы не христиане?! Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас.
Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил:
– Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо… Это будет к лучшему.
Так все говорил, а сам плакал и потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты.
Куда и зачем побежал – мы не могли догадаться и долго ждали его возвращения, но потом так и уснули, не дождавшись, чтоб он назад пришел; а утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума.
Боже мой!.. Мы так и обомлели… Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума!.. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал?
– А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию, и ему за это отказано.
Фантазия состояла в том, что, взволнованный нашим двойным злочинством, Коза сошел вниз, в гостиную, и, «имея в лице вид бесчеловечный», подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным «бесчеловечным голосом»:
– У вашего сына дурное сердце: он сделал поступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя… Ваш несчастный сын имел силу это стерпеть, да еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непросвещенного сына. Помогите ему открыть глаза, увидать свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить.
С губернаторшею сделалось дурно, и она зашлась в истерике.
Страшно рассерженный происшедшею сценою, дядя вытолкнул Козу за двери и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел.
Мы за него обиделись и сказали:
– Для чего же это «на мужичьей подводе»?
– А то на чем же? – отвечала Василиса.
– Можно было в тележке, в которой на почту ездят.
– Ну как же! Еще ему чего? В этой тележке попа святую воду петь возят… Для чего же его, глупого немца, держать в одной чести с батюшкой? Батюшка за наши грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывезти.
– И за что вы его так не любите?
– За то, что он дурак и вральмен.
– Он никогда не врет, а всегда правду говорит.
– А вот это-то совсем и не нужно! Что такое его правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту и не ко всякому с нею лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой-то закон еще гораздо много пополней ихнего, мы если и солжем, так у нас сколько угодно и отмолиться можно: у нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и Прасковеи. Ему за нас встревать нечего. Зато ему и показали, где Бог и где порог.
– Как же это показывают?
– Где Бог-то?
– Да.
– А поставят человека к двери лицом да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмыг.
– И это, по-вашему, значит – показать человеку, «где Бог»?
– Да. Вон пошел, вот и всё!
– Так, значит, и ему показали, «где Бог»?
– Ну уж как-никак, а показали, «где Бог», и всё тут.
– Что же, он его увидит и… пожалуй, будет рад, что его прогнали.
– Ну уж это пусть его радуется, как ему нравится, нам его жалеть нечего.
Мне было очень жалко Ивана Яковлевича, а сын француза Люи, маленький Альвин, еще более о нем разжалобился. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляники за околицу и там спрятаться в коноплях, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали – побежали и спрятались, но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его везти, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серая мантилья из казинета*, а в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул:
– Прекрасно, дети! Прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту! – И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы.
Мы бросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения – мы и сами того не могли определить, но он помог нам понять и сказал:
– Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться: поклявшись, вы уже перестали быть свободны, вы стали невольниками вашей клятвы… Да, вы уже не имели свободы говорить правду, и вот через это бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором и… может быть, он тогда бы и сделался вором. Надо было это разорить… И я разорил… Надо было бунтовать, и я бунтовал… (Иван Яковлевич стал горячиться.) Я иначе не мог… во мне дух взбунтовался… проснулся к жизни дух… свободный дух от всякой клятвы. и я пошел… я говорил… я стер… я опроверг клятву… не должно клясться… Без клятвы будь правдив… Вот что нужно… нигде и ни перед кем не лги… не лги ни словом, ни лицом!.. Не бойся никого! Что писано в прописи, чтобы кого-то бояться, – это все вздор есть! Иисус Христос больше значит, чем пропись… о, я думаю, что Он больше значит! Как вы думаете, кто больше?
– Христос больше.
– Ну конечно, Христос больше, а Он сказал: «Никого не бойтесь». Он победил страх… Страх – пустяки… Нет страха!.. Даже я!.. Я победил страх! Я его прогнал вон… И вы гоните его вон!.. И он уйдет… Где он здесь? Его здесь нет. Здесь трое нас, и кто между нас?.. А!.. Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос! Он с нами. Что?.. Вы это видите ли?.. Вы это чувствуете ли?.. Вы это понимаете ли?
Мы не знали, что ему отвечать, но мы «понимали», что мы «чувствуем» что-то самое прекрасное, и так и сказали.
Коза возрадовался и заговорил:
– Вот это и есть то, что надо, и дай Бог, чтобы вы никогда об этом не позабыли. Для этого одного стоит всегда быть правдивым во всех случаях жизни. Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите.
– О да, да! – отвечали мы. – Мы вперед не будем ни лгать, ни клясться, но как нам загладить то зло, которое мы сделали?
– Загладить… загладить может только один Бог. Заглаждать – это не наше дело. Любите Костю и напоминайте другим, что он не виноват, что он оклеветал себя от страха.
– Мы все так сделаем, но вы, Иван Яковлевич, куда вы идете? У вас есть где-нибудь свой дом?
Он покачал отрицательно головою и сказал:
– Зачем мне свой дом?
– Ну, у вас есть… семейные… кто вас любит?
– Семейные?.. Нет… И зачем мне семейные?
– Кто же у вас свои?
– Ну, кто свои… кто свои!.. Ну, вот вы мне теперь свои… «свои» – это те, с кем одно и то же любишь…
– А особенно близких разве нет?
– Для чего же особенные? Что это вам такое?.. Надо делать все вместное, а совсем не особенное.
– Но куда же вы теперь отправляетесь?..
Он повел плечами и весело ответил:
– Куда я?.. К блаженной вечности; а по какому тракту – это совсем все равно, только надо везде делать Божье дело.
Мы не поняли, что такое значит «делать Божье дело», и плачевно приставали к Козе.
– Нам жаль, что вам отказали совершенно напрасно.
Он тихо покачал головою и отвечал:
– Нет, мне отказали совсем не напрасно.
– Как не напрасно? Ведь вы поступили всех нас честнее и ничего дурного не сделали.
– Ну вот! Для чего же делать дурное! Это не надо… Но я сделал беспокойство: я сделал бунт против тьмы века сего… и меня нужно гнать… Это уж так… и это очень хорошо!
– Вы это так говорите, как будто вы сами этому даже рады.
– Даже рад! Да, я рад! Я очень рад! Ведь у нас «борьба наша не с плотию и кровию, а с тьмою века – с духами злобы, живущими на земле». Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы, а они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, которые были во всем нас лучше.
– Но за что? За что это гонят тех, кто не сделал никому зла? Это ужасно!
– Ничего, – отвечал, еще больше сияя, Коза, – напротив, это хорошо… это-то и хорошо, что их гонят напрасно: это их воспитывает, это их укрепляет… И неужто вы хотели бы, чтобы меня не так выгнали, как теперь выгоняют за бунт против тьмы века и духов злобы, а чтобы я сам сделал кому-нибудь зло?
– О нет!
– Ну, так что же!.. Значит, все как следует быть… Все прекрасно… Со временем… если вам откроется, в чем состоит жизнь, и вы захотите жить самым лучшим образом, то есть жить так, чтобы духи злобы вас гнали, – то вы тогда будете это понимать… Когда они гонят – это прекрасно, это радость… это счастье! Но… – Он взял нас за плечи и продолжал пониженным голосом: – Но когда они вас ласкают и хвалят… Вот тогда…
– Вы говорите что-то страшно…
– Да, это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь… ищите, чтобы спас вас Отец ваш Небесный.
– Отец Небесный! Но мы ведь не знаем… как это искать, что надо сделать…
– Что́ сделать?
– Чтобы Он нас спас.
– Ага! И я это тоже не знаю… и я это… даже не стою, а Он… – У Ивана Яковлевича в груди закипели слезы, и он стал говорить точно в экстазе: – Я бедный грешник, который вышел из ничтожества, я червяк, который выполз из грязи, а Отец держит меня на своих коленях; Он носит меня в своих объятиях, как сына, который не умеет ходить, и не бросает меня, не сердится, что я такой неумеха, и хотя я глуп, но Он мне внушает все, что человеку нужно, и я верю, что я у Него могу понять как раз столько, сколько мне нужно, и… вы тоже поймете… вам дух скажет… Тогда придет спасение, и вы не будете спрашивать: как оно пришло?.. И это все надо… тихо… Тсс! Бог идет в тишине… Still! [62]62
Тишина, молчание! (нем.)
[Закрыть]
Коза вдруг поник головою, сжал на груди руки и стал читать по-немецки «Отче наш». Мы без его приглашения схватили с голов свои шапочки и с ним вместе молились. Он кончил молитву, положил нам на головы свои руки и с полными слез глазами закончил свою молитву по-русски.
– Наш Отец! – сказал он. – Благодарю Тебя, что Ты вновь дал мне радость быть изгнанным за исполнение святой воли Твоей. Укрепи сердца терпящих за послушание Твоей воле и просвети разумом и милосердием очи людей, нас гонящих. Не оставь также этих детей Твоих надолго в пустыне – дай им войти в разумение и вкусить то блаженство, какое я теперь по Твоей благости ощущаю в моем духе. Дай им понять, в чем есть Твоя воля! – И он еще раз обнял нас, поцеловал и пошел в город совершенно бесприютный и совершенно счастливый, а мы, у которых все было изобильно и готово, стояли на коленях на пыльной дорожке и, глядя вслед Козе, плакали.
Он будто метнул в нас что-то острое и вместе с тем радостное до восторга. Коза на нас что-то призвал, нас что-то обвеяло, мы хотели что-то понять, чтобы кончить мольбой о смягчении сердец, и вдруг оба вскочили, погнались за ним и закричали:
– Иван Яковлич!.. Иван Яковлич!..
Он остановился и обернулся, и показалось нам, будто он вдруг сделался какой-то другой – вырос как-то и рассветился. Вероятно, это происходило оттого, что он теперь стоял на холме и его освещало солнце. Но, однако, и голос у него тоже изменился. Он как-то будто лил слова по воздуху:
– Что вам еще? Что вам?
А мы не знали, что именно хотели ему сказать, и спросили:
– Увидим ли мы вас когда-нибудь?
Он ясно отвечал:
– Увидите.
– Когда же это будет?
Он глуше проговорил:
– Это случится… может быть… совсем неожиданно, а потом это опять не случится, и потом это опять иногда случится… *
Мы, казалось, бежали за ним, а между тем он один шел впереди, а мы все отставали и кричали:
– Где мы увидимся?

Комментарии
Очарованный странник
Впервые – в газете «Русский мир», 1873, 8 августа – 19 сентября под названием «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения. Рассказ. Посвящается Сергею Егоровичу Кушелёву» [63]63
С. Е. Кушелёв – придворный генерал-адъютант, посетивший Лескова для выражения глубокого удовлетворения царственных особ от чтения рассказа «Запечатленный ангел», ставший истинным поклонником писателя.
[Закрыть].
С. 41. Валаа́м– один из островов северо-западной части Ладожского озера, где расположен основанный в XIV в. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
Коре́ла(Корельский городок) – древнерусский город и крепость на берегу Ладожского озера, ныне город При-озерск Ленинградской области.
Чухо́нцы– В России до 1917 г. название эстонцев и финнов, населявших окрестности Петербурга.
С. 43. Послу́шник– монастырский прислужник, готовящийся к пострижению в монахи и взявший на себя обет послушания.
Камила́вка– цилиндрический головной убор черного или фиолетового цвета у православного духовенства.
…в прекрасной картине Верещагина… – Речь идет о картине Василия Петровича Верещагина (1835–1909) «Илья Муромец на пиру у князя Владимира» (1872).
…в поэме графа А. К. Толстого. – Имеется в виду баллада Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) «Илья Муромец» (1871).
…«смолой и земляникой пахнет темный бор» – стих из баллады А. К. Толстого «Илья Муромец».
С. 44. Митрополит Филарет– митрополит Московский и Коломенский (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783–1867).
С. 45. Преподобный Сергий– святой Сергий Радонежский (в миру Варфоломей, 1314–1392), основатель Троице-Сергиева монастыря, «святитель земли Русской»; канонизирован (признан святым) православной церковью в 1452 г.
С. 46. Стратопеда́рх– начальник военного лагеря, полководец (лат.).
Проскоми́дия– первая часть церковной службы.
С. 47. На Троицу не то на Духов день… – Празднование Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи (Пятидесятница), вслед за чем сразу следует праздник Святого Духа.
С. 48. Иеромона́х– монах, имеющий сан священника.
Иеродиа́кон– монах в сане дьякона (проходящего церковное служение на первой, низшей ступени священства).
Рясофо́р– монах низшей степени пострига, готовящийся принять малую схиму, которому благословляется носить рясу и камилавку.
У́ндер– унтер-офицер, самый низший офицерский чин.
Вахтёр– здесь: смотритель при складах или запасах.
Кантони́ст– солдатский сын, обязанный к военной службе.
Ремонтёр– офицер, отправленный из полка для закупки лошадей.
С. 49. РарейДжон (1827–1866) – американец английского происхождения, автор книги «Искусство укрощения и дрессировки лошадей» (СПб., 1859). В 1857 г. демонстрировал свое мастерство в России.
С. 50. Все́волод-Гавриил– новгородский и псковский князь Всеволод Мстиславич (в крещении Гавриил,? – 1138), известный своими ратными делами в Ливонском крае, а также своим попечительством в пользу народа и церкви. В житии оценен как «вдовицам и сиротам заступник и кормитель». На гробнице Гавриила висит меч с надписью: Honorem meum nemini dabo, то есть «чести моей никому не отдам» (см.: Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. М., 1991. С. 60).
С. 50. …в два фу́нта… – то есть весом чуть более 800 г. Фунт – старая русская мера веса, равная 409,51 г.
Мура́вный– покрытый глазурью, стекловидной оболочкой.
С. 54. …граф К. из Орловской губернии. – По всей вероятности, речь идет о генерале от инфантерии Сергее Михайловиче Каменском (1771 или 1772–1835), жившем в Орле с 1822 г. По многочисленным свидетельствам, отличался самодурством и жестокостью. Его Н. Лесков изобразил в рассказах «Тупейный художник» (1883) и «Театральный характер» (1884).
Варо́к– огороженный двор при конюшне.
Старинная синяя ассигнация. – Имеется в виду пятирублевая купюра синего цвета, выпущенная в 1786 г.
С. 55. Форе́йтор– верховой кучер на одной из передних в шестерке лошадей.
Битю́цкие– битюги – русская порода лошадей-тяжеловозов, получившая название по р. Битюгу Воронежской губернии.
Оборкаться– привыкать.
С. 56. Кофише́нок(кофеше́нк) – дворный чин смотрителя за приготовлением кофе, чая, шоколада и т. и.
…сто и сто пятнадцать верст… – то есть около 106 и 122 км. Верста́ – старая русская единица измерения расстояния, равная 1 066,8 м.
С. 57. 77… пу́стынь. – Имеется в виду, видимо, Предтечева Яминская пустынь Трубчевского уезда Орловской губернии.
С. 59. …в Воронеж, – к новоявленным мощам… – Очевидно, речь идет об обретении в 1832 г. мощей первого воронежского епископа Митрофана (1623–1703).
С. 67. …триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию… – то есть бумажными деньгами, которые оценивались в 1830—1840-х гг. в 27 копеек серебром за один рубль ассигнацией.
…от Митрофа́ния… – то есть из воронежского Благовещенского Митрофаниевского монастыря.
С. 68. Никола́ев– город на юге Украины.
С. 70. Дыбки́ стоять– вставать на ноги (о начинающем ходить ребенке).
А́глицкая болезнь– рахит.
С. 71. Сараци́ны– здесь: мусульмане.
С. 79. Сура́– правый приток средней Волги.
Хан Джанга́р– хан Букеевской киргизской орды, кочевавшей в пределах прежней Астраханской губернии; был известен как крупный торговец лошадьми.
Рынь-пески– массив песков в низовьях Волги.
С. 81. Сели́кса– село в 12 км на восток от Пензы.
С. 82. Мордовский Иши́м– село в 40 км на восток от Пензы.
С. 84. Курохта́н(турухта́н) – птица отряда куликов.
С. 86. Квит– кончено, конец ( устар.).
С. 87. Спрохвала́– кое-как, без большого усердия.
С. 89. Кара́ковый– самый темный вариант гнедой масти лошади, почти вороной, с подпалинами.
С. 92. Сабу́р– выпаренный сок алоэ.
Калга́нный корень– корневище многолетнего травянистого растения рода лапчатка, используемое в медицине.
С. 101. Хлупь(хлуп) – кончик крестца у птиц (охот.).
С. 109. …из Хивы… – Хива, или Хивинское ханство (на терр. совр. Узбекистана и Таджикистана) в 1830– 1850-х гг. было враждебно настроено к России.
С. 114. Кереме́ти– в чувашской мифологии живущие в деревьях добрые духи.
С. 130. …что Иов на гноище… – В Библии (книга Иова) рассказыватся о том, что Бог, желая испытать веру Иова, позволил Сатане лишить его детей, богатства и поразить проказой, так что тот был вынужден уйти из города и сидеть в пепле.
С. 133. Лонтры́га(лантри́га) – мот, гуляка.
«Краса природы совершенство»– первый стих из стихотворения неизвестного автора «Краса! Природы совершенство…», некогда приписывавшегося ряду известных поэтов (см.: Вольная русская поэзия XVIII–XIX вв. М., 1975. С. 236).
С. 134. …в Четмине́ях нет. – Че́тьи мине́и – сборник расположенных в хронологическом порядке житий святых, предназначенный для чтения на каждый день.
С. 141. …и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, – только одних белых лебедей нет. – Имеются в виду ассигнации различного достоинства: пятирублевые – синего цвета, десятирублевые – серые; двадцатипятирублевые – красные; сторублевые и двухсотрублевые – белые.
С. 143. «Челнок»– романс на стихи Д. В. Давыдова «И моя звездочка» («Море воет, море стонет…», 1834).
С. 147. Ко́ник– ларь с подъемной крышкой для спанья.
С. 155. Воро́к– хлев.
Обельма– множество, куча.
Велика́титься– важничать, отличаться приличным обращением.
С. 160. Анфа́н (фр. enfant) – дитя.
С. 162. …у Макария стоит ярмарка… – Имеется в виду известная ярмарка в г. Макарьеве при Макарьевском (Желтоводском) монастыре; в 1817 г. была переведена в Нижний Новгород, сохранив свое название.
С. 170. Перезния́ть– истлеть.
С. 171. Маре́новый– окрашенный краской из растения марена, ярко-красный.
С. 176. А́ндия, Ава́рия– историко-географические области Дагестана.
Сула́к– река в Дагестане.
С. 179. …пустили меня с Георгием… – то есть наградив орденом Святого Георгия.
С. 180. В балагане на Адмиралтейской площади. – Речь идет об устраиваемых (до 1873 г.) на Рождество и Пасху деревянных балаганах для театрализованных представлений на Адмиралтейской площади в Петербурге.
С. 184. У Якова-апостола сказано… – неточная цитата из «Соборного послания святого апостола Иакова» (гл.4, ст.7).
С. 188. …на Мокрого Спаса… – то есть на праздник Первого Спаса, называемого также Медовым, отмечаемого 1 августа по старому стилю.
С. 190.. .читать Житие преподобного Тихона Задонского… – Далее следует отрывочный пересказ из Жития Тихона Задонского (см.: Записки о святителе Тихоне его келейников Василия Ивановича Чеботарева и Ивана Ефимова. М., 1874. С. 23).
С. 191. …в Соловки к Зосиме и Савватию… – то есть в монастырь, основанный в XV в. на Соловецких островах преподобными Зосимой и Савватием.