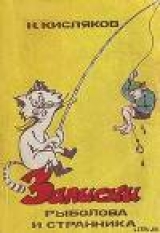
Текст книги "Записки рыболова и странника"
Автор книги: Николай Кисляков
Жанр:
Хобби и ремесла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Вот и река блеснула, пропала за деревьями, наконец, показала себя во всей красе – обширным плесом, великолепным пляжем на моем, правом берегу, страшноватой чащей леса низкого левобережья. Отсюда вдоль левобережья тянутся дубовые леса – Слащевская дубрава. Где-то в этой дубраве скрывался Григорий Мелехов…
Приветливо улыбаясь, неторопливо выкатывается из-за леса раскрасневшееся солнышко.
На той стороне уже бродят с удочками два мальчугана. Есть ли другая какая страсть, кроме рыбалки, которая могла бы поднять их спозаранку? И все это ради того, чтобы притопать домой голодными и усталыми, получить трепку от матери за самовольство и бросить ожиревшему ленивому коту несколько верхоплавок на кукане. Еще два рыболова, эти совсем пожилые, хотя можно не сомневаться, что души их касательно рыбалки остались ребячьими, примостились на лодках-долбленках посредине реки, привязавшись к кольям. Колья забраны талой – что-то вроде плетня получается.
Я родился и вырос на Дону, немало других рек повидал, но нигде не встречал лодок, выдолбленных из ракита. Позже убедился, что такие лодки – непременная принадлежность хоперских берегов. На пляже снимаю кеды, бреду по-щиколотку в парной воде. Благодать! Верно заметил Аксаков: «Все в природе хорошо, но вода – красота всей природы».
Те, на лодках, все чаще суетятся, вот уже и подсачек пошел в дело… Надо бы и самому попытать счастье, но у меня все впереди, а пока – в путь, хочется поскорее увидать, что скрывается вон за тем близким поворотом реки.
По высокому обрывистому берегу тропинка поднимается наверх, бежит средь дубового редколесья, мимо густых кленов, осторожно огибает заросли шиповника, змеится возле самой кромки обрыва.
За поворотом недалеко от берега снова долбленка. На лодке скульптурным изваянием застыла фигура рыболова в широкополой соломенной шляпе. Тихонько, стараясь не шуметь, присаживаюсь на пенек, закуриваю.
Сколько их, рыболовов, обретается на малых и больших реках, сколько их, живущих несбыточными мечтами и надеждами, огорчениями и радостями.
Рыбалка – болезнь неизлечимая. Исключения только подтверждают правило. Я знал одного чудака, которого стали преследовать на рыбалке неудача за неудачей. Его уловы не могли прокормить даже кошку. Тогда он решил покончить с этим занятием навсегда. Потом его исследовали психиатры, и разумеется, нашли серьезные отклонения от нормы.
Есть злые языки, считающие рыбалку родом тихого помешательства, занятием слабоумных. Можно не сомневаться – эту гнусную клевету распространяют завистники, черствые сухие завистники, стыдящиеся даже воспоминаний детства. Заметьте, их не удивляет, когда слабоумные берутся за дела, требующие ума и обширных познаний. Напротив, они с восхищением говорят о недалеких карьеристах, достигших успеха. У них есть на этот случай готовая формула, омерзительная в истинном своем смысле: «Умеют люди жить». Здесь и зависть, и восхищение. Это они, поддевая вас локтем под девятое ребро, нахально ухмыляются, говоря: «Хочешь жить – умей вертеться».
Иные, которые душой помягче, окрестили рыбалку праздным времяпрепровождением. Какая там праздность! Помнится, однажды я провел летний отпуск на Дону с женой и сыном. Каждый день я вскакивал с постели ни свет ни заря, чтобы успеть к утреннему клеву. Я регулярно оставался без завтрака, с сожалением делал короткий перерыв на обед, а ужин вместе с мелкой рыбой отдавал кошкам. Кошки, прознав о моей слабости, сбежались во множестве со всей округи. Пока их благодетель сидел в лодке, кошки стерегли его на берегу, устраивая между собой отвратительные ссоры. Жена тоже не оставалась без дела. Весь ее отдых заключался в том, что она чистила, варила, жарила и солила рыбу. Одичавший малолетний сын бродил где-то в прибрежном лесу.
Подобная жизнь делает рыболова мобильным, легким на подъем. Он почти перестает опаздывать на работу, побеждает чревоугоднические наклонности, становится щедрым, отзывчивым, а таких очень любят в коллективе.
Неожиданно чуть ниже лодки у самого берега показывается и быстро исчезает глянцевая спина какого-то зверя. Рыболов поворачивается, замечает меня:
– Видал? Опять бобер. Бобры – звери осторожные, ночные, а этот каждое утро возле меня крутится. Познакомится хочет, что ли? Рыбу пугает, чертяка.
Его слова вроде бы огорчительны, а тон – удивленно-радостный.
Недалеко прокуковала кукушка – и снова тишина.
Рыболов вдруг встрепенулся, сделал резкую подсечку. Леска со свистом вспорола воду, удилище согнулось дугой. Видно, добрая попалась рыбина: уперлась, не дает стронуть себя с места. Дуром такую не вытянуть. Поразмыслив, рыбина начинает описывать круги, кидается в верхние слои воды, но тут же снова тянет в глубину. Жалобно звенит леска. Борьба накаляется. Наконец, над водой выпрыгнул большущий меднолобый язь. Это был какой-то бешеный язь. Он раз за разом выскакивал из воды и лупил по ней хвостом с такой силой, что легкая долбленка подскакивала на воде и гудела, как колокол. Улучив момент, рыболов поспешно, наверно слишком поспешно, подвел подсачек. Язь возмущенно бросился в сторону, гулко шмякнул золотистым правилом – и был таков.
Рыболов тут же снимается с якоря, подъезжает к берегу, выходит из лодки, минуту остолбенело стоит на одном месте, затем валится в траву вниз головой. Плечи его вздрагивают. Побольше бы таких трагедий на земле! Современная медицина утверждает, что человек должен волноваться, страдать, что человеку противопоказана слишком уже спокойная жизнь. Вероятно, медицина имеет в виду подобные ситуации.
Успокоившись, рыболов, зовут его Василием Петровичем, перво-наперво сообщает, что в жизни такого язя не видел, что весу в рыбине не меньше пяти килограммов, а то, может, и на полпуда потянет. Да, среди рыболовов хорошо известно: срывается почему-то самая большая рыба, та, которую еще никогда не ловил. Один мой знакомый, человек безупречно правдивый, рассказывал, что у него ушла двухметровая щука, уже вытащенная на берег, но сбившая его с ног ударом хвоста. На прощанье щука якобы хрумкнула спиннинговое удилище, перекусив его пополам. Бывает…
В утешение Василию Петровичу вспоминаю не менее трагичные истории из личной практики. В заключение замечаю назидательно:
– Ловить язя не просто. Рыба осторожная и сильная. Тут опыт нужен.
– А у меня опыта – кот наплакал, – улыбается Василий Петрович.
– В вашем-то возрасте? Наверно, уже на пенсии?
– Да, на пенсии. А рыбалкой увлекся года два назад, когда сердце пошаливать стало и врач «прописал» мне это лекарство. Хорошее, скажу тебе, лекарство.
– Уж я то знаю. Можно мне попробовать?
– А почему бы и нет? Бери мою удочку, лодку – глядишь, тебе больше повезет. А с меня на сегодня хватит. Посижу пока на бережку.
Что ж, пришла, пожалуй, пора показать неудачливому аборигену мастерство искусного рыболова с самого тихого Дона. Правда, мои познания в ловле язей носят в основном теоретический характер. Но ведь не одними же страшенными язями населен Хопер! Несколько смущает и долбленка, которая могла бы быть и устойчивее. То ли дело наши донские утюги-плоскодонки, на каких, бывало, рыбачил в детстве.
Стоя, картинно отталкиваюсь шестом от берега. Дальше, еще дальше… Лодка взбрыкивает, как смирная лошадь, почуявшая на своей спине неопытного седока, и я моментально оказываюсь в воде. Вода могла бы быть и потеплее, а течение куда быстрее, чем кажется с берега. В намокшей одежде с трудом настигаю убегающую перевернутую лодку. Жалкой мокрой курицей прибиваюсь к берегу.
Василий Петрович, недавно так расстроенный, беззастенчиво хохочет. Я не вижу в столь грустном эпизоде ничего смешного и обиженно говорю об этом Василию Петровичу, чем вызываю новые взрывы хохота. Под конец он жалуется, что у него, дескать, скулья болят от смеха. А я стою перед ним голенький и, чертыхаясь, выжимаю одежду.
Вдруг Василий Петрович как-то сразу становится серьезным и показывает рукой вниз по течению реки. Там плывет его удочка. Василий Петрович раздраженно замечает, что ему было бы жаль потерять такую хорошую удочку из-за какого-то охламона, называющего себя рыболовом, но не умеющего даже управлять лодкой. Бегу по берегу и плюхаюсь в воду…
И снова извилистая тропинка ведет в как-то обжитую, но неизвестную мне, а значит, таинственную даль.
Сегодня и позже будут одолевать меня смутные воспоминания детства, немного грустные, как все, что ушло невозвратно, оставив лишь полустертый след в дальних уголках памяти. Странно: все будет мне казаться Хопер рекой моего детства. Что-то подобное было со мной в Ленинграде – я всегда остро чувствовал необыкновенный этот город, так, будто всегда он был для меня родным, давно известным, немного только забытым после долгой разлуки. Так и Хопер. Не видел я на родном Дону ни лодок – долбленок, ни меловых гор, к которым река часто прижимается бок о бок, ни темно-зеленых дубрав. Может быть, будет напоминать мне Хопер «старый» Дон чистотой воды (ведь говорили же, бывало, что донская вода чиста, как слеза), первозданной свежестью природы, тишиной, которая теперь у нас, на Дону, так бесцеремонно, безоглядно взрывается многоголосым шумом бесчисленных баз отдыха, ревом транзисторов, моторок.
Кстати, пройдя почти до самого устья Хопра, я видел всего две-три моторки. То ли потому, что берегут здесь тишину, здоровье реки, то ли по какой другой причине, не знаю, но моторок на этой реке, к счастью, мало. С горечью думаю, что эти моторные снаряды давно уже стали исчадием ада не только на Дону, но и на его рукаве – некогда красивой и рыбной реке Аксай. Множество моторок снуют по реке с раннего утра до позднего вечера.
Вот обычная картина летнего выходного дня: не успеет утихнуть оглушительный рев одного алюминиевого чудовища, как из-за поворота нарастает настырный гул другого… И, смотришь, торжествующе и гордо сидит за рулем алюминиевого чуда дюжий молодец, этакий речной волк. И не нужны ему ни сила, ни мужество, чтобы на бешеной скорости вспарывать беззащитное живое тело реки. Над водой стоит голубоватый туман выхлопных газов. Искать в такие дни покоя и тишины на реке – все равно, что в большом городе выйти «подышать воздухом» на забитую автомобилями улицу.
Противоестественно все это: незаметно, исподволь, с неограниченным развитием частного речного флота (а есть ли в этом особая нужда?) возникла такая ситуация, когда одиночки сиюминутного удовольствия ради могут безнаказанно подрывать здоровье реки, загрязнять воду, подмывать берега, портить отдых окружающим, которых, конечно же, куда больше, чем владельцев моторных лодок.
Положение с моторками стало катастрофическим. Вода превратилась в арену азартных гонок. В таком виде и в таком количестве, да еще и на малой реке, моторки стали постоянной угрозой для купающихся, на моторках браконьеры проникают в заводи, в места нереста рыб и легко уходят от преследования.
Таким малым рекам, как Аксай, особенная беда от моторных лодок. Река узкая, мелководная, а лодки носятся на большой скорости, выплескивая воду на берега. Берега обваливаются, ускоряя заиление, умерщвляя реку, постепенно превращая ее в сточную канаву. Потом, как это водится, мы начнем «спасать» реку путем расчистки ее русла с помощью земснарядов и экскаваторов. Но теперь известно, что таким образом лечат последствия, а не причину болезни. После расчистки русла машинами получается канал, а не река. Кроме того, очищенное русло в считанные годы заиливается вновь.
Слов нет, отдых на воде, конечно же, прекрасен, но он превращается в непозволительную роскошь, а в наше время – далее в варварство при езде с мотором. Только явный вредитель поедет на автомобиле по хлебному или картофельному полю. Под колесами машины – мертвый асфальт. А моторная лодка несется по живой, по священной воде, по чудесным садам из водорослей, по стаям впадающих в безумство рыб, которые не могут даже нереститься, когда над ними грохочет это почуявшее волю железо.
Теперь стало модно поругивать научно-технический прогресс, когда говорят об охране окружающей среды. А он, этот прогресс, дав нам множество благ, лишь резко отделил, «проявил» равнодушную, наиболее эгоистичную что ли, часть человечества, живущую днем сегодняшним. Равнодушие и еще раз равнодушие к природе, потребительское отношение к ней, известный консерватизм человеческой психики, мышления, эгоизм – вот, пожалуй, истинные причины загрязнения и обеднения рек, да и не только рек.
На наших глазах происходят разительные изменения в окружающей среде, но куда медленнее меняется психика человека. Зачастую мы еще умом, а не сердцем, понимаем, что охрана всего земного характеризует гражданскую и социальную зрелость человека, что наступило то время, когда в каждом из нас должна воспитаться, проявиться личная потребность сохранить экологическое равновесие в природе. И это время не ждет. Давно ли горделиво писал я в школьном сочинении: «Мы не можем ждать милостей от природы». Стоит ли ждать, когда сын мой с грустной иронией будет добавлять: «После того, что мы с ней сделали».
ГЛАВА V
Психологические эксперименты. Одиночество. Подарок Ахмета. Огневка. Прасковья.
Я не боюсь тараканов, мышей, зайцев, бегемотов, слонов и даже пчел. И – не выношу комаров. Сызмальства у меня весьма натянутые отношения с этой шумной кровожадной братией. Впрочем, кто равнодушен к комарам?
Однажды был в гостях у знакомых. Есть у них бесценное сокровище – двадцатитрехлетняя Мила, имеющая высшее зоотехническое образование. Мила, это восхитительное создание природы в джинсах, опоясанное широким ковбойским ремнем, не страшится, кажется, ни черта, ни дьявола. Она может явиться домой далеко заполночь и запросто утихомирить отца, пытающегося по старой дурной привычке схватиться за ремень.
Душным летним вечером мы сидели в наглухо закрытой комнате и – что нынче в гостях делать! – смотрели телевизор. Не получив в свое время должного воспитания, я веду себя в гостях, как дома. Не подумавши, я брякнул, что было бы неплохо открыть форточку. Конечно, это была бестактность. Лица моих знакомых вытянулись. Мила слегка побледнела.
– Мила не выносит комаров, – сказал папа.
– Она из-за этого в колхоз не поехала, – сказала мама.
– Но ради гостя, – самоотверженно сказал папа, взял стамеску, выковырял из щелей зимнюю замазку и открыл форточку.
Тут же – как будто он ждал этого события давным-давно – в комнате дружелюбно забрунчал комар. Залетел-таки, проклятущий, хотя это был, наверно, распронаединственный комар на весь городской микрорайон.
Мила взвыла, панически отступая перед атакующим противником, забралась на софу и стала исступленно отбиваться от комара ковбойским ремнем. На помощь подоспела мама с полотенцем в руках. Битва шла не на жизнь, а насмерть. Силы оказались слишком неравными, и комар пал жертвой собственной неосторожности.
Если вы провели отпуск на Дону и, млея от восторга, рассказываете о прелестях такого отдыха, вам обязательно зададут вопрос: «А комаров кормили?». Только очень мужественные люди не то чтобы не боятся, а умеют скрывать боязнь перед комариным воинством.
Предполагаю, что патологический страх перед комарами остался с тех недавних времен, когда пойма Дона изобиловала озерами, ериками, протоками и когда мы не были еще столь могущественными, чтобы могли с легкостью необыкновенной уничтожать не только комаров…
Отправляясь на неведомый Хопер, я запасен средством против комаров – «Дэтой». Забегая вперед, должен клятвенно заверить заинтересованных лиц, что но слышал и не видел здесь ни одного комара. То ли это еще одна приятная особенность этой реки, то ли по каким-то причинам местные комары избегали человека с Дона.
Судьбе угодно было избавить меня от «Дэты» в первые же дни странствия. Случилось это так. Двигаясь вдоль берега, я еще издали заметил преогромный пень, на котором, не то что сидеть – лежать можно. В любом деле меня не покидает мысль о перекуре. Она же толкнула меня к этой лесной скамейке, заставила поспешно бросить рюкзак. Рюкзак без промашки угодил в камень как раз именно тем местом, где находился флакон. Разумеется, если бы хотел сделать это нарочно – наверняка бы промахнулся.
Не без удовольствия называя себя всякими нехорошими словами, вытряхиваю из рюкзака весь продовольственный запас и бреду дальше, тревожно размышляя о том, что не скоро будет на моем пути магазин.
Любопытное явление. Пока в рюкзаке покоились кое-какие продукты, желудок часами не напоминал о себе. А тут вдруг сразу же выяснилось, что я зверски голоден. Возвращаюсь к злополучному камню, кладу в карман пару антикомариновых сухарей. Так, на всякий случай. Угроза голодной смерти миновала, и желудок немедленно успокоился.
Позже подобная история повторилась с водой. Так как почти весь путь пролегал вдоль реки, я считал разумным держать флягу пустой. И часто пил воду, по многу раз на день спускаясь к реке, а затем карабкаясь на крутоярый берег. Мне постоянно хотелось пить. Но однажды утром наполнил флягу из хуторского колодца. Легко догадаться, что в этот день пить расхотелось, хотя июльское солнце палило вовсю.
…К полудню на моем пути возник небольшой хуторок. По пустынной хуторской улице важно шествовал по своим делам поджаренный дочерна малыш. Сообразно возрасту был он в чем мать родила – голышом. Из переулка наперерез малышу, забавно перебирая лапами, приседая, бросаясь из стороны в сторону за неуловимой назойливой осой, семенил лохматый шаренок. На углу малыш и шаренок неожиданно столкнулись нос к носу, замерли на мгновение, затем бросились наутек в разные стороны. Малыш с перепугу запутался в моих ногах и горько заревел, но через минуту он выдал точную информацию о местонахождении магазина.
Хуторской магазин встретил меня амбарным замком и художественно выполненным объявлением: «Уехала на базу».
Присаживаюсь на покосившемся порожке, пытаюсь жевать антикомариновый сухарь. Незаметно проваливаюсь куда-то. Тут появляется слесарь нашего домоуправления широко известный дядя Миша, прикручивает шурупами дверную ручку. Но почему-то шурупы ввинчиваются не в дверь, а прямо мне в бок. Открываю глаза. Рядом присоседился щуплый дедок. Видно, надоело ему ждать, пока проснусь, вот и тычет в бок суковатой палкой.
– Соньку дожидаешься, что ли? – спрашивает дедок.
– Продавца.
– Она и есть продавщица. Не дождешься, видать. Сонька второй день на свадьбе у племянницы гуляет, а я по этой причине стал все равно, что нищий. Хожу да высматриваю, у кого курева подстрелить.
Достаю из тесного (пропади он пропадом!) кармана джинсов помятую пачку «Беломора». Закуриваем.
Не отношусь вроде к занудливому племени моралистов, а тут, не отряхнувши еще сон, говорю назидательно:
– Вам, дедушка, пора бы и бросить курить.
– Кто его знает, сынок, когда оно пора. Здоровье, табачищем отнятое, не возвернешь, а лишать себя хучь и малого удовольствия на старости лет не хочется. Какие они теперь удовольствия? Тлеешь, как головешка в потухшем костре, никому не нужный.
– Пенсия-то есть?
– Двадцать один колхозный рубль.
Узнав из дальнейшего разговора, что мне, возможно, грозит голодная смерть, дедок засуетился, завздыхал и повел меня к своей хатенке, перекосившейся во все стороны. Смотрю: подает кусок заклеклого ржаного хлеба и луковицу.
Подаяние шло от души, и отказаться от него было невозможно. Глубоко тронутый, отдаю дедку последнюю пачку папирос, с которой не расстался бы ни при каких других обстоятельствах. Надолго запомнились его глаза: бесцветные тоскливые глаза человека, обреченного на одиночество в глубокой старости.
* * *
То ли появилось в обличье моем за время недолгого странствия по Хопру нечто жалкое, нищенское, то ли выдавал голодный, хищный блеск глаз, то ли народ здесь приветливый, гостеприимный, но мне все чаще стали подавать сердобольные люди, кто что мог. У реки меня не раз угощали ухой. Получалось это само собой. Я подходил к костру, на котором варилась уха, и заводил разговор о прелестях этого изысканного варева. Имея наготове большую деревянную ложку, я всегда получал свою миску ухи, той чудесной ухи, пахнущей дымком и укропом, какая бывает только у реки.
Расставшись с дедком, натыкаюсь у Хопра на разноязыкую полуголую компания, в коей местный люд перемешался с вездесущим кавказским народом, сезонниками. Последних видел и еще немало увижу в прихоперских станицах и хуторах. Сезонников привычно ругают печатно и устно, отчего меньше их не становится, ибо какой же руководитель откажется от услуг подхватистой работящей артели при жестокой нехватке рабочих рук.
Завидев меня, горско-русское сообщество приветственно машет руками. Их энтузиазм подогревает косяк пустых винных бутылок, валяющихся на песке. На газетном листе – вяленая рыба, раки, помидоры, яблоки. Задается ритуальный вопрос: «Ты нас уважаешь?». Уважил старательно: через полчаса пустой газетный лист унесло ветром.
Пока трогательно-нежно прощаюсь со всей честной компанией, некто темно-коричневый, зовут его Ахметом, до отказа заполняет мой рюкзак яблоками, приговаривая: «Будешь кушать и нас вспоминать, долго вспоминать!». Не без помощи новых знакомых с трудом взваливаю рюкзак на спину и через минуту оставляю на влажном песке грязные следы кед сорок четвертого размера.
Щедрая душа у этого Ахмета: сгибаюсь и покрякиваю под тяжестью рюкзака, пот застилает глаза, а ромашковая рубаха – хоть выжимай.
За очередным поворотом (гуляя привольно по широкой пойме, Хопер редко течет прямо, кидаясь то в одну, то в другую сторону) открывается обширный песчаный пляж. Подобных песчаных пляжей на реке уйма. Песок – белый, как сахар, на берегу и в воде. Промытый и словно просеянный, он не содержит и намека на пыль.
Купаясь, организовываю капитальную постирушку. Усталость легкая, приятная.
Вечереет. Снова слушаю тишину. Кажется, немо все вокруг. Но вот в осоке взбурунила воду щука. Шмель прогудел над головой. Ветер запутался в осиновых листьях и трясет их, силясь освободиться. В тальнике репетирует хор кузнечиков. Где-то далеко по ту сторону реки слышны мычание коровы, лай собаки. Эти знакомые с детства звуки только подчеркивают тишину безыскусного уголка природы.
Не одиножды любовался я бесподобными красотами Кавказских гор, величественно-строгой сибирской тайги, морем Байкалом… Но никогда эти красоты не могли заслонить в моей памяти родной стороны, скромных, порой унылых картин Донщины (Прихоперье исстари к донскому края причислено было). Так дитя не забывает своей матери даже после того, как налюбуется красотой других женщин, любовью других: все-таки мать ему мила, дорога и по-своему прекрасна.
Пора добираться на ночлег до близкой уже станицы Аржановской. Вот только рюкзак смущает. В задумчивости выкладываю на песок румяные яблоки. Нащупываю в закоулке рюкзака нечто твердое и извлекаю полупудовый камень. Священную тишину этого райского уголка нарушают крепкие выражения. Пожалуй, я мог бы по достоинству оценить шутку Ахмета, если бы он проделал ее с кем-нибудь другим. Пересолил парень: положи он камень поменьше, я, возможно, не обнаружил бы его так скоро и, чего доброго, притащил бы домой свидетельством лукавства, рассеянности и непомерной жадности.
Конец этого дня подарил скитальцу маленькую, но надолго запомнившуюся радость.
Продираясь сквозь заросли караича, я чуть не рухнул в промоину, довольно глубокую. Осторожно спустился вниз и по дну промоины тихонечко пошел вправо, чтобы в удобном месте выбраться на другую сторону. И вдруг оторопел: на меня выскочила лиса, замерла на мгновение. Лиса, в соответствии со строгими правилами приличия, бытующими в животном мире, была одета, как и полагается, по сезону и не могла похвастать своей роскошной зимней шубой. Но все равно она была великолепна: живая, яркая – недаром их называют огневками. Лиса крутанулась и моментально исчезла: я последовал за ней, питая смутную надежду подержать в руках лисий хвост.
Уже в сумерках передо мной возникает Аржановская, спрятанная в зелени садов. У околицы скрипит колодезный журавль. Пью и не могу напиться холодной – аж зубы ломит – колодезной воды, чистой, вкусной. Такую бы воду – простите за наивность! – в магазинах продавать.
Промеж трех казачек, собравшихся у колодца, происходит короткое совещание: к кому направить этого «дядьку» на ночлег. Решают единодушно – к Прасковье! Представляю себе пышнотелую молодайку, пытающуюся совратить постояльца, застенчиво отнекиваюсь, бормочу, что плохо переношу одиноких женщин и что мне подошла бы многодетная семья, где легко затеряться. Казачки загадочно улыбаются и показывают дорогу все-таки к Прасковье.
Прасковья оказалась высокого роста женщиной в мужских шароварах и мужской же вылинявшей рубахе – ковбойке. Лет ей было, наверно, за шестьдесят, но язык не повернулся бы назвать ее старухой – так она крепка, энергична в движениях, так свежи на суровом лице следы былой красоты.
Судьба Прасковьи схожа с судьбой многих русских женщин, имевших в войну семью. Мужа, чубатого, под стать ей здоровенного Леонтия, призвали в армию в первые дни войны. А летом сорок второго пришла похоронка. Остались на руках Прасковьи двое малолетних детей. Казачкам исстари не привыкать вести хозяйство. Но как досталось – лучше не спрашивать. Днем в поле, а утренней и вечерней зарей, иной раз при луне, полуголодная, по хозяйству управлялась. Главное – за огородом следила, в то время без огорода никак нельзя было. Этот полугектарный огород мог извести даже крепкую, работящую женщину.
Давно сын и дочь, выучившись, разъехались кто куда, свои семьи имеют. Звали мать к себе – та ни в какую.
– Ну, поеду я, допустим, к Маришке, к дочери то есть, – рассуждает Прасковья. – Живет она в городском доме на пятом этаже. И буду сидеть, как зверь в клетке. И, как ни крути, – сама себе не хозяйка. Я так думаю: родниться надо, никого ить на свете ближе нас нету, а жить старым и молодым лучше порознь, пока нас, старых, не дай господь, хворь не одолеет. Мы им свое отдали, пущай теперь долг детям своим возвернут.
В приветливом синеньком флигельке Прасковьи чистота идеальная, что называется, ни пылинки. Я будто у себя на родине: такой чистотой, насколько я знаю, отличаются донские станицы и хутора.
Вечеряем только что сваренными всмятку яйцами, вареной картошкой и помидорами. Молока нет: коров в станице раз, два – и обчелся. И в Михайловской, некогда станице большой и богатой, картина та же. Да, с подачи Никиты Сергеевича лихо ликвидировали мы кормилиц-буренушек, которых еще не так давно держал почти каждый сельский двор, довольствуясь теперь козьими надоями общественного стада.
ГЛАВА VI
Плохие приметы. Злой рок. Кормлю щук. Страх. Чужак.
По небу разливается алая заря, когда иду по станице, пробуждающейся от короткого летом ночного сна. Беззаботно мурлычу песенку без слов и не догадываюсь, какие тяжкие и удивительные испытания готовит судьба на сегодня.
Началось с того, что в это раннее утро мне перешла дорогу женщина с пустыми ведрами. Не к добру! В таких случаях рекомендуется трижды плюнуть через левое плечи, но это не всегда помогает. Потоптался, потоптался на одном месте и пошел вслед за женщиной к колодцу.
– В такую рань воды захотелось? С похмелья, небось? – спрашивает женщина, когда подхожу к колодцу.
Женщина окаменела, увидев, как я, обогнув колодец, повернул назад.
Сделав петлю, вернулся в исходную точку. Кажется, пронесло. Но тут, откуда не возьмись, у самых моих ног – до чего же скверная привычка! – перебегает дорогу большой серый кот. Он, видно, из тех блудливых котов, которые всю ночь пропадают неизвестно где, а поутру возвращаются домой как ни в чем не бывало. Чтобы обойти кота, надо перелезть через горожу и попасть в чужой двор, а это не всегда поощряется.
Стало ясно, что добром этот день не кончится. Так оно и вышло.
Только вышел за станицу, как далеко-далеко тяжело вздохнул гром. Вскоре зачастил мелкий осенний дождь. Облачаюсь в болоньевый плащ. Дождь немедленно перестает. Прячу плащ в рюкзак – дождь начинается сызнова. Игра с дождем в кошки-мышки приобретает затяжной характер. Несу плащ наготове, в руках. Таким образом удается на время перехитрить стихию.
За меловым мысом – тихая и глубокая речная заводь. Пока, остановившись, закуриваю, в заводи бултыхнулась какая-то рыбина. Пора! Пора, наконец, осуществить давно задуманный план. Сегодня будет своя собственная уха.
Быстренько вырезаю в сухом тальнике удилище, приспосабливаю снасть, прячусь за кустом, закидываю удочку под самый обрез осоки. На крючке – кузнечик. Я еще не встречал рыбы, которая была бы равнодушна к кузнечику. С минуту поразмыслив, поплавок стремительно исчезает – под водой! Звенит леска, гнется удилище. Вот они, те прекрасные и каждый раз неповторимые мгновения, ради которых стойко переносишь холод и голод, дождь и снег, ворчание жены и ядовитые насмешки знакомых.
Вскоре на берегу трепыхается небольшой красавец – голавль, Чуть позже к нему присоединяется компания шустрых красноперок и даже столь желанный для ухи окунь. Благословенный Хопер выдал полный набор для приличной ухи на одну персону. Но меня одолевает жадность, в затуманенном азартом мозгу мелькают видения тройной ухи. Лишь резкое прекращение клева мешает мне подорвать рыбные запасы Хопра.
Чищу рыбу, развожу у самой воды костерок, благо сушняк – на каждом шагу. Не успел приспособить котелок над костром, как – хотите верьте, хотите нет – произошло невероятное. При абсолютной тишине возле костра закружился в дьявольском танце вихрь, приподнял из костра жаркие головешки и шмякнул их в воду. Заодно вихрь не поленился прихватить лежащий на рюкзаке плащ и аккуратно положить его на самую середину реки.
Это уже черт знает что! Остервенело ломаю удилище и бросаю его обломки вслед плащу. Исступленный взгляд останавливается на котелке с рыбой. Рыба тоже летит в реку. Ее хватают на лету прожорливые щуки. Котелок оставляю: ярость человеческая всегда имеет границы. Зря говорят, что человек не помнит себя от гнева. Однажды жена вознамерилась было грохнуть в сердцах хрустальную вазу. Она подержала вазу в руках, подумала, поставила вазу на место, взяла надтреснутую чашку и уж ее-то разнесла вдребезги. Теперь жена всегда имеет под рукой такую посуду для битья, которую все равно надо выбрасывать.
В глазах темнеет, но уже не от гнева: из-за леса выкатывается черная, с фиолетовыми разводами туча. Психовать теперь не время. Рассудок обретает трезвость, а ноги – быстроту. Сбрасывая на ходу одежду, резво бегу вдоль берега, бросаюсь в воду и выуживаю плащ. Только-только выполз на берег, как хмурое небо расколола пополам молния, тут же оглушительно грохнуло и по голой спине забарабанил сильнейший ливень. Разумеется, более удобного момента стихия и выбрать не могла.








