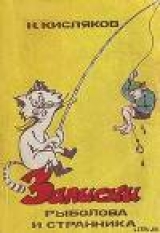
Текст книги "Записки рыболова и странника"
Автор книги: Николай Кисляков
Жанр:
Хобби и ремесла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Ладно, думаю, вот покажу документ – моментально подобреешь. Пока роюсь в рюкзаке, бригадир напряженно молчит, даже семечки лузгать перестал.
Подаю ему журналистский билет, уже один внешний вид которого подтверждает солидность фирмы. Билет этот безотказно выручал меня как раз в тех случаях, когда позарез нужен был ночлег, да не в станице, а в большом городе. При виде журналистского билета смирялись и становились вежливыми многоопытные гостиничные администраторы. Позабыв о броне, они, как правило, любезно предлагали кров. При этом, конечно, следует держаться так, будто ты делаешь администратору одолжение. Было бы грубейшей ошибкой униженно вымаливать хотя бы раскладушку в гостиничном коридоре: тертый администратор тут же догадается, что ты обыкновенный смертный, для которого вполне достаточно известного художественно выполненного объявления.
Но бригадир видал совсем другие, чем гостиничные администраторы, виды, и билет не производит на него желательного впечатления. Он долго вертит его так и этак, особенно тщательно проверяет уплату членских взносов. Документ документом, но, побей меня Бог, если бригадир не сожалеет, что нет поблизости милиционера. Разве соответствует заросший мерзкой бородой оригинал фотокарточке на билете? Шляются тут всякие…
– Трудно и даже невозможно. – Власть чешет затылок. – К себе пустить не могу, у меня гости.
Думаю про себя, что при нужде в бригадирском доме мог бы разместиться взвод солдат, а вслух говорю:
– Я ведь не к вам лично на постой прошусь. Вы – лицо официальное…
– Лицо-то лицо, да старухи у нас дюже напуганные. Надысь одна пустила двоих мужиков переночевать, а они нами шп., передрались и бабку порешить хотели. Знаешь что, добирайся-ка ты до хутора Филинского, там сельсовет колхозное общежитие, а тут где же…
До Филинского семь километров, а уже темнеет. Когда же дотелепкаюсь в Филинский и кого искать там буду в такое позднее время? Это что же получается: во всей станице переночевать негде?
Во мне просыпается профессиональная настырность бывшего газетчика. Говорю сухо и, как мне кажется, веско:
Вот что, товарищ бригадир. Я в реке охолонусь, а вы пока приищите ночлег.
Не успевает тот и рта раскрыть, как я, бросив у его калитки рюкзак, спускаюсь к Хопру, который совсем рядом – за бригадирским подворьем. Бултыхаюсь в воде и злорадно думаю, что именно так нужно разговаривать с черствыми людьми, что теперь-то бригадир зашевелится.
Ага, вот и он, легок на помине, вырисовывался собственной персоной на крутояром берегу.
– Эй, ты, слушай сюда. Собирайся, скоро машина в Филинский побежит. Езжай в Филинский, у нас никто пущать не хочет.
Никуда он не ходил, понятное дело. У меня аж в глазах темнеет от обиды и злости.
– Сам, – говорю, – казак и знаю распрекрасно, что народ этот не медом мазаный, а все же заелись вы, товарищ бригадир. Ладно, поеду в Филинский.
В ожидании машины присаживаемся на лавочке у бригадирова дома, закуриваем. Теперь, когда деликатная проблема ночлега решена, бригадиру захотелось пообстоятельней узнать, кто таков человек, которого сплавляет он в Филинский и у которого вид если не злодейский, то очень подозрительный.
А его собеседник, все более входя в роль заезжего специального корреспондента газеты, с важностью интересуется урожаем зерновых, надоями, заготовкой зерна. Собеседник рассказывает о передовых методах труда, получивших широкое распространение в Ростовской области, но еще упорно отрицаемых некоторыми консерваторами. Бригадир настораживается – ярлык консерватора ему не по душе. Затем собеседник ставит на обсуждение вопрос о доверии к человеку, бродяге, в частности. Он приводит исторический факт: в Федосеевской ночевал однажды Максим Горький, который одно время тоже, увы, бродяжничал.
Бригадир мнется и все пытается выспросить подробности моей биографии. Ему не очень верится, что можно вот так, с бухты-барахты, отправиться невесть, куда и, главное, что совсем непонятно, – невесть зачем.
– Зачем? Но ведь места у вас распрекрасные. Вот и хожу, любуюсь и, считается, отдыхаю.
– Это верно, – оживляется бригадир, – река у нас, что тебе красавица писаная. Да как узнал о ней?
– Земля слухом полнится. А сей маршрут определил мне писатель, земляк ваш Лащилин.
– Так вы знакомы с Борисом Степановичем?
Тут бригадир говорит, переходя на вежливое множественное число:
– Оставайтесь у меня. Чего уж там…
Нет, теперь меня и силком не затащить в его дом. Бормочу:
– Если не уеду в Филинский, то под этим забором переночую, а к вам не пойду.
Не приличествующая бродяге гордость ошеломляет бригадира. Теперь он уже вполне искренне упрашивает, ну просто умоляет остаться у него – и зря, ибо не знает, какой перед ним упрямый и зловредный субъект. Субъект этот на все нижайшие бригадировы просьбы бубнит: «Я обиделся».
Высвечивая нас фарами, подкатывает ожидаемая машина. Бригадир, прощаясь душевно, выражает надежду встретиться как-нибудь еще. Мысленно обещаю ему свидание на этой странице.
Машина резво бежит по проселку к Филинскому, расположенному совсем в стороне от Хопра.
В хуторе машина останавливается возле двухквартирного дома. Из кабины, кроме шофера, выходит женщина.
– Приехали, – говорит.
– Помогите разыскать кого-нибудь из сельсовета, – прошу, выкидываясь из кузова.
Те посмеиваются. Черт побери, такое важное дело, а им хаханьки. Между тем, неразличимая в темноте женщина приказывает:
– Вася, возьми у человека рюкзак.
Вася отнимает у меня рюкзак.
– Пошли, – снова приказывает женщина.
– Куда?
– К нам домой, куда же еще?
– Мне бы кого-нибудь из сельсовета, – продолжаю тянуть свою нудную песню.
– Если уж вам так хочется с местной властью познакомиться – пожалуйста: секретарь Филинского сельсовета Макарова Надежда Николаевна. А лучше – просто Надя. А этой мой муж Вася.
Макаровы – молодая симпатичная пара. Они из тех открытых приветливых людей, с которыми чувствуешь себя естественно и просто. Живут в только что построенном колхозном доме.
Пока Вася устанавливает новый холодильник, Надя накрывает на стол. Пытаюсь вывалить из рюкзака всю ту снедь, какой снабдили меня в Зотовской: вареные яйца, сало, хлеб. При этом отчетливо вижу себя со стороны отвратительным куркулем-дядюшкой, приехавшим облагодетельствовать бедных родственников.
– Петрович, почему вы хотите обидеть нас? – осведомляется Надя.
– И не думайте, пожалуйста, – добавляет Вася, – что у нас все такие, как Ковалев, тот самый федосеевский бригадир. В колхозе никто Ковалева не любит – только для себя живет. Совсем от людей отгородился. А когда-то секретарем парткома колхоза был.
Макаровы растопили лед души моей, захолонувшей в Федосеевской. Благодарю судьбу, иногда сталкивающую нас с людьми никудышними, чтобы мы могли лучше оценить настоящих. Одного не могу простить Макаровым: молодые уложили меня спать (снова учинив насилие) на свою двуспальную кровать, начиненную периной, пуховыми подушками и белокипельными простынями. Подобная роскошь, видимо, строго противопоказана бродягам. Поэтому, едва щека касается подушки, теряю сознание. В таком беспомощном состоянии благополучно пребываю до утра.
ГЛАВА IX
Кривая дорожка. Зри календари. Змеиный угол. Сколачиваю шайку. Сюрприз.
Сегодняшний маршрут безрассудно-отважного странствия – хутор Филинский – станица Слащевская.
Ноют все косточки, изнеженные периной. Не иду, а чикиляю, прихрамывая на обе ноги. Но это не страшно – стоит только разойтись хорошенько и дать понять ногам, что деваться им некуда, как все будет в порядке.
У встречного мотоциклиста спрашиваю, как короче добраться до Хопра, чтобы затем уже идти берегом. Ответ его несколько смущает:
– Там, у берега, такие чащобы, что и за неделю до станицы не дойдешь.
Совета часто спрашивают для того, чтобы поступить как раз наоборот. Как только дорога приближается к лесу, прощаюсь с унылым однообразием иссушенной зноем степи и с удовольствием ныряю в дубняк. Под ногами, особенно на опушках, чего только нет: ежевика, чистотел, пырей, донник, полынь… Смешанные неповторимые запахи трав снова вызывают воспоминания детства.
Вот ты в старенькой, латаной-перелатанной рубашонке, в обтрепанных штанах вместе с другими такими же сорванцами собираешь ежевику. Твои руки и «борода» – в кровянокрасном ежевичном соке. Потом ты переправляешься через Дон на малюсеньком пароме, вмещающем пару подвод, тянешь колючий трос руками, помогая взрослым. Ты приносишь домой ежевику, и мать готовит любимое твое блюдо – вареники с ежевикой и каймаком. Ты мечтал в детстве наесться когда-нибудь каймака «от пуза». Война заставила позабыть эту мечту, в войну и макуха за конфету сходила.
В том пацанячьем возрасте тебя не поражали ни строгая красота Дона, ни краски и запахи окружающей природы – ты сам был ее частью, ее беззаботным сыном. Мог ли ты поверить тогда, что десятилетия спустя где-то возле Хопра тебя цепко притянет к себе обыкновенный куст ежевики с присоседившимся рядом лопухом, удивит, (обрадует, взволнует. Ты ощутишь возвращенную на миг собственную молодость и будешь рад, что девальвация чуда – знамение века – обошла тебя стороной. Ты будешь держать в руках обыкновенный дубовый лист – черешчатый и жесткий – и думать о несравнимой сложности природы. Могуч и, кажется, всесилен разум человека, но все до сих пор придуманные им машины, приборы и устройства смехотворно просты по сравнению со строением и функциями вот этого дубового листа.
Выхожу на старую лесную дорогу, которая, кажется, должна вывести к реке. Дорога петляет меж деревьев и когда становится еще глуше, вспоминаются поиски хутора Салтынского. Да, эти старые лесные дороги имеют скверную привычку приводить в никуда.
Но судьба пока милостива – за очередным поворотом дороги виднеется трактор с прицепом. Возле трактора крутятся несколько мужчин. Они грузят на прицеп дубовые дрова. Конечно, их несколько удивляет появление лесного страшилища. Следуют обычные вопросы и недоверчивое хмыканье. Толстый красномордый казак с огромными ручищами-кувалдами еще раз переспрашивает, что я здесь делаю.
– Дурью маюсь.
– Тогда понятно, от нечего делать, значица.
Как лучше пройти на Слащевскую? Переглядываясь, советуют забирать вправо. Иду вправо, а сам опасливо думаю, что казаки всегда непрочь разыграть пришлого, в такой ситуации, как говорится, и Бог велел. Долго продираюсь сквозь заросли кустарника. Как ненормально начинает вести себя солнце: оно то сзади, то слева, то впереди. Еще час резвого хода – и снова старая лесная дорога. Бросается в глаза свежий окурок значит, кто-то проходил здесь недавно. Кажется, уже видел этот раскидистый дуб, стоящий особняком. Смутное подозрение перерастает в уверенность, когда замечаю издали знакомый трактор с прицепом. Можно поздравить себя с возвращением в исходный пункт. Поспешно пячусь назад, ибо отвечать теперь на вопросы того, красномордого, было бы еще труднее.
Потерявши всякую ориентацию, топаю лесом, лугом, перелеском. Пытаюсь найти торную дорогу, которой шел из Филинского, но она как сквозь землю провалилась. Если бы за мной наблюдал кто-нибудь со стороны и проследил те зигзаги, крендели и бублики, какие выписывал я на местности, он непременно пришел бы к выводу, что перед ним окончательно сбрендивший субъект.
Вываливаясь из очередного перелеска, натыкаюсь на летний коровий лагерь. Дремлет стало, дремлет и пастух под тенью дощатой будки. Это задубевший на всех ветрах молодой длинноногий парень.
Деликатно покашливаю.
– Каким ветром? – спрашивает пастух, открывая глаза. Он охотно показывает самый короткий путь.
– Сколько же отсюда до Слащевской?
– Километров пятнадцать.
В Филинском Макаровы называли такое же расстояние. Хорошенькое дело: за несколько часов почти безостановочного пути не приблизится к станице ни на шаг!
Вливаю в себя полведра вкусной холодной воды, наполняю флягу, пустую со вчерашнего дня. Мне уже не до красот природы – хочется грохнуться здесь, у этой будки, и никогда не вставать больше. Но именно теперь, когда огненно горят растертые ступни (будешь знать, как отправляться в дорогу, надевши синтетические, а не шерстяные носки!), ни лечь, ни сесть никак нельзя – потом нескоро встанешь. Никто не гонит меня в спину, никто не заставляет достичь Слащевской именно сегодня – значит, дойду. Возможно, эта задача была все-таки невыполнимой, но выручила хитрость. Я стал ставить перед собой маленькие цели: дойти вон до того куста, дерева, перелеска.
Цель – величайший стимул в любом деде. Иные волевые люди ставят перед собой цель съесть живьем конкурента, соперника, соседа – и добиваются своего. Так вот, стоило мне поставить перед собой цель, как ноги резво устремились к намеченному объекту в предчувствии заслуженного отдыха. Я шел от цели к цели, с удивлением обнаруживая у себя те потаенные запасы сил и энтузиазма, которые припрятывал неизвестно для чего второй сидящий во мне человек. Это наблюдение позволяет сделать очень важный вывод: путешественник, не ставящий перед собой маленьких целей, обречен на вымирание.
Уже вечерело, когда пахнуло свежестью, и я радостно увидел с бугра змеистую ленту Хопра. На нагорном правом берегу вольготно раскинулась Слащевская. После Усть-Бузулукской это первая на моем пути станица, где есть Дом приезжих и кафе.
Мечты об отдыхе, горячей пище, а, главное, любопытные взгляды молодаек заставляют приосаниться. Выпятив грудь, вышагиваю по улице бодрым шагом, небрежно сплевывая через левое плечо. Пусть никто не догадается, что еще час назад этот бывалый, если судить по изодранным штанам, человек, жалко стеная, еле ковылял в прихоперском лесу, конвоируемый не в меру любопытными воронами. Теперь он очень горд, ибо одержал над собой верную победу.
В кафе тесно жмется к пивной бочке могучая кучка. Буфетчица печального вида, опустив глаза, стеснительно краснея, льет пиво пополам с пеной. Под буфетным стеклом красуются «Стрелецкая», «Перцовая» и даже «Невский аперитив». А вот и меню: щи и пирожки с повидлом. В жизни не пробовал такого меню. Ладно, сойдет, Сейчас все сойдет.
Становлюсь в очередь.
– Оттуда? – сипит разбойного вида низколобый детина с наколкой на руке, извещающей мир, что родную мать он не забудет.
– Оттуда.
– В Сибири был?
– Был.
Детина шепчется с могучей кучкой. Передо мной расступаются.
– Может быть, вам хватит? – робко интересуется стеснительная буфетчица.
– То есть?
– Вы же еле на ногах стоите.
– Действительно, хватит. Ни грамма спиртного. Выбейте две порции щей.
– У нас хлеб кончился.
– Сгодятся и пирожки с повидлом. Потрясенная аппетитом и сговорчивостью клиента, застенчивая буфетчица уже без всякой просьбы наливает стакан перцовки и просит выпить за ее здоровье.
Дом приезжих – большой старый курень с низами – на соседней улице. Существует он подпольно: официально дом этот чьей-то рукой прикрыт, но хозяйка его Марфа Михайловна по-прежнему живет здесь на правах не то квартиранта, не то сторожа.
Марфа Михайловна перво-наперво взяла с меня слово придерживаться строгой конспирации, потом по старой привычке потребовала паспорт. Теперь я мог выбирать любую пустую комнату, но предпочел веранду, где тянул с Хопра свежий ветерок.
Это был первый вечер, когда не искупался на ночь – не хватило сил идти к реке. Умылся колюче-холодной колодезной водой, побанил бедные мои ноги, коим из-за дурной головы лихо, и бухнулся в постель. Марфа Михайловна, сидя на крылечке, хотела было разговорить гостя, я пытался односложно отвечать ей деревянеющим языком, но голос ее становился все глуше и глуше…
Сегодня – воскресенье. Еще с вечера решил, что это будет и мой выходной день. Наверно, поэтому поднялся вместе с солнышком, а оно летом не любит задерживаться. Разумеется, если бы предстояло какое-нибудь дело, если бы нужно было, к примеру, отправляться на службу, – тело и кости прикинулись бы невероятно уставшими после добросовестно выписанных вчера петель между Филинским и Слащевской. Странно устроена натура человеческая: предполагаешь отоспаться во время отпуска, а пришли праздные дни – встаешь спозаранку.
Бодрость духа и тела создают ощущение праздника. Выхожу в одних трусах на крыльцо, радостно поигрывая очугуневшей мускулатурой. Легкий ветерок знобит, ласкает, щекочет. Отсюда, с горы, открывается столь просторный вид на Хопер, на все левобережье, покрытое лесом, что просто дух захватывает.
Очень хочется жить, отбросив мелкую суету, своекорыстные хлопоты, бесплодные заботы, быть добрым, сильным, всегда иметь твердость воли и чистоту помыслов. Да, сегодня у меня праздник, и его надо хорошенько запомнить.
В такое утро было бы грешно упустить превосходную возможность искупаться в реке. Без порядком надоевшего рюкзака хочется бежать резвой рысью, но не следует смущать станичное население. На песчаном пляже тихо, пустынно, привольно. Купание пошло на пользу и даже слишком: едва успеваю растереться полотенцем, как меня чуть не свалил с ног зверский голод.
В кафе та же застенчивая буфетчица, та же пивная бочка и примерно тот же состав клиентов, что и вчера. Похоже, будто торопятся люди закончить важное дело, и никто не уходил отсюда на ночь. Меню кафе стало еще скромнее: даже вчерашних щей нет.
– Холодильник не работает, да и район плохо снабжает, – говорит застенчивая буфетчица, и вид у нее такой, точно доживает она здесь последние дни.
Ничего не остается, как вытащить нож и провертеть в ремне еще одну дырку, третью по счету за время похода. Встав на кухонные весы, обнаруживаю, что незаметно растерял на Хопре шесть килограммов.
Умереть от голода не позволяют торговки, присоседившиеся рядом с кафе и, видно, регулярно выручающие это несчастное заведение. Торговки наперебой предлагают вареные яйца (блюдо, приготовление которого кафе не осилило), рыбу, помидоры, яблоки, груши.
Здесь же знакомлюсь с местным жителем, словоохотливым и общительным, который назвался Александром Зиновьевичем. Жалуюсь на бедность пищевой точки.
– Иногда надо в календари заглядывать, – советует он. – Сегодня – День работников торговли. По этой уважительной причине закрыт продуктовый магазин. И, гляди, на кафе замок навешивают.
Ниже Слащевской идут уже шолоховские «владения» на Хопре. Эта река и эти места не раз упоминаются в «Тихом Доне». Михаил Александрович часто бывал здесь то с ружьем, то с удочкой, часто вел с дедами неторопливые беседы о житье-бытье, о делах давно минувших лет. Не гнушался большой писатель опуститься и до «мелочей» сельского быта.
Александр Зиновьевич рассказал такой случай. Однажды, было это давно, когда Слащевская районным центром числилась, обнаружили на пустовавшей до этого витрине местного сатирического «Крокодила» лист бумаги, на коем изображено районное начальство, форсирующее уличную лужу в забродских сапогах. Доложили раскритикованному начальству: так, мол, и так.
– Снять немедленно это вредное художество, – распорядилось начальство.
– Вы уж лучше сами сымайте, – отвечали докладчики, – потому как на бумаге самоличная подпись Шолохова.
Карикатура исчезла лишь после того, как благоустроили улицу и доложили об этом вешенскому «бате».
Хопер вилючий, но ниже Слащевской он выписывает, даже ему несвойственную, громадную петлю. Когда Александр Зиновьевич узнал, что хочу идти вдоль берега реки, он замахал руками:
– С ума сошел? От нашей станицы до Букановской по прямой километров 25, а по луке и в сто не уберешь. Там нет никакой дороги и жилья. Притом этот угол – ну чисто змеиный. Как-то поехал туда на рыбалку, поставил сетчонку. Стал проверять ее, – а там целый клубок змей вместо рыбы. Бросил сетку – и домой без оглядки. Никто туда не ходит. Ты поимей это ввиду.
Я бодро возразил, что не лыком шит и что до сих пор мы со змеями не трогали друг друга. Однако, вернувшись в подпольную гостиницу, призадумался и впервые написал домой письмо.
Письмо было продиктовано исключительно заботой о ближних, о жене, в частности, ибо мне не хотелось подложить ей свинью, попав в туманный разряд без вести пропавших. Жена много чего не должна знать определенно, но она имеет какое-то право располагать достоверной информацией на тему: есть у нее муж или нет, чтобы не быть в двусмысленном положении. В письме указывалось, где, в случае чего, следует искать мои останки, а также выражалось скромное пожелание относительно памятника отважному исследователю в змеином углу. Я милостиво прощал всех врагов, а сыну завещал рыболовные снасти, гантели и склонность к бродяжничеству. Хотелось окропить письмо горючей слезой, но вместо слез на бумагу падали с носа капли пота.
Позже выяснилось, что письмо это я написал сам себе: оно было получено спустя неделю после того, как вернулся домой.
К вечеру я сидел на станичном пляже и вдаль глядел, поглаживая теперь почти уже настоящую бороду. На душе было покойно, безоблачно и, как всегда в минуту хорошего настроения, когда его не с кем разделить, – немного грустно.
Куда веселее чувствовала себя троица мужиков, расположившихся неподалеку, и непрерывно подогревавшая себя ворохом бутылок, притащенных в авоське. Когда их громкий разговор неизбежно приобрел исповедальный характер, стало ясно, что принесло троицу откуда-то из-под Воронежа и что цель мужиков – облагодетельствовать печными очагами хоперские станицы и хутора. Это были печники-шабаи.
Очевидно, фирма терпела крах ввиду полного застоя печного дела, ибо по мере опустошения «огнетушителей» жалобы и проклятия становились все громче и горше, а воздух тяжелел от махрового мата.
Особенно усердствовал один из них – неказистый вертлявый мужичонка лет тридцати пяти. Вставая, он красовался цыплячьей шеей, впалой грудью, кривыми волосатыми ногами, прикрытыми до колен грязно-серыми трусами. Среди такой развеселой компании всегда найдется один любитель приключений. Мужичонка явно претендовал на эту роль.
И без того малообжитое пространство вокруг троицы мало помалу очистилось: поспешно ушли две женщины с ребятишками, упорхнула девушка с парнем. А я сижу пень-пнем, хотя прекрасно знаю, что издавна моя вроде бы внушительная пятипудовая персона – что липучка для мухи в глазах пьяного, захотевшего покуражиться. Иной раз страдалец долго и терпеливо, как лучшего друга, ищет меня повсюду – на улице, в клубе, в автобусе, – и, бывает, находит.
Однажды двое дюжих парней вели «керосинщика» по одной стороне улицы, а я мирно шел навстречу по другой. Завидев меня, тот стал активно вырываться, норовя потолковать с очкариком. Конечно, мне бы следовало прикинуться слепым и глухим и, втянув голову в плечи, порезвее дать тягу. А я остановился, как вкопанный, любопытствуя, сумеет ли этот шустрый малый вырваться из объятий собутыльников. Те все-таки удержали приятеля, но очень рассердились на меня и сердито кричали на всю улице:
– Ты чего, змей очкастый, ждешь? Очки нацепил, а не видишь, что человек, можно сказать, больной. А ну, как отпустим его, он же окрошку из тебя приготовит.
Я эрудированно отвечал им, что больных, по моему глубокому убеждению, лечить надо и что метод удержания отнюдь не лучший. В таких случаях радикально помогает, например, хороший прямой в челюсть, вызывающий у больного полную потерю агрессивности, раскаяние, переходящее в братское чувство любви к ближнему и выражающееся в рыдании, осторожном битье головой о стену, в стремлении облобызать недавного врага и т. п.
Да, колдыри, коим кураж позарез нужен, тянутся ко мне и иногда исцеляются. Ибо еще школьный учитель внушил очкарику важные мысли: умей постоять за себя, если хочешь сохранить человеческое достоинство. Не завидуй тому, кто, вытерев белоснежным платочком незаслуженный плевок, бежит жаловаться на обидчика в местком или вызывать милицию. Не всегда нужно, да и можно звать милицию. Очкарику эти мысли понравились. Позже, будучи студентом, он стал второй перчаткой города. Правда, на розыгрыше первенства города у него был всего один противник, который все три раунда игрался с ним, как кошка с мышкой; только сердобольный судья на ринге не позволил прикончить мышку. Но это уже малоинтересные детали.
Мужичонка тем временем все чаще прицеливается к очкарику недобрым взглядом, затем что-то бубнит своим коллегам-печникам, встает. Те удерживают его, но этого как раз и не стоило делать: мужичонка вырывается и дует в мою сторону.
– Расселся тут, так твою… – приветствует меня пьянен кий печник.
– Могу и встать, – говорю безразлично и вяло. Поднимаюсь. Главное сейчас – расслабиться. В случае чего, думаю, хорошо и то, что мужики пришлые и меня не будет валтузить все станичное общество.
– Ты от нас никуда не уйдешь.
– К вашим услугам. Этот подонок наклоняется, берет мой кровный «Беломор», цапает карман штанов.
– Хочу у тебя червонец взаймы взять.
– У меня все больше крупными.
– Хочешь сдачи? – Мой клиент выпрямляется, картинно заносит руку для удара.
Как же мне тут обидно и горько стало, братцы, что какой-то плюгавый забулдыга казака голыми руками взять хочет! Эх, почему нет со мной той старой шашки, какой батя рубил головы курам! Но как соблазнительна у мужичонка длинная, покрытая пупырышками, шея! Неожиданно для себя резко рубанул никогда еще не испытанным приемом – ребром ладони – по его цыплячьей шее. Мужичонки, стеклянее глазами, задумчиво склоняет патлатую голову набок и оседает на песок. Хватаю его подмышки и волоку в воду. Окунувшись, мужичонка приходит в себя и слезливо спрашивает: за что? В ответ выдаю ему полный комплект выражений, подчерпнутых из кинофильма «Джентльмены удачи», особо выделяя из них знаменитое «пасть порву».
Кончая аудиенцию, советую:
– Иди, дружок, и скажи своим: я бугор, Федя-бугор из-под Ростова. Слыхал? Ну, пошел вон.
Мужичонка икнул и с готовностью отправился восвояси.
Все это случилось в одну-две минуты; остальные двое печников не то оцепенели, не то осточертел им настырный коллега; во всяком случае, они сохранили нейтралитет, иначе к отметке Орла вполне могло добавиться кое-что другое похуже.
Некоторое время промеж троицы идет тихий совет. Поглядывают в мою сторону. Ответственный момент!
Наконец, мужичонка снова появляется у моих ног.
– Закурим? – он протягивает сигареты.
– Я тебя разве звал?
– Да ты не психуй. Извини, и дай пять.
Что ж, это можно. В молодости бродяга был слабаком в борьбе, со страхом смотрел на штангу, старался подальше держаться от противника на ринге. Но кисть, разработанная с помощью ручного эспандера, перьевой и особенно шариковой авторучки, – его гордость.
Морщась после рукопожатия и расклеивая онемевшие пальцы, мужичонка переходит на шепот:
– Извини, я спьяну не смикитил, кто ты такой. А это же дураку видно. Ты беглый? Так?
О, боже, он еще и глуп!!
– Этими руками, – говорю, – тюремную решетку выламывал.
– Не бойся, мы тебя не продадим.
– Попробуйте. Под землей найду и пасти порву!
– Могила. Только бороду сбрей, выделяешься очень.
– Не учи ученого.
– Верно, тебе видней, – мужичонка льстиво подхихикивает. Может, помощь какая требуется? Ты не думай о нас плохо, мы и на дело пойти можем.
– Это другой разговор. Как стемнеет – приходите к мосту.
Только на мокруху не пойдем.
– Ладно. Кур щупать умеешь?
– А то.
– Ну, дуй. Теперь нас не должны видеть вместе.
Сегодня у меня приемный день. Только успел исчезнуть мужичонка, как слышу с другой стороны:
– Можно вас на минутку, товарищ?
Поворачиваюсь. Передо мной не какой-то там задрипанный, пьяненький мужичонка, а превосходный тип боксерской фигуры в плавках. Парень голенаст, у него широкие плечи, мощная грудь, длинные руки. И на весы ставить нечего – чистый первый средний вес. Такие парни, веселые и общительные в быту, очень опасны на ринге. Не пора ли выкидывать белое полотенце? Поодаль стоит лодка, которой раньше здесь не было.
– Подъехал с рыбалки, гляжу незнакомый человек, а тех троих еще вчера в станице приметил. Вредные людишки. Не пристают ли?
– Уже нет.
Что-то очень уж симпатичен мне этот парень.
– Познакомимся? – спрашиваю.
– С приятностью. Анатолий, – парень протягивает крепкую руку.
– Как рыбалка?
– Посмотрите.
Достаточно беглого взгляда на улов, чтобы оценить мастерство рыболова: в садке отливают серебром и медью язь, паря голавлей, красноперки, ласкири.
– Отличный улов!
– А как он достался?
Анатолий сетует, что скуднеет Хопер, много терпения и рыбацкой удачи нужно, чтобы не вернуться домой пустым. Утешаю его тем, что в Дону рыбы еще меньше и что только редкие виртуозы лески и крючка могут похвалиться приличными уловами.
Тем временем троица, собрав в охапку одежду, поспешно скрывается с глаз.
– Хотите? – Анатолий протягивает в газетном кульке хлеб, помидоры, яблоки.
– Спасибо, не надо.
– Бярите, бярите, – у Анатолия характерный северодонской говор.
Интересно, как добрые люди догадываются, что я голоден? Ведь не стал бы он другому, да еще первому встречному, ни с того, ни с сего предлагать еду.
Пока аппетитно уминаю его харч и рассказываю грустную историю о закрытых торговых точках, Анатолий собирает снасти, одевается и как-то странно на меня посматривает. Да, думаю, нищенство, какими уважительными причинами его не объясняй, всегда выглядит не ахти как убедительно и красиво. В конце концов, мог бы и потерпеть немного: ведь обещала же Марфа Михайловна к моему возвращению борщ сварить. Просто удивительно, как при всей моей гордости и застенчивости поразительно быстро прорезался у меня в походе талант побирушки.
Нищему всегда хочется не только в жилетку поплакать, но и похвалиться чем-нибудь. Рассказываю о знакомстве с Лащилиным.
– А у меня книжка его есть. «На родных просторах» называется.
– Хотел бы иметь такую книжку.
– Я вам ее подарю.
Напросился!
Мы долго сидели на скамеечке возле его дома и говорили о… впрочем, вы хорошо знаете, о чем могут толковать два заядлых рыболова. К этому времени у меня стала пробуждаться совесть: я наотрез отказался от ухи, приготовленной за время нашей беседы. И так Анатолий сделал слишком много добра для первого знакомства. Боюсь, что мой добрый знакомый был другого мнения.
Уже собираясь уходить, стал листать книгу и увидел вдруг пятерку, заложенную между страницами.
– Анатолий, ты забыл в книге деньги. Анатолий смутился, замялся на секунду, потом возразил уверенно, кажется, слишком уверенно:
– Не может быть, никак не может быть, я никогда не кладу деньги в книги.
– Но не с неба же упали эти пять рублей!
– То вы, наверно, нечаянно положили.
Пришлось насильно всучить ему эту треклятую пятерку.
Хотел, очень хотел я тогда, дорогой мой Анатолий, точно знать, случайность это, или… Хотел, да не мог задать тебе прямой неделикатный вопрос.
Закуривая на прощанье, я будто нечаянно вытащил из кармана вместе со спичками горсть дензнаков. Знай, мол, наших, мы не нищие…








